
В третий том вошли известные произведения М. М. Пришвина, характеризующие творчество писателя 20-х годов, – «Охота за счастьем», «Журавлиная родина», «Календарь природы», а также другие рассказы и очерки.
Михаил Михайлович Пришвин
Собрание сочинений в восьми томах
Том 3. Журавлиная родина. Календарь природы
Мой очерк*
В этом году мне исполняется шестьдесят лет от роду; я, Михаил Михайлович Пришвин, родился 23 января 1873 года, а писатель Михаил Пришвин начал писать только в 1905 году, – значит, ему только двадцать восемь лет. И я должен сказать, что весь я, отец, друг и хозяин, стареющий гражданин СССР, смотрю на своего писателя как на очень молодого человека, иногда улыбаюсь ему, иногда краснею за него, иногда, восхищенный, в восторге говорю: «Молодец, Михаил!» И уж, конечно, я, как родитель его и большой друг, не могу разбирать его дело с беспристрастием ученого судьи, но зато кому же, как не мне, его родителю, говорить о нем со стороны биографической? Вот почему, желая дать материал, ценный для исследователя сочинений Михаила Пришвина, я ограничиваю нашу беседу о пришвинском очерке одним только биографическим разбором его сочинений.
Условимся понимать под очерком не литературную форму, и даже оставим это под знаком вопроса, существует ли очерк как литературная форма.
Мы будем понимать под очерком особенное, специфическое отношение автора к своему материалу как в смысле подчинения ему, так и, скажем, оволения. Возьмем сочиненный Пришвиным очерк «Колобок», по общему признанию, настолько насыщенный поэзией Севера, что не всякий и назовет-то его просто очерком. Но вот, помнится, настоящий поэт Александр Блок, прочитав эту книгу, сказал: «Это, конечно, поэзия, но и еще что-то». Так и сказал знаменитый поэт о книге начинающего автора, и уж, конечно, как всегда в таких случаях, начинающий автор записал это в своем сердце на веки вечные как вопрос, подлежащий разрешению во времени. В настоящее время вопрос этот Пришвин разрешил: это что-то не от поэзии есть в каждом очерке, это что-то от ученого, а может быть, и от искателя правды, в том смысле, как Тургенев сказал об очерках Глеба Успенского: «Это не поэзия, но, может быть, больше поэзии». В общем это что-то очерка есть как бы остаток материала, художественно не проработанного вследствие более сложного, чем искусство, отношения автора к материалу. Отсюда, однако, возникает еще вопрос: возможно ли художественно доработать это что-то в очерке, и если да, то можно ли будет назвать это доработанное произведение очерком? Мы, пожалуй, можем сказать, отвечая на этот вопрос, что такие очерки Пришвина, как «Черный Араб», «Кащеева цепь», бесчисленные маленькие рассказы, могут быть названы очерками только за особенное напряжение, как бы усиленно реальное отношение автора к материалу, в правдивости своей до того сильному, что краеведы, этнографы, педагоги, охотники считают его сочинения этнографическими, краеведческими, охотничьими, детскими и так далее.
Теперь, утверждая, что очерковый налет на всех сочинениях Пришвина является, так сказать, от «сопротивления материала», не так-то скоро поддающегося переплавке в художественном горне, мы займемся поисками этого трудного материала в биографии автора.
Из очень точного материала, биографического, поэтически преображенного в «Кащеевой цепи», мы знаем, что детство Пришвина прошло в дворянской усадьбе маленького имения Елецкого уезда, купленного предками автора – купцами. В прекрасном саду этой усадьбы, окруженной малоземельными мужиками, у Пришвина зародилась одна из главных его жизненных тем, его собственная легенда о втором Адаме: бог изгнал Адама из рая и велел ему в поте лица обрабатывать землю; через некоторое время богу наскучило смотреть на изгнанного Адама – и он создал другого и опять впустил его в рай, и опять второй Адам, как и первый, согрешил и был вновь изгнан из рая. Но пока создавался второй Адам, первый Адам размножился, захватил всю хорошую землю, и второй Адам, желающий осуществить заповедь в поте лица добывать себе хлеб, не может себе добыть земли свободной и всюду бродит в поисках ее по огромной стране. Так было в стране с мужиками. А разве сам Пришвин как художник, дающий нам ландшафты севера, юга, востока и запада, сам-то не похож на второго Адама в поисках свободной, не тронутой первым Адамом земли?
Почему же эта тема второго Адама разрабатывается Пришвиным непременно в форме очерка? Обыкновенный очеркист похож на того мужика из толстовского рассказа, которому выпало счастье получить столько земли, сколько он может обежать в день от восхода солнца и до заката. Очеркист, как жадный мужик, обыкновенно столько захватывает материала, что круг его не смыкается. Но еще чаще очеркист, захватив своим обегом свою землю, бросает ее и обегает другую. Мало ли все-таки было писателей, давших нам превосходные очерки, но я затрудняюсь назвать хоть одного, кто бы, как Пришвин, отдал двадцать восемь лет своей писательской жизни единственно на возделывание обегаемой им земли, то есть культуре очерка. Начиная от своего первого очерка «В краю непуганых птиц», кончая очерком своей жизни «Кащеева цепь» и книгой «Журавлиная родина», Пришвин занимался исключительно тем, что старался расплавить в каждом своем очерке какое-то трудное что-то. Если бы возможно было ему подойти к своей задаче, как делают писатели, о которых говорят, что они умнее своего таланта, то весь вопрос свелся бы к маленькой формальной передвижке. Но Пришвин как писатель талантливей своего ума и формальные трудности преодолевает исключительно ритмикой нарастающего чувства, приближающего его к материалу в такой степени, что сам он как бы сливается с ним. Это свойство Пришвина исчезать в своем материале так, что сам материал, материя, земля, делается героем его повествования, было отмечено в самом начале одним удивленным критиком, назвавшим Пришвина бесчеловечным писателем. Этот, конечно, незаурядный критик, очевидно, имеющий в виду эллинский идеал искусства воссоздания человеческой личности, не мог себе представить равноценность воссоздания той самой священной материи, в которой зарождается эта личность. Из этой материи, проработав в литературе четверть века, Пришвин благодаря своей необыкновенной близости к материалу, или, как он сам говорит, родственному вниманию, выявляет нам лицо самой жизни, будь это цветок, собака, дерево, скала или даже лицо целого края. Благодаря своей упорной работе над очерком в смысле чрезвычайного самосближения с материалом он похож на первобытного анимиста, представляющего себе все сущее, как люди. Это не простое очеловечивание, как очеловечивает, например, Лев Толстой лошадь Холстомера, перенося на нее целиком черты человека. Пришвин дает нам природу, поскольку в ней действительно содержится родственный человеку, осмелимся сказать культурный слой. Это отношение художника к материи чуть-чуть глубже идет, чем общепринятый реализм. У нас понимают под реалистом обыкновенно художника, способного видеть одинаково и темные и светлые стороны жизни, но, по правде говоря, что это за реализм! Настоящий реалист, по-моему, это кто сам видит одинаково и темное и светлое, но дело свое ведет в светлую сторону и только пройденный в эту светлую сторону путь считает реальностью.
Можно всех писателей разбить на две группы: одни писатели умнее своего таланта, другие талантливей своего ума. Попробуйте себе так представить Брюсова, Горького и всех – все распадутся на две группы и легко определятся. Но есть еще промежуточная группа писателей, которые стремятся быть умнее своего таланта (Лев Толстой), и еще подгруппа борцов за свой талант, за свою самость, подавленную религиозно-этическими требованиями своего времени. Жизнь Курымушки Алпатова в «Кащеевой цепи» нам представлена именно в этом смысле: медленно, путем следующих одна за другой личных катастроф, нарастающее сознание. Как пример того, насколько биографична «Кащеева цепь», мы можем судить из того, что, например, изображенный марксист Данилыч так и назывался в Риге в подпольном марксистском кружке Данилычем. Это – известный революционер, праотец большевизма, скончавшийся только в прошлом году в Доме отдыха ветеранов революции, Василий Данилович Ульрих. Представление Алпатовым капитала как силы вещей, подлежащей замене связью людей между собой, уверование во всемирную катастрофу Августа Бебеля, годы пропаганды и всякой черной революционной работы, тюрьма, ссылка, поездка в Германию для свидания с Бебелем, Либкнехтом, прозрение в мещанство социал-демократии, ревизионизм, лекции Зиммеля, Риля, теоретические политико-экономические изыскания в семинариях Бюхера и рядом, чтобы не с голыми руками явиться к себе на родину, практическое изучение немецкого сельского хозяйства – все это лично пережитое Пришвин собрал для изображения Алпатова, этого истинного комсомольца XIX века. Рано или поздно этот хаос должен был распасться и появиться из тумана в определенных чертах рабочее лицо человека. В романе Алпатов посредством любовной катастрофы со своих теоретических высот сведен вниз, к грубейшей жизни, где все его лишнее, не свое, мечтательное, нереальное уплывает весной в виде старых льдин, а сам Алпатов, присоединяясь чувством к реву весенней торжествующей жизни, принимается за дело.
Вот это событие в жизни Алпатова, когда он свою невесту-мечту увидел воплощенной в самой жизни и взял эту жизнь как жену, соответствует моменту в жизни Пришвина, когда он понял себя самого как художника.
…Маленькое отступление. Писатель Ремизов в свое время тоже имел революционную прививку и дружил с Каляевым. Ремизов не был легкомысленным дезертиром в искусстве, Каляев продолжал к нему относиться с тем же самым уважением, когда он стал писать свои утонченнейшие, изящные словеса. Однажды, близко к своему концу, Каляев случайно встретился на вокзале с Ремизовым, улыбнулся ему приветливо и так наивно-простодушно спросил на ходу: «Неужели все еще о своих букашках пишешь?»
Вот мы теперь, кажется, вплотную подошли к расшифровке изумительной привязанности Пришвина к очерку и тому что-то, трудно поддающемуся художественной переплавке. Кто был в этической атмосфере комсомольца XIX века или даже хоть раз в химической лаборатории сделал количественный анализ с точностью до четвертого знака, тому в искусстве все будут мерещиться букашки.
Революционеру и ученому хочется в искусстве, подобно как в революции и в науке, тоже подвига, тоже настоящего дела, физической реализуемости своего замысла.
Есть довольно на свете даровитых людей, которым искусство кажется слишком легким выходом из их трудного положения, и они могли бы, но не хотят для себя этой легкости. Так вот и юноше, чаявшему непосредственную близость всемирной катастрофы, невозможно было быть просто беллетристом, он держится очерка потому, что в очерке не как в чистой беллетристике одни букашки, а есть как будто в то же время что-то и от науки и от правды жизни.
Михаил Пришвин
Охота за счастьем*
Есть охотники-промышленники, для которых охота является средством существования, есть браконьеры, есть охотники-спортсмены, есть любители бродить с ружьем в свободное время, так называемые поэты в душе, и множество других типов этого рода общения с природой. Охотники, зараженные этой страстью так, что она держит их до самой смерти, бывают только из особенных людей, ими надо родиться и непременно быть посвященными этому занятию в детстве. Может быть, и бывают какие-нибудь исключения, но едва ли много, я лично таких исключений не знал. Все охотники с биографией, художники, натуралисты, путешественники типа Пржевальского, охоту свою начинали с детства, и если разобрать хорошенько, то занятия этих ученых и художников через посредство охоты были переживанием детства.
Давно с неустанным вниманием вглядываюсь я в материалы, доставляемые собственным опытом, и только мало-помалу появляются у меня некоторые намеки на мысли об этом инстинкте дикаря, продолжающем обитать в душе цивилизованного человека. Одно для меня ясно, что охота неразрывно связана с детством, что старый охотник – это человек, до гроба сохраняющий очарование первых встреч ребенка с природой. Крошкой я помню себя с луком в руке, подстерегающим в кустах часами самых маленьких птиц, подкрапивников. Я их убивал, не жалея, а когда видел кем-нибудь другим раненную птицу или помятого ястребом галчонка, то непременно подбирал и отхаживал. И теперь, часто размышляя об этой двойственности, я иногда думаю, что иные наши высокие чувства тоже питаются кровью.
После лука у меня был самострел, потом рогатка с резинкой, из которой я одной дробинкой почти без промаха бил воробьев. Первое огнестрельное оружие, конечно, я сделал сам из простого оловянного пистолетика. Настоящее ружье взял я в руки, будучи учеником первого класса Елецкой гимназии. Мне достал ружье один из трех моих товарищей, с которыми я пробовал убежать по реке Сосне на лодке в какую-то мне тогда не очень ясную страну Азию. Я думаю, что этот побег определен был в меньшей степени режимом деляновской гимназии, чем особой моей склонностью к путешествиям, и что если бы жизнь моя сложилась более правильно в юности, то я был бы непременно ученым путешественником.
Мы странствовали несколько дней, много стреляли. Изловил нас знаменитый тогда в Ельце истребитель конокрадов – становой пристав Крупкин, вероятно, очень хороший человек. Настигнув нас, становой угостил водкой, сам поохотился с нами, похвалил нашу стрельбу и, между прочим, доказал, что вернуться нам все-таки необходимо: Азии мы до зимы все равно не достигнем. Нас встретили насмешками: «Поехали в Азию, приехали в гимназию». В такой острой форме уже в детстве стал передо мной вопрос об отношении сказки к жизни. Это перешло потом в бунтарство, метавшее меня из одного учебного заведения в другое, из страны в страну. И вот куда, – в природу детства, а не в готические окна надо смотреть исследователям истоков романтизма.
В конце концов я попал в Германию. Из-за всякого рода бунтов я оставался, в сущности, полуобразованным человеком и, болезненно чувствуя это, набросился в Германии на разного рода науки. Но эта жажда посредством науки сделаться хорошим человеком сама по себе отдаляет от правильных занятий и обрекает на вечное искание. Душевная смута не дала мне возможности стать ученым, но все-таки я понял, что школа ученого состоит в осторожном обращении с фактами, и когда я это усвоил, то меня перестала мучить моя необразованность, я стал «человеком с высшим образованием» и даже получил соответствующий диплом с недурными отметками.
Вернувшись в Россию, я встретился с запрещением въезда в столицу и устроился на службу в земстве как агроном. В то время ученому агроному в земстве было очень трудно определиться, и все дело сводилось к устройству кредитных товариществ, к пропаганде травосеяния и торговле в земском складе разного рода сельскохозяйственными орудиями и семенами. На этом деле я мог пробыть всего только год и, однажды случайно встретившись с профессором Прянишниковым, стал готовиться в сельскохозяйственном институте под его руководством к исследовательской работе на опытной станции. В это время я начал писать в разных агрономических журналах и даже составлять книги, из которых «Картофель», как наиболее полное руководство к культуре этого растения, долго считался ценной книгой и лет на двадцать пережил мои занятия агрономией. На опытной станции, куда я определился из лаборатории Прянишникова, я прослужил менее года, тут я окончательно убедился, что прикладная наука меня не удовлетворит никогда.
Во время службы на опытной станции я вынес для себя ценную страсть прислушиваться к народной речи, я дивился ее выразительной силе. В это время в литературных кругах, перемоловших уже первое декадентство, начинало процветать особое эстетическое народничество, искавшее опоры в мистике. Но не старое народничество, не новое славянофильство, не эстетическая мистика и «мистический анархизм» были основанием моих литературных занятий. Я начал заниматься изучением языка просто потому, что невыносимо скучно было заниматься агрономией, – это первое, а второе – потому, что, будучи типичным заумным русским интеллигентом, в конце концов я должен был как-нибудь материализоваться в жизни. В известном возрасте вопрос о материализации своей личности становится ребром, иначе жить невозможно.
Я пропускаю здесь множество интимных фактов своего бедственного метания из стороны в сторону, своего несчастия, потому что пока не смею оголяться и беру пример с умирающих животных, которые, заболев, уходят в недоступные дебри и там прячут от глаза свой скелет. Несчастие – переходный момент, оно кончается или смертью, или роль его – мера жизни в глубину, этап в творчестве счастья.
Средств существования у меня не было, и на руках была уже семья. Покинув службу, я не стал себе приискивать другую. Предполагая заняться переводами или агрономической литературой, я поселился в предместьях Петербурга, за Малой Охтой, в конце Киновийского проспекта, на котором росли березы, окруженные капустниками. Тут я пробовал писать повести, которые мне возвращались редакциями. Я был один из множества русских начинающих литераторов, которые представляют себе, что написать хорошую вещь можно сразу. Но я не был и тем литератором, который не сознает или не стыдится своей бездарности: пишет, пишет и потом выпирает наверх. Самолюбие мое было такое болезненное, что я ни разу не позволил себе лично отнести свою вещь в редакцию. Разбитый в своих надеждах написать сложную психологическую вещь, я выдумал себе опыт описания просто каких-нибудь интересных фактов: через это, я думал, моя страсть к бумагомаранию получит оправдание, и я, научившись этому, пойду и дальше в глубину. Так я выбрал себе медленный, какой-то тележный этнографический путь к литературе, смешной для блестящего таланта. Мне мешало сделаться быстрым литератором вероятней всего впечатление того колоссального скромного, незаметного труда научных работников, благоговейным свидетелем которого я был в лабораториях германского университета.
К моему счастью, в тех же капустниках Киновийского проспекта начинал свою карьеру бывший провинциальный фельдшер, теперь известный этнограф, Н. Е. Ончуков. Посвященный мною в мои детские мечты о какой-то Азии, он стал уверять меня, что Выгозеро, Архангельской губернии, вполне соответствует моей мечте и что мне непременно надо поехать туда. Ончуков познакомил меня с академиком Шахматовым, который кое-чему научил меня, достал мне открытый лист от Академии наук, и с тех пор звание этнографа сопровождает меня через всю жизнь хотя я наукой этой не занимался и не очень даже уверен, что это наука.
Я отправился на Север для записей былин по примеру Ончукова, нисколько еще не думая об охоте. Но в Повенце, в земской управе, меня убедили купить себе берданку, потому что в Петровский пост я себе у крестьян не достану мяса, а дичи так много, что я без труда добуду себе ружьем сколько угодно.
Где теперь это ружье, ставшее источником моего счастья? При первом же выстреле мне вдруг явились те дни настоящего счастья, какое испытал я при побеге в Азию. В глазах у меня осталась вспышка зеленого света лесов при этом первом выстреле в поднявшегося из лесной заросли глухаря. Я убил его и навсегда стал свободным человеком, что-то вдруг понял.
Сейчас я, охотник, выучивший не одну собаку, с глубоким презрением посмотрел бы на охотника с берданкой, заряжающего патроны без мерки, вытуривающего дичь своими ногами и воображающего себя причастным к охоте. Но в архангельских лесах смотреть на меня было некому, а дичи было так много, что даже из дробовой берданки, стреляющей на двадцать шагов, я всегда добывал себе дичь на обед. Я охотился и много работал днем и светлою ночью. Совершенно один я проникал к лесным жителям с сомнительной репутацией и удивляюсь, как все обошлось благополучно. Один раз вступил в состязание с колдуном, кто кого перепьет, и, когда тот свалился, вытащил у него из-за сапога заговор, списал его и повалился рядом с ним на березовой листве, заготовляемой на Севере, как сено, на корм скоту. Из-за кустов на светлых лесных озерах, называемых по-карельски ламбинами, иногда я видел семью лебедей, таких прекрасных, что не решался в них стрелять, и потом переносил это в сказку о лебеди, умолявшей не стрелять ее, и так через себя самого догадывался о таинственном значении сказки.
Теперь я думаю, что каждый художник непременно является наивным реалистом и верит, что мир именно такой и есть, каким он его воспринимает. Но все-таки эти карельские камни, славянские песни о соловьях, которых здесь никто не слыхал, и моя собственная, единственная в своем роде, неповторимая короткая жизнь; ведь только вспышкой моей живой жизни освещались эти финские скалы и славянские былины!
Сколько лежит огромных томов путешествий, в которых девяносто девять страниц посвящается описанию фактов и одна только страница своего личного отношения к фактам; теперь все девяносто девять страниц устарели, и их невозможно читать, а одна своя страница осталась, и через сто лет мы берем ее в хрестоматию.
И сколько книг о путешествиях не имеет теперь никакой цены только потому, что авторы выдавали свою сказку за действительность и тем унижали собой жизнь и себя самих жизнью.
Этот вопрос о действительности и легенде мне был поставлен еще в детском моем путешествии в фантастическую Азию, которая обернулась в гимназию. Заставленный жизнью признать гимназию, в глубине души я берег свою Азию и, наверно, потому и метался из стороны в сторону, чтобы в конце концов доказать реальность своей Азии.
Вторую книгу моих северных странствований, «Колобок», мне до некоторой степени удалось построить на этом узнавании себя в обыкновенных фактах жизни, отчего сами факты становились выпуклыми, но вначале я совсем не владел пером, и только название моей первой книги сохранило в себе мои истинные переживания при этой встрече с природой после стольких лет засмысленной жизни. Я назвал первую книгу: «В краю непуганых птиц».
Вернувшись на Охту, я спросил у знакомых, кто лучше всех писал этнографические очерки. Мне назвали Маркова. Я посмотрел начало и так же начал, а потом пошло совершенно по-своему, и, кажется, чуть ли не в месяц я написал свою книгу листов в двенадцать.
Да, не нужно никогда бояться образца. Если есть что-нибудь свое, то оно победит непременно, а если нет ничего своего, то с хорошего образца все-таки при усердии выйдет хорошая деланная вещь. А между тем этот предрассудок боязни чужого многих новичков очень смущает.
На этой книге я понял причину своих первых неудач в литературе. Они были потому, что я не мог быть самим собой. Теперь я понял себя, что по природе я не литератор, а живописец, ведь я мало смею выдумать, я работаю по натуре, и если дерево стоит направо, а я напишу налево, то рисунок мне обыкновенно не удастся. Но я вижу все живописно и, не приученный к рисованию, пользуюсь словами и фразами, как красками и линиями. Так, будучи по природе живописцем, а еще верней музыкантом, я стал пользоваться для выражения себя силой другого искусства, и это вторая причина, почему я до сих пор иду на тележном ходу. Что же делать-то? при усердии и так хорошо. А может быть, и все художники работают мастерством чужого искусства, пользуясь силой родного? может быть, и само искусство начинается взамен утраченного родства?
Издатель спросил меня:
– Ваше основное занятие живопись?
Вероятно, он основал свой вопрос на множестве моих живых фотографий, но после и другие писали, что книга построена на зрительных впечатлениях. Издателю Девриену очень понравились и мои фотографии, и по-своему, наверно, и описание природы неведомого ему края, такого близкого к Петербургу и не менее таинственного, чем отдаленная Новая Гвинея и Центральная Африка. Швейцарец спросил меня еще:
– А нельзя ли там где-нибудь купить дачу?
– Комаров очень много, – ответил я.
Он опечалился. Мне показалось, что он из-за этого может разочароваться и в книге. Я поспешил успокоить старика будущностью края, когда болота будут осушены и уничтожатся комары.
– Место, – сказал я, – можно купить и теперь, а дачу построить, когда осушат болота.
Он опять обрадовался, а я, осмелев, попросил его прослушать одну главу в моем чтении. Тогда он вышел в другую комнату, привел с собой детей, вероятно, внуков и внучек, усадил их и велел слушать. После того как я прочел главу, старик, показав сам пример, велел детям аплодировать. Книга решительно понравилась издателю, и он тут же в первый разговор дал за нее мне шестьсот рублей и сдал в печать для роскошного издания.
Я устроил свою первую книгу, не имея никаких связей, не зная в Петербурге ни одного литератора, даже корреспондента. Мне дали за книгу медаль в Географическом обществе, и в «Русских ведомостях» я стал постоянным сотрудником. Я схватил свое счастье, как птицу на лету, одним метким выстрелом. Но мало того, что я схватил, мне кажется, я тут же и посолил свое счастье, чтобы оно не испортилось, как это сплошь и рядом бывает у многих удачно начинающих литераторов.
Конечно, я понимал, что не труд по собиранию этнографических фактов определил значение книги, а скрытая в ней игривая затея. Вероятно, ранее в жизни я был подавлен несродной моей природе формой труда и потому получил представление, что оплачиваемая основа его есть то ослиное терпение, с каким я писал книгу о картофеле. А когда издатель за мою просто игру дал мне вдруг шестьсот рублей (помню: все золотыми), я принял это, как величайшее, неслыханное для меня счастье: значит, я могу жить играя, и впредь труд мой будет игрой. Только надо смелей и смелей играть, заметая за собой все следы пота и слез.
Смешно говорить о деньгах, получаемых за литературную придумку, если спекулянт, обращающий придумку в торговое дело, за одну такую придумку, как мое название «В краю непуганых птиц», получает деньги, какие я не могу заработать всю жизнь, но мне казалось, мои деньги особенные, это прекрасные деньги. Выдумав себе чрезвычайно дешевый способ путешествий, я и на малые деньги устроил такие экспедиции и охоты, какие доступны только миллионщикам. Я везде побывал: и на севере, и на юге, и на востоке, и на западе, в горах, в лесах, в океанах, пустынях, добрался и до той Азии, куда хотел убежать в детстве, убил там между Каркаралинском и Балхашем трудного зверя архара и оставил там о себе легенду, как о каком-то Черном Арабе.
Мои писания имели успех прежде всего в высших литературных кругах. Ремизов с Ивановым-Разумником взялись о мне говорить, – первый в своем многочисленном петербургском литературно-художественном обществе, второй написал большую статью. Я перезнакомился со всем литературно-художественным Петербургом, и это очень влияло на повышение гонорара. Кажется, раз, было это в квартире Замятина, кто-то сказал мне, что я плохо хозяйствую, что, например, в «Биржевых ведомостях» мне дали бы по полтиннику за строчку. Я сомневался. Говоривший взял телефон.
– Идите сейчас туда, редактор вас ждет, только непременно скажите, что по полтиннику.
Я отправился немедленно и обещался через полчаса вернуться. С невероятным трудом решился я сказать редактору: «по полтиннику».
– Я хотел вам предложить сорок копеек, – сказал он.
– Нет, – уперся я, – по полтиннику.
Ему пришлось согласиться.
Я до того обрадовался, что влетел в квартиру этажом ниже Замятина и крикнул из коридора:
– Ура! дают по полтиннику!
Сам я этот эпизод совершенно забыл, и рассказал мне о нем недавно Замятин. Вероятно, было много такого. Дела мои шли в гору. В «Шиповнике» стали платить почти тысячу рублей за лист, как вдруг все мое мастерство оказалось ненужным занятием, и мысль сосредоточилась на куске черного хлеба.
Новое испытание моей жизненной силе не было той картиной личной неудачи, несчастия, о котором я отказываюсь говорить вслух. Это испытание было не личное, а общее, и рассказывать о нем нетрудно. Незадолго перед революцией я сделал одну ошибку, которая поставила меня в трудное и довольно глупое положение. Умерла моя мать, и мне досталось после нее по разделе с братьями тридцать десятин земли. На свои литературные сбережения я выдумал выстроить там себе дом, и как раз на том месте, где я маленьким воровал у арендатора яблоки. Это забавное дело я предпринял, уже имея в виду революцию, но мне казалось, что тридцать десятин пустяки: я не помещик. Я ошибался, потому что в глазах крестьян моя земля была частью целого не деленного, в их глазах, имения.
Конечно, я не о затратах своих жалею, а что сам поставил себя в такое положение, когда все показывается с самой дурной стороны. Невыносимо было хозяйствовать в таких условиях, и не хватало находчивости бросить вовремя. Впрочем, из уважения к моей покойной матери долго не решались меня беспокоить. Потом начались обыски и унизительные наши укрывательства хлеба. Однажды было приказано сдать охотничье оружие. Это меня доконало: я связывал с обладанием ружьем все мое счастье. Ружье мое было прекрасное, и я уже был тогда настоящим воспитанным охотником. Я решил ружья своего не отдавать и лучше уж утопить его в пруду, чем видеть в чужих руках. Так и постановили с женой, вечером она стала выполнять это мрачное дело. Не знаю для чего, но мы все-таки завернули ружье в клеенку, обвязали веревками. Потом жена взяла этот гроб, унесла и через час вернулась с пустыми руками. Все было кончено: мое счастье утонуло.
На другой день после этого большого горя пришли в нашу деревню какие-то нездешние люди и стали требовать у крестьян моего удаления. На этом собрании один приятель за меня заступился и сказал так: «Этому человеку, быть может, нам придется ставить памятник подобно Пушкину». – «А вот, – ответили ему, – за то и надо его выгнать, чтобы не пришлось потом ставить памятника».
Мне представили выдворительную.
На прощанье одна деревенская портниха, сочинявшая стихи и прозванная Королевою, прочла мне свои стихи:
Село дитятею хранило
Поэта будущего в свет, –
Теперь же им оно гордится,
Сердечный шлет ему привет.
Вслед за Королевой пришло множество людей. Сдавая имущество, я заметил, как одна служившая у нас хорошая старуха в вишняке тащила с плачем бычью шкуру. Она была глуховата и не замечала, что сухая шкура шумит и ее выдает. Она плакала, потому что ей было жалко нас. Она все-таки шкуру тащила, потому что все равно другие утащат.
Я перебрался в город, странствуя время от времени по большаку в деревню за хлебом. В моем доме устроился волисполком, а в большом родительском был театр, и там всем заведовал Архип, с которым мы в детстве учились в сельской школе, и жена его Дуняша, служившая у нас еще с малых лет. Архип с Дуняшей поселились в спальне моей матери. Тут у них стало как в избе: и хомут, и мешки с семенами, и лопаты. Им было неудобно тут жить. Дуняша вечно ворчала на Архипа и проклинала дом. Меня они по-своему, по-крестьянски, жалели и, когда я приходил за хлебом, угощали меня квасным тестом с ягодами. Каждый раз, посещая родное гнездо, замечал я, что деревья старого парка снизу все оголялись и оголялись, пока, наконец, не стали похожи на пальмы. Раз в холодную ночь я и сам не утерпел и затопил себе печку нижними сучьями родимой яблоньки. В зале, где был театр и танцевали, сор не выметался, и от подсолнухов стало мягко ходить. Балкон стал съезжать вбок, стекла на окнах бились. Старый дом отказался служить раньше, чем кончилось увлечение театром и танцами. Мой новый дом отчего-то сгорел.
Раз, помнится, шел я из деревни поздней осенью с двумя громадными ковригами хлеба, с четвертью молока и мешком картошки. Какой-то счастливец вдали гонял зайца, лай гончей мне был слышен до самого города, и все время мне казалось, что этот страшный охотник гоняет меня, как зайца, из города в деревню и опять в город…
Предел этой жалкой жизни поставлен был нашествием Мамонтова. Полководец опустошил город Елец своими казаками и киргизами, как в старые времена он не раз был опустошаем татарами. Сколько надежд у обывателей связывалось с ожиданием Мамонтова, и как быстро, в первый же час вступления казаков в город, надежды эти рухнули.
В этот день было порядочное избиение казаками евреев. Вместе с евреями погибло столько же русских брюнетов, и я спасся одним веселым чудом, которое создает иногда душа даже труса в последний момент расставания с жизнью.
Нашествие Мамонтова было пределом моего так называемого несчастия. Тут была поставлена последняя точка испытания в глубину, и я опять стал выбираться к свету и воле. Однажды мне доставили из деревни одну вещь, завернутую в клеенку и обвязанную веревкой. Я не позволил себе узнать эту клеенку и веревку. Дрожащей рукой стал я развязывать и так встретился опять с моим прекрасным ружьем. Тогда раскрылась тайна моей жены: ей было не по душе мое решение утопить вещь, без которой она не могла себе и представить мое существование. Она отправилась к одному верному мужичку и упросила его спрятать ружье, а мне сказала, что утопила. В этот час снова загорелась моя детская Азия и созрел план путешествия из разоренного края на родину моей жены, в Смоленскую губернию, в благословенные лесные места. Мне представилось, что если я там буду учить деревенских ребят, то, может быть, это будет так же интересно, как и писательство. Я решил сделаться народным учителем и начал готовиться к сложному путешествию в край, угрожаемый поляками. Известно, какая езда была тогда по железным дорогам. Одно время мы думали продать все, что у нас осталось, купить лошадь с телегой и двигаться, как цыгане. Но скоро план этот рухнул. Мы пристроились к вагону-лавке, погрузились, уверенные, что лавка предохранит нас от заградительных отрядов. В самый последний момент из родной деревни пришла прощаться Королева и поднесла мне полотенце с вышитым на нем стихотворением:
Ты к нам ехал, мы не знали,
Словно месяц в небе плыл,
Прощай, гений наш прекрасный,
Прощай, Пришвин Михаил.
Хотя дела мои пошли на поправку с того момента, как я получил ружье, но далеко еще было до охоты. Во время этого путешествия у меня в бороде показался первый седой пучок. Я придумывал тысячи хитростей, чтобы охранять ружье, но однажды меня застали врасплох.
Мандат не предохранил меня. Хищный начальник отряда соблазнился моим ружьем, взял его и понес, давая этим понять, что он возьмет мое ружье, но за это не будет осматривать другие вещи. Он ошибся в расчете. И взревел. Без шапки, со слипшимися от вагонной жары волосами, я бросился за ним на платформу, стал честить его родительскими словами, собирая толпу. Я мог бы и не так ругаться, я мог бы дать и в шею этому хищнику, и мне ничего бы не было, потому что я был уже за пределом бед, и счастье повернулось в мою сторону. Из толпы вышел небольшой черненький человечек, чистый, в хорошем пальто, и строго, решительно сказал начальнику:
– Возвратите ружье этому товарищу.
Тот опешил.
– А вы кто такой?
– Я маголиф, – сказал черненький.
И стал доставать документ из кармана.
Я понял, что слово маголиф означало представительство от какого-то важного учреждения, передаваемое сокращенно.
Начальник, зная свою неправоту, не стал читать документа и ружье мне возвратил, не сказав ни одного слова.
Маголиф поклонился мне, пожал руку: он был хроникером одной газеты и не раз меня в ней встречал.
– Но как же, – спросил я, – вы стали маголифом, и что, собственно, значит это: ма-го-лиф?
– Ничего не значит. – отвечал молодой человек, – это моя фамилия.
– А документ?
– И в документе ничего не сказано особенного, только что я состою агентом телеграфного агентства РОСТА.
Конечно, у всех были свои приемы самозащиты. Мой прием грубой прямоты и крепкого ругательства был тоже не плох в провинции, но, приближаясь к столице, я стал подумывать, что с этим далеко не уедешь. И, конечно, этот эпизод с маголифом дал мне возможность избрать слово фольклор для безопасного путешествия в Смоленскую губернию. В Москве я выпросил у Луначарского мандат на собирание фольклора и на тюке, в котором были зашиты все запрещенные вещи, написал красным карандашом: фольклор, продукт не нормированный. Слово «фольклор» действовало так же решительно, как «маголиф», и только благодаря ему я довез благополучно и ружье и другие вещи. Еще в Москве мне сослужил великую службу мой старый товарищ и друг по гимназии, с которым в юности мы были в одном подпольном кружке, Н. А. Семашко. Вероятно, он думал, что я пришел к нему устраивать какое-то свое большое дело, и он был очень рад меня видеть и готов был предоставить мне все, что мог; мог он, конечно, многое. Но я попросил его только достать мне пороху, немного пороху…
– Можно?
Чуть подумав, он сказал:
– Можно.
И стал писать куда-то.
– Сколько же пороху? – спросил наркомздрав.
У меня было на языке два фунта, но вдруг стало три, потом четыре.
– Немного, – сказал я, – если фунтов пять?
– Напишем шесть, – ответил Семашко.
Дорого, конечно, не то, что он написал, а что не стал поднимать вопроса о пустяках, которыми я занимаюсь в такое серьезное время: значит, Семашко по старой дружбе меня понимал.
В ГАУ, где мне пришлось доставать порох по записке Семашко, встретился мне на важном посту один знакомый охотник и к шести фунтам черного пороху добавил еще от себя два фунта бездымного. Он же научил меня, как можно достать дроби: дроби нигде нет, надо забраться в какую-нибудь большую музейную усадьбу со старинными висячими лампами и высыпать из них балластную дробь. Я сделал, как мне было указано, и так добыл дроби еще больше, чем пороха. И вот такое-то великое богатство я без всяких осложнений довез до Смоленской губернии под маркой фольклора. Впрочем, и довольно интеллигентные люди на пути, когда я объяснял, что фольклор – продукт не нормированный, спрашивали меня с любопытством, – что это такое, а когда я объяснял, что фольклор означает народные песни и сказки, дивились моей выдумке.
В деревне Следово, Дорогобужского уезда, на родине моей жены, нас встретили недружелюбно. Там, в лесном краю, земля доставалась великим трудом. Крестьяне боялись, что жена моя сначала поселится просто, вотрется, а потом, как местная уроженка, потребует надела на всю семью. А потому квартиры себе найти мы нигде не могли. Но по летнему времени квартира нам была и не очень нужна. Мы поселились в одном лесном сенном сарае, и тут, у ручья, я начал свою охоту и обыкновенные, сродные мне наблюдения.
Какое счастье доставили тут первые застреленные мной птицы! Издали увидали мои ребята, бросились встречать, выхватили уток, тетеревей, понесли к матери. Подумаешь, какое противное занятие щипать птиц, но жена моя щипала сияющая и говорила:
– Ну, не думала, никак не думала, что опять придется щипать.
В ручье был светлый омут, глубокий, и в солнечных лучах там плавали красноперые рыбы. Сынишка мой их выхватывал на личинки. Деревья шумели музыкально верхушками. Даже угрюмый куст можжевельника был доверху обвит повиликой и диким горошком. Да, это величайшее счастье, когда исчезает обман собственности, и на это место становится весь мир, как родной и прекрасный…
Я сделал большой список родни моей жены, разбросанной на огромном пространстве этого уезда и соседнего. И в то время, когда на Смоленскую губернию опрокинулась другая голодная губерния, когда каждый кусок хлеба, каждый глоток молока были на счету, я с пустым карманом, имея этот список, отправлялся в свои путешествия. Затвердив имя какой-нибудь троюродной тетки жены, которую и видела-то она один раз в своей жизни девочкой, являлся я к ней, объявлял родство и не только насыщался, а и прихватывал с собой и приносил в свой сенной сарай вместе с птицами сало и пироги. Через это родство я понял происхождение в русском народе того чарующего искренностью и простотой деревенского разговора и обращения, понял и те гримасы деревенского быта, когда родовая сила встречается с силой закона, понял русский анархизм, все понял во время этих скитаний.
На сене каким-то образом получается, что, как ни будь утомлен, в течение двух часов совершенно высыпаешься, а остальные часы проходят в полусне, когда малейший звук в лесу долетает до слуха и понимается в особенном значении: кажется, что звериную жизнь так же, как народную, читаешь через родство.
Однажды моя собачонка Флейта в такой час спустилась вниз, вышла из сарая и принялась тявкать. Я взял ружье и тоже по сену сполз вниз. Никогда не виданное зрелище открылось мне в эту ночь: вся наша большая поляна, окруженная лесом, сверкала огнями, и огни эти были от светляков. Даже собака была поражена этим редким зрелищем и вздумала на этот невиданный свет тявкать.
Дождь очень забавен в сенной пуне: жарит во всю мочь по драночной крыше, а сено все сухое. А когда начались холодные дожди, мы стали зарываться в сено, и там было очень тепло. И даже когда морозы начались, то, зарываясь в сено все глубже и глубже, мы долго им сопротивлялись. Я слышал от крестьян, что даже в лютый мороз, если совсем глубоко уйти в сено, можно переночевать. Но этого я не испытал. Однажды после холодной ночи я вместо охоты отправился в ОНО и в пять минут получил назначение учителем (шкрабом) в одну школу, расположенную еще верст на десять дальше от города, чем Следово.
Даровитых людей вообще очень мало, и то же самое в учительской среде очень мало опытных старых хороших учителей, но те, кто начинает, первый год, много два, – по моим наблюдениям, почти все талантливы. И пусть у них не хватает опыта, увлечение учителя передается ученикам, и это, кажется, не менее дорого, чем дело опытного учителя. Если бы все учителя могли остаться такими, как они начинали! Я был хаотичен, но талантлив, как начинающий. Ребятам от меня хорошо перепадало, отцы уважали за мужской пол, за возраст, за бороду. Теперь я, убив зайца или тетерева, захожу не к родне, а к родителям какого-нибудь моего ученика. Я захожу будто бы только отдохнуть, а завожу речь о положении учителя, что за целый месяц учебы получаешь восьмушку махорки, две коробки спичек и шесть фунтов овса и что вот я настрелял дичи, сколько мяса несу, а нет сала и хлеба. После этого меня обыкновенно кормили, давали с собой сала и хлеба. Так установился черед, вроде как у пастухов. Иногда в кармане пальто я находил бутылку самогонки и менял ее в следующей деревне на хлеб. Случалось, конечно, и сам выпивал, но больше не с горя, а с радости: дичь есть, сало есть, хлеб есть – почему же не выпить? Не могу тоже забыть счастливого дня, когда один крестьянин, увидав меня осенью в калошах на босу ногу, идущим добывать себе пищу в болото, подарил мне совершенно новые, купленные им для сына, сапоги. Пусть он узнает, что я это помню: имя его Ефим Барановский. Мы с ним потом на его годовом празднике распили не одну бутылочку.
Одно время в течение нескольких месяцев по письму Семашко мне выдавали академический паек. И тоже было раз – на Батишевской опытной станции дознались, что это я написал книжку о картофеле. Станция меня поддерживала до самого конца всей моей робинзонады.
Под конец мне в самом деле стало, как Робинзону, когда он развел на своем острове много коз: все есть, а сам выходит на берег моря и думает, как бы переплыть это море.
За все это время я в совершенстве научился высекать огонь из кремня осколком подпилка. Кусочек трута я клал на угли, раздувал их, приставлял тончайшую лучинку: дунешь с силой, и она вспыхивает; только ночью, когда захочется покурить, часто попадаешь подпилком по пальцам, и оттого они у меня всегда были сильно сбиты. И вот однажды явился некий человек с ситцами, зажигалками, бензином, все это он продавал. Друзья купили мне зажигалку, и я до крайности был обрадован. В это же время я написал небольшой деревенский очерк и отправил его на случай одному знакомому журналисту. Через очень короткое время я получил за очерк великие миллионы и купил на них – страшно сказать – пятнадцать пудов муки!
Тогда я собрал свои пожитки, отправился в Москву и стал опять начинать свое дело, почти такой же неведомый, как двадцать лет тому назад, когда вернулся из поездки в Архангельскую губернию. А. К. Воронений, напечатавший в «Красной нови» мою «Кащееву цепь», сыграл в моей жизни совершенно такую же роль, как старый Девриен, взявший мою первую книгу «В краю непуганых птиц». Так вскоре мне удалось счастье свое снова схватить, а сравнительная с прежним положением бедность меня не страшит. Я стал много смелее. Вот пример: раньше я был почти богатым человеком, но позволял себе иметь только одну собаку и одно ружье. Теперь же у меня при бедности почему-то четыре собаки и три прекрасных ружья.
Все это я рассказал, чтобы рассеять относительно охоты предрассудок, будто это просто забава. Для меня охота была средством возвращаться к себе самому, временами кормиться ею и воспитывать своих детей бодрыми в радостными. В заключение привожу слова Льва Толстого о счастье:
«Человек обязан быть счастлив. Если он несчастлив, то он виноват. И обязан до тех пор хлопотать над собой, пока не устранит этого неудобства или недоразумения. Неудобство главное в том, что если человек несчастлив, то не оберешься неразрешимых вопросов: и зачем я на свете? и зачем весь мир? и т. п. А если счастлив, то покорно благодарю, и вам того желаю».
Журавлиная родина*
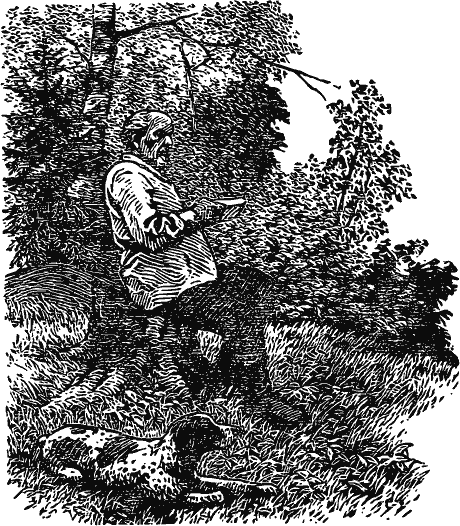
Разные московские организации обратились ко мне с просьбой посотрудничать с ними в деле подготовки юбилея Максима Горького Если бы я знал тогда, что весна в этом году нас обманет, я бы, конечно, поехал в Москву, но в природе приближалось весеннее творчество жизни, и у меня не могло быть выхода; так мне казалось, что юбилей устроят и без меня, а в природе до того все привыкло к моему сотрудничеству за множество лет, что оставить весну без себя было бы мне невозможно. С разными извинениями отказал я организациям, а самому юбиляру написал в Италию, что вместо всякого рода выступлений с торжественными речами напишу и посвящу ему книжечку для детей «Журавлиная родина». Не скрою теперь, что в этом названии, кроме действительной моей любви к журавлям, в отношении к Горькому скрывалась и дружеская улыбка: «лучше синица в руки, чем журавль в небе». Намек на журавлиные посулы тем более был необидным, что Горький по всем моим писаниям мог видеть, насколько лично я сам был глубоким врагом этой мещанской пословицы. Я писал Горькому, что, может быть, в этой книжке не все будет специально для детей, что скорее всего она будет обращена к детству, источнику нашего творчества, и, как древняя сказка, будет объединять старых и малых. Вместо сказочного «в некотором царстве, в некотором государстве при царе Горохе» я предполагаю взять большое болото, журавлиную родину, недоступную для наблюдений обычных людей, неизвестную, и сделаю ее всем близкой. Главным действующим лицом на журавлиной родине будет моя охотничья собака и с ней все животное и растительное население. Простейшие рассказики, из которых уже много написано и опубликовано в детских и общих журналах, я обновлю фенологическим расположением в книге, начиная от самой ранней весны света и воды, времени первого пробуждения творчества в природе.
Написав Горькому, я вышел на прогулку и, вернувшись домой, сделал рассказик «Неизвестные птички», которым должна бы начаться книга о журавлиной родине.
I
Неизвестные птички
Двигался обоз. Передний мужик вдруг остановился. Все поневоле за ним остановились.
– Чего ты?
– А вот поглядите!
Охотно встали мужики ноги поразмять, покурить. И увидели они на рыжей, выбитой ногами лошадей, как рубель, дороге стайку маленьких птиц. Бывают на дороге желтые овсянки, синицы с черными галстуками, красные снегири, пестрые щеглы, сойки с голубыми крыльями, но таких в обыкновенное время у нас не бывает, и какие они, сразу рассмотреть и понять невозможно.
– Это не наши! – сказали мужики.
В это время из леса послышалось – весенний дятел заиграл свое обыкновенное:
– Плыть-плыть-плыть!
Кто-то в обозе сказал:
– Слышите, птичка в лесу поет: «Плыть!»
Докурив, мужики поехали дальше, догадываясь, что скоро будет вода. Потом они, когда вернулись домой, приступили к первой весенней работе – распилке сырых дров. За лето эти дрова высохнут и потом зимой хорошо будут гореть.
Так при самом первом движении весны шевелится у мужика мысль о запасе на зиму.
II
Заговор молчания
Весна задержалась, все в природе ужасно расстроилось, замерзающие грачи с полей бросились во дворы к людям под защиту, линяющие звери, ложась в мокрый снег, примерзали ночью и оставляли на лежках множестве шерсти. Все это на меня сильно действовало и очень расстраивало «Журавлиную родину». Садишься писать о зверях и вместо этого запишешь воспоминание о каком-нибудь учителе своем из далеких времен. Вот вспомнилось, когда, бывало, в гимназическом саду зацветают яблони, а нам приходится готовиться к экзамену, учитель нам говорит: «Человек не должен поддаваться влиянию погоды». Отгуляв лето, осенью мы бывали покойны, а у нашего учителя каждый день болела голова от неприятностей каторжной службы в казенной гимназии. Моросит за окном ноябрьский забойный дождь. Учитель сидит бледный, хмурый, вызывает одного урок отвечать, вдруг вспыхивает, ставит ему единицу с размаху и с яростью, другому ставит, третьему, вижу несправедливость, вижу, до меня дойдет, поднимаюсь и говорю, показывая на окно: «Павел Васильевич, человек не должен поддаваться влиянию погоды».
Ранней весной, ничуть не уменьшаясь с годами, тревога бросает меня из стороны в сторону, и по опыту я узнал, что так и надо бросаться, пока не уходишься. В этот раз меня обманула кажущаяся легкость детской книжки, она привязала в неурочное время к столу, и я больше рисую головки, как школьник, чем занимаюсь работой, а если пишу, то совсем не о том. Журнальные статьи стали впиваться в меня. Сегодня я прочитал в газете замечательную вещь о писателях, страшно рассердился, обиделся и написал себе в тетрадку ответ:
«Во мне самом есть целая деревня с довольно сложным хозяйством, где Я мое как литератора занимает место не последнее в десятке. Мой литературный талант, или гений. в этом семейно-деревенском хозяйстве, однако, не имеет особенных привилегий сравнительно, например, со мной как охотником, отцом, другом. Здесь, при домашних свидетелях, я как писатель просто свой человек со всеми слабостями; удивления моему гению в семье нет никакого: смотрят в моей семье на это все, как на дело, свойственное всякому, кто достоин носить имя мужа. Самоопределение мое в обществе других талантов спокойное. Правда, горизонт мой в сравнении с другими талантами может быть узеньким, влияние на людей сравнительно ничтожным, но пятка моя здорово упирается в землю и макушка стремится ввысь с такой силой, как и у подлинного гения. Я буду улыбаться глупенькому читателю или критику, измеряющим писателей метрами, буду снова драться и безобразничать, если, как в двадцатом году, комиссия знатоков литературы в отношении академического пайка поставит меня во вторую или третью категорию, буду раздавать все, как Максим Горький, если поставят выше категорией, пропивать, как Есенин, а может быть, как Лев Толстой, переведу все на жену. Одним словом, я не признаю со стороны этого суда по «больше и меньше», в действительном творчестве все равны. Бывает, я подумаю про себя: «Чем мои детские и охотничьи рассказы хуже толстовских и чем мой Курымушка хуже его „Детства и отрочества“?» Возможно, когда я возьму в руки книги Толстого, я и оробею, ко не скрою, однако, случалось, мелькало такое в голове. Но если спросят меня: «А можешь ли как Гоголь?» Тогда при этом имени от меня как писателя ничего не остается, тут что-то действительно для меня вне категорий… Из всего этого выходит вовсе не то, что Гоголь выше Толстого, а что по характеру своего дарования я сосед Толстому, привык к нему и сужу его по-соседски, по-родственному. Напротив, Гоголь постигает мир средствами, не доступными мне, и оттого мне кажется, я просто смертный, он – бог. Вначале, пока я не расписался, не утвердился в своем хозяйстве, я никогда не называл себя писателем или поэтом, потому что на них пальцами указывают, и неприятно было определяться претенциозно в этом высоком положении среди множества людей, в разных областях молчаливо тоже принимающих участие в творчестве жизни. Неприятно вообще выдавать векселя. Если же приходилось по необходимости назвать свою профессию, то писал: литератор, а устно отвечал: пишу. Теперь, я слышал, в одной Москве зарегистрировалось пятнадцать тысяч писателей и поэтов, целый корпус, вооруженный перьями. Чтобы у меня был какой-нибудь козырь в бою, главным образом, в московских гостиницах за сносную комнату, я в своем паспорте отметился тоже писателем. Я ошибся, при множестве писателей и поэтов в Москве на меня как на писателя не обратили никакого внимания. Пришлось воевать более простыми и действительными приемами, я добился положения среди служащих гостиницы, но зато зовут меня там не писателем, швейцары и конторщики меня величают академиком. Вот как все изменилось! Мое старое представление о писателе, вероятно, так же далеко от действительности, как народное верование, что книга не человеком пишется, а падает с неба.
Зову я теперь себя писателем в смысле словесных дел техника, но до сих пор не смею и ни разу еще нигде не сказал ни устно, ни письменно, как многие теперь говорят: мое творчество. С этим моим представлением о творце, вероятно, и в гроб лягу, что или это в отношении меня высшее существо, для которого я расчищаю путь, или, наоборот, творит всякое живое существо, достигающее цели в общем деле путем ограничения жизни своей индивидуальности. Таким творцом признаю и курицу, молчаливо сидящую на яйцах, изнемогающую от жажды и голода, хорошо знающую цель своего великого поста. Всякий делающий новую жизнь человек, в том числе и писатель, мало чем отличается: он тоже сидит, достигая цели, с той разницей, что человек имеет гораздо больше разума и может переменять цели, курица должна непременно высидеть цыплят, а человек все может, – и цыплят, и галчат, и утят.
Сущность творческого процесса как изживания своего «Я» в «Мы» до того общепризнанна, что часто даже газетный корреспондент начинает описание словами: «Рано утром, отправляясь на место побоища, Мы сели в автомобиль…» – хотя сел он один. Ловкому беллетристу едва ли встречается затруднение писать от третьего лица. Но я до сих пор с трудом могу перейти от первого лица к третьему, вначале непременно чувствую утрату силы и только мало-помалу сживаюсь со своим «героем». Много раз в начале своей деятельности я советовался с другими начинающими писать, и оказывалось, что так бывает со многими, что-то похожее на девственный стыд. И до сих пор отрывать имена героев своих от себя не могу без утраты, но зато, когда говорю Я, то, конечно, это Я уже сотворенное, это Мы. Мне этого Я никогда не совестно, его пороки не мои личные пороки, его добродетели возможны для всех. Люди, животные, растения, реки – все это я просматриваю как бы до дна, где их индивидуальность исчезает и воскресает личностью не в механическом смешении всех, а в ритмической связи с другими. Раньше я думал, что чувствовать себя, как Мы, во время писания свойственно всем, и потому научиться писать очень нетрудно. Так думают все новички, но скоро постигают всю трудность, даровитые или честные начинают делать опыты с собственной жизнью, одни из них потом становятся настоящими художниками, а то и просто мучениками, легкие люди садятся в готовую форму, как в автомобиль, и едут легко и выгодно беллетристами».
Я записал себе это в тетрадку, прочитав в одной литературной газете статью «Заговор молчания», где автор обвинял писателей как бы в жречестве, они сговорились будто бы молчать о тайнах своего творчества, чтобы сохранить за собой возможность бесконтрольного господства над массами. Что-то до конца, до последнего предела меня задело и обидело в этой статейке. Я вспомнил то жуткое время, когда, не смея войти в редакцию, опускал бандерольки с рукописями в почтовый ящик на Малой Охте и потом с трепетом ждал ответа редакции. Я выбрал себе писательство для того, чтобы не зависеть от начальников в казенной службе и как-нибудь прокормиться. Каждый отрицательный ответ был отрицанием меня самого, моей свободы, моего куска хлеба, это вызвало во мне злобу, и мир разделился: на одной стороне был я со своим естественным правом на существование, на другой – заговорщики против меня, жрецы, негодяи. Как во всякой боли есть свои приятные минуты, когда бывает полегче, так и тут, в этой подпольной душевной боли в такие легкие минуты я сочинял с упоением призрачные домыслы, прикрывавшие от себя самого свое личное убожество. Капельки здоровой крови моей матери не дали мне прыгнуть в Неву, и первая удача сразу же открыла мне глаза на моральное ничтожество моего «демонизма». Случилось, наконец, что редактор детского журнала Родник, старый полковник Альмединген, принял мой рассказик, обласкал, похвалил, и, когда я открыл ему, что рассказ обошел все редакции, что это мне доставило много мученья, он ответил мне: «Нужно завоевать себе имя». Старый полковник сказал это завоевать так значительно, так по-военному просто и решительно, что я вздрогнул от счастья и весело сказал ему: «Слушаюсь, господин полковник, буду воевать». Конечно, это я теперь только могу разобраться, почему же именно слово воевать поразило меня тогда и наполнило счастьем и переменило судьбу. Альмединген был в военной форме, настоящий полковник, и в то же время сидел за рукописями журнала для детей, все это производило на меня впечатление физической военной силы, каким-то чудом переходящей в слова любви для детей. Вроде того, промелькнуло во мне, что можно и так воевать, и всколыхнуло во мне дремлющие силы моего натурального гения против подполья с дряблыми бескровными идеями. Выйдя из редакции, я повторял про себя «воевать, воевать!» – и это решение открыло мне любовь к искусству слова, которая больше меня и моих врагов.
Второй, еще до сих пор не совсем разорванный узел на моем литературном пути завязался, когда имя было завоевано. Мне всегда представлялось, что особенного какого-нибудь таланта во мне вовсе не было, а что он выходит из моего чувства свободы, соединенного с усердием. Выученный за границей, я представлял себе Россию как страну талантливых бездельников, что в этой мечтательной и ленивой стране стоит только лет пять поработать над чем-нибудь, как немцы работают, и непременно достигнешь положения. Все осложнялось только моим исключительным личным чувством свободы. Искусство слова давало мне эту свободу, а вместе с тем создавалась иллюзия, что из моего личного дела выйдет хорошее для всех и очень скоро. Каждое свое произведение я считал ключом свободы для всех, кто только читает меня. Все это, конечно, очень наивно, а между тем я не дурак: бывает физическая юность и бывает непременно литературная, возьмись за перо хоть лет в пятьдесят. Вероятно, эта аберрация скорости словесного действия на самую жизнь происходит от усиленного напряжения в литературном труде. И вот приходит время, когда завоеванное имя висит в воздухе, как плакат, как личная грамота вольноотпущеннику, а жизненные рабы говорят: «Тебе-то хорошо, тебе с твоим именем все дороги открыты, ты – жрец!» Может быть, я ошибаюсь, сосредоточивая свое внимание только на литературном труде. Прошлую осень в деревне, где я жил, улита стала жрать молодые озими. Дело шло катастрофически, а во всей волости нашлось только два опрыскивателя и немного медного купороса. Агроном погрузился в изучение улиты. Мужики ругали советскую власть, богу молились, чего-то ждали. В это время с утра до поздней ночи один крестьянин со своей семьей ползал по своему наделу и собирал улиту руками. Купорос не пришел, рожь пропала у всех, а у одного выросла.
Едва ли только спокойно жить ему одному с хлебом среди голодных людей. И уж, наверно, не одна баба скажет: «Ему-то хорошо, он знает». Между тем дело его в поле было открыто для всех. А книга, разве это не открытое поле для всех?
Так вот почему статейка «Заговор молчания» так задела меня: точно такое же душевное состояние было когда-то и у меня, как у них, но я скрыл это от людей, как позор свой, и теперь это опять узнал, как узнает человек свое лицо в лице давно пережитой, но все-таки родной ему обезьяны.
III
Ванька и Пуська
В «Известиях» напечатали путаный мой фельетон под заглавием «Молоко от козла»; хотя я теперь им и не очень доволен и теперь могу о том же сказать гораздо яснее и проще, но эта работка имела большое значение для меня ранней весной, когда я делаюсь почти болезненно восприимчивым. Она очень повлияла на мою дальнейшую работу, и потому с ней приходится считаться. Вот она с небольшими сокращениями и переменами:
«В этом литературном сезоне я получил несколько приглашений от различных кружков молодежи почитать у них что-нибудь свое и после чтения раскрыть технику производства своих рассказов. Не очень раздумывая о целях такого рода чтений, я по мере возможности удовлетворял эти просьбы, но каждый раз после чтения, несмотря на успех его, мне бывало стыдно. Правда, среди молодежи сидели учителя, специалисты по технике литературного дела, пересмотревшие в подлинниках рукописи Пушкина, Гоголя, Достоевского и всех классиков. Я знал гораздо меньше их и в то же время должен был как-то предпочтительно перед ними учить молодежь.
Одно дело – писать, другое дело – учить. Мне каждый раз было стыдно. Я стал отказываться от выступлений, но тогда начались предложения в том же духе от газет и журналов. Наконец, мне прислали даже что-то вроде анкеты с вопросами о тайнах моего литературного творчества, – так и написано: „Раскройте тайны своего творчества“».
Мне вспомнилась при чтении этой анкеты одна моя весенняя прогулка в окрестностях Сергиева. Я шел по берегу извилистой речки с целью найти какой-нибудь переход на ту сторону шумящего весеннего потока. Невозможно было перейти, я хотел было отказаться от своего намерения, как вдруг заметил, что я иду уже по другой стороне.
Конечно, я был изумлен до крайности, и мне хотелось узнать, где и как я перешел. К счастью, на берегу речки был еще снег, мои следы виднелись отчетливо, и по ним я скоро открыл тайну своего творчества. В одном месте след мой переходил через речку по тончайшей ледяной, припорошенной сверху арке. Между высокими берегами висела эта арка, внизу по острым камням мчался поток. Если бы я провалился, то в лучшем случае сломал бы себе руку или ногу, но скорей бы всего разбился совсем. Обратно, конечно, я не рискнул переходить по ледяной арке и вернулся, сделав огромный круг, с другой стороны. Любопытствующий исследователь, приславший мне анкету, сообщаю первую тайну всякого творчества, раскрываю искренно, положа на сердце руку: страстная жажда жизни заставляет нас забываться[1] так, что мы рискуем, и это является творческой силой.
Второй вопрос анкеты мне кажется таким странным, как будто я попал на другую планету. Читая, не верю глазам, спрашиваю себя: где я живу?
Вот этот вопрос:
«Насколько писатель должен быть грамотен?»
К счастью, в последние месяцы я не был в отлучке и усердно читал газеты. Только благодаря этому я сообразил, что необыкновенный вопрос возник из иронического заглавия статьи Максима Горького о пользе грамотности. Если бы Горький выразил свою иронию с другой стороны и написал бы статью о вреде грамотности, то, вероятно, в анкете стоял бы вопрос: «Какой вред вам принесла грамота?»
Третий вопрос: «Почему и как вы написали последний рассказ, где черпали для него материалы?»
Этот вопрос прекратил мои колебания и решил в пользу раскрытия тайн последнего моего написанного для маленьких детей рассказа. Главное было в том, что рассказ был еще не только не напечатан, а даже не совсем и закончен. В таком положении дела мне всегда о нем хочется говорить, проверять себя чтением вслух: ведь рассказ для детей, как я понимаю, должен быть так искусно написан, чтобы занимал и старых и малых, как и сказка; реальный рассказ для детей, это – не «в некотором царстве, в некотором государстве, при царе Горохе», это – сказка, заключенная в категории пространства и времени. Едва ли не труднее всего написать маленький детский рассказ. И вот почему мне хочется говорить об этом, привлекать к этому искусству других. Словом, мне захотелось самому припомнить все условия, в которых возник этот рассказ.
Начинаю издалека, с моего постоянного увлечения спортом.
Всякий спорт имеет серьезное значение, потому что он является для человека школой любимого дела. Мой спорт – охота, мое любимое дело – словесная живопись, которая сложилась во мне по спорту и стала мне охотой за словом.
После двух десятков лет постоянной охоты за дичью и за словом у меня сложилось понимание, что за словом охотиться можно совершенно так же, как за бекасом и дупелем. Хороший охотник ищет не птицу, а характерную обстановку, в которой птица живет. По тысячам неуловимых признаков он догадывается: «Вот тут!» – пускает собаку, и обыкновенно тут как раз и находится желанная птица. Как дупель – нос длинный, потому что живет на болоте, не будь болота, не было бы и дупеля, – так слово живет в человеческой личности. Нужно привыкнуть слышать такое слово из затаенной глубины человеческой личности, тогда вместе со словом будет вставать при воспоминании и сам человек. После многих таких охот за словом наконец оказывается, что далеко ходить и незачем – в себе самом находится родник неиссякаемый слов, созвучных с другими людьми.
Не в музыке ли тут дело? Я беру все вначале на слух, а потом смысл, догадки навертываются, растут этажами. И в этот раз тоже, как всегда, я воспринял рассказик без всякого смысла, на слух. Но, я вижу, раз дело начало приближаться к науке, необходимо установить даты. Выло это в апреле. Мы с женой пошли посмотреть музей одного частного лица. Заодно с интересом к искусству нам было нужно в одном хозяйственном деле посоветоваться с женой профессора Авдотьей Тарасовной, – женщина пожилая и как-то все знает. Вот пришли мы, я хожу за профессором от предмета к предмету, жена за чаем ведет разговор с Тарасовной о бане и козах. Мало-помалу звук речи Тарасовны захватывает мое внимание, волнует, я думаю: «Она говорит точь-в-точь, как я пишу свои лучшие вещи, ее речь – идеал моего писания». И вместе с тем я вспоминаю, что Тарасовна елецкая и я сам тоже елецкий. Первый раз в жизни с такой очевидностью я узнал свое литературное происхождение от родной земли…
– Извините, – сказал я профессору, – там очень интересно для меня говорят…
И мы сели за чай.
– Милая, – говорила Тарасовна, – заводите себе коз, до чего же они умны! Подумайте только, в голодное время, бывало, понимали: взять у людей нечего, и в лес. Ночью пасутся, а утром являются сытые.
– И не боялись волков? – спросила жена.
– Какие же волки! Да покажись тогда волки, мы бы сами их съели. Заводите, милая, коз.
– Нет, Авдотья Тарасовна, нам нельзя, у нас охотничье хозяйство: семь собак на дворе.
– И-и, да вы, я вижу, вовсе не знаете козью природу: козы с собаками первыми друзьями растут.
Тарасовна принялась рассказывать о своем козле Ваньке.
– Почему Ванькой назвали? – спросил я.
– Иван-Царевич.
– А Иван-Царевич за что?
– За ум и молоко, – ответила Тарасовна.
Жена засмеялась и напомнила поговорку: «От него, как от козла молока».
– Плохая пословица, – сказала Тарасовна, – у нас все хорошие козы в городе от Ваньки, как услышите: «Молочная моя коза!» – спросите: «А от кого она?» – и все скажут: «От Ваньки». Во всем городе Ванька самый молочный козел. Весь город пил его молоко.
После того Тарасовна принялась рассказывать о дружбе Ваньки с Пуськой, ее дворовой собакой.
Было это в одно воскресенье. Верхние жильцы Тарасовны ходили обедать к знакомым. Пуська тоже непременно с ними ходил. Пообедает и на улицу, а когда жильцы пообедают и домой идут, находит их и возвращается вместе. В этот раз тоже вышли жильцы. За ними Пуська. Стали переходить линию, оглянулись, а за Пуськой и Ванька идет. Вот жильцы и принялись ругаться на него: «Пошел ты домой, такой, сякой, немазаный». Козел уперся и стоит, хоть бы что! Стали в него кидаться. А он взял и пошел себе, не домой, а вдоль линии. Подумали жильцы – побродит и вернется. И пошли с Пуськой обедать. А Тарасовна вскоре хватилась Ваньки, туда, сюда, – нет козла! И пошла искать его вдоль линии. Булочник видел, сказал: «Ванька пошел на вокзал». Тарасовна по линии на вокзал. Там козла видел газетчик: «Ванька пошел в кооператив железнодорожников Копжель». А это был обычный путь Тарасовны с козлом: по линии на вокзал за газетой, в Копжель за провизией, в исполком за пенсией своему профессору. В Копжеле теперь сказали: «Был и на площадь пошел». На площади знакомые мужики: «Стоит возле памятника Ленину», а у памятника: «Пошел в исполком». Так до вечера Тарасовна бегала, не нашла и в большом горе, усталая вернулась домой. Только вернулась, видит, жильцы идут и с ними Пуська. Конечно, Тарасовна им о своем горе рассказывать, а они ей, что Ванька за ними увязался обедать, что они в него швыряться…
– Да зачем же вам было швыряться! – вскричала Тарасовна. – Что же вам лень было взять его за бороду и проводить домой?
Так слово за слово и начались неприятности. А пока жильцы и хозяйка препирались, Пуська все обнюхал на дворе, в сарае, спустился в подвал – нигде нет козла, и незаметно под спор на улицу, и по линии на вокзал, и в Копжель, и в исполком…
– Хотите жить у меня, – закричала в гневе Тарасовна, – закрывайте за собой калитку, а нет…
И только собралась крикнуть: «Вон убирайтесь!» – видит: со стороны линии по улице Пуська бежит, а за Пуськой Ванька, и вот бегут, вот как спешат!
Обидное слово не успело вырваться у Тарасовны, Пуська привел козла и всех помирил.
Не знаю, как вам, а мне этот рассказ очень правится, мне кажется, это будет один из лучших моих детских рассказов, его наивная простота не хуже грациозного: «Нет козы с орехами, нет козы с калеными». Конечно, я еще подработаю, например, надо вставить сцену на площади возле памятника: козел прыгал, а мужики смотрели на это и говорили: «Женить бы тебя, подлеца!»
Теперь вернусь к поучению. Тарасовна (кстати, прозвище ее, известное всему городу: Козья Матка), эта Козья Матка с ее елецкою речью, с ее народным складом ума, дала этот рассказ, этот рассказ – ее молоко. Но не будь меня, рассказ не увидел бы света: одно дело – рассказать, и совсем другое дело – написать. Рассказ не даром мне дался, я уже говорил, что постоянно ношу в голове своей мысль: «реальный рассказ, это – сказка, заключенная в пространство и время». Как козел свою кличку Ивана-Царевича, так и я свою награду получу «за ум и молоко».
Но, скажите, как же этому уму научиться? Можно увлечь людей на непременно рискованный путь творчества законченной формой, но научить этому, раскрывая технику своего производства, невозможно. Спрашивать писателя о тайнах его творчества, мне кажется, все равно что требовать от козла молока. Дело козла – полюбить козу, дело козы – давать молоко. Так и о творчестве надо спрашивать жизнь, нужно самому жить и не спрашивать художника, влюбленного в жизнь: «Каким способом мне тоже влюбиться?»
IV
Лишние мысли
До войны тираж моих книг был небольшой, три тысячи расходилось в два года. Большего я и не желал особенно, рассуждая таким образом: «если у N десять читателей, а у меня только один, то мой один стоит его десяти». И вот у меня в «Известиях» миллион читателей, притом в один только день! Письма дружеские, письма смущенные, письма ругательные. Голова у меня закружилась, и то покажется, будто я людям глаза открыл на творчество, то написал глупость и опозорил себя. Несомненно было одно, – что творчество интересовало не одних литераторов, что жизнь, вся круглая жизнь во всех видах ее проявления жаждала творческого своего преображения и просветления. Больше всего меня смущали письма, в которых читатели упрекали меня за слово «забываться». «В наше-то время, – писали мне, – когда лозунгом дня для просвещения темных масс стало слово сознательность, вы предлагаете забываться».
И опять я отстраняю от себя «Журавлиную родину» и выясняю у себя в тетрадке, что же именно хотел я сказать, предлагая молодым писателям влюбляться и забываться. Нет, не зря я это сказал. Каждый день это я наблюдаю за собой при тренировочной стрельбе из винтовки.
Всякий любитель спорта знает, что лишние мысли, или все, что приходит в голову, не имеющее рабочей ценности при достижении намеченной цели, бывает только в самом начале, потом все лишнее исчезает и остается только самое необходимое. При стрельбе из винтовки вначале моя голова бывает всегда переполнена этими лишними мыслями, потому что я, большой наблюдатель, постоянно занят разбором своих впечатлений и раскладыванием в особые ящички. Но как только мишень установлена, винтовка в руке, левый локоть прижат к сердцу, ложе у правого плеча и глаз ищет мушку в прицельном щитке, весь мой ум, перемещается с головы в глаз: ум этот в глазу я узнаю по привычной его тяжести, а голову и весь организм, работающий в это время для глаза, я совершенно не чувствую. Потом, когда мушка установлена, дело глаза кончается, и ум организма мало-помалу перемещается в указательный палец на спуске. В этот решительный момент, чтобы устранить качание тела от ударов сердца, стрелок задерживает даже дыхание. Указательный палец нажимает не сразу, иначе дрогнет винтовка и выстрел будет неверный. Нащупывая сильнее и сильнее сталь спуска, он как бы подкрадывается к мгновению и, наконец, поняв его совершенную близость, делает свой роковой прыжок… Хорошему стрелку с отлично пристрелянной винтовкой нечего дожидаться, пока ему покажут попадание знаками, в момент выстрела он уже знал, что все им исполнено верно, и пуля пробила сердце мишени. Все утомленные сотрудники указательного пальца возвращаются, радуясь, на свои места, и в голове начинает опять все кипеть.
Однажды при таком очень хорошо сделанном выстреле я так обрадовался, что позволил пострелять всем окружавшим меня деревенским ребятам. Трудно представить себе что-нибудь другое, чем бы мог я им доставить такое великое удовольствие. Тогда мне пришла догадка о причине увлекательности стрельбы: она дает возможность каждому проявить свой натуральный гений, да притом еще со внешним эффектом грома и молнии. Еще я думал в связи с психологией выстрела о гениальности Ленина, что вот винтовка делана не мной, патроны тоже делал народ, и дальше все, положение ног, локоть у сердца, затаивание дыхания, измерение глазом расстояния, – всему этому я научился от других, все это не я сам, и лишь самый последний момент спуска указательным пальцем курка – весь я сам, реализованный в одно мгновение со всем своим длинным прошлым; так Ленин был последним моментом в долгом и сложном прицеле всего народа на царское правительство, и за то признается гением.
С популярностью выстрела, как всем доступного средства проявить свой натуральный гений, можно сравнить только жажду всех получать свое фотографическое изображение. В каждом деревенском доме теперь можно встретить семейный музей портретов людей в натянутых уродливых позах. Это желание фотографироваться, конечно, объясняется естественным стремлением всех как-нибудь проявить свою индивидуальность. Но фотографическое изображение себя зависит не от коренных своих способностей, не от всего себя самого, а только от денег, необходимых для оплаты труда фотографа. И потому у простых людей, не владеющих искусством позы, все кончается изображением не того, что есть лучшего в личности, а худших претензий несовершенной индивидуальности. Напротив, дельный и счастливый выстрел реализует в стрелке непременно его натурального гения. Я вглядывался в лица тех ребят, кто удачно попал, никто из них не бросался к мишени, не кричал: «Вот я, так я». Напротив, каждый удачливый делался скромнее, чем был, – вероятно, потому, что ему надо было сохранить в обществе достигнутое им положение хорошего стрелка и согласно с этим законным желанием личность его сама собой принимала непринужденно-красивую форму.
На человека, достигающего словесного выражения себя самого в законченной форме, весь мир смотрит, тут нет предела возможности, против стрелкового общества круг жаждущих узнать своего гения бесконечно расширен, но психология словесного действия остается совершенно такой же, как у стрелка, и тут при достижении цели законченной формы прежде всего надо убрать из головы все лишние мысли, найти весь ум свой в нажиме указательного пальца на перо, чтобы законченная форма реализовала личность автора во всем длительном ее происхождении.
Смотрите на стенде стрелков, как все ясно у них и просто сравнительно с тем, что делается в редакции какого-нибудь влиятельного органа печати, когда редактор отказывает сотням претендентов, чтобы удовлетворить одного. Случается, оскорбленный отказом, непризнанный гений, как разгневанная страшная человекообразная обезьяна, бросается бить редактора, бывает, достает револьвер и стреляет в себя. У одних первая неудача ломает всю личность, у других возбуждает самому себе неведомые силы к новой борьбе за лучшую форму словесного действия.
Как милы бывают в деревне лица удачных стрелков, хочется иногда расцеловать юношу, который пригнулся к земле, делая вид, что он разыскивает пустой патрон, выброшенный магазинкой, на память о своем удачном выстреле. У нас в словесном искусстве удачливый иногда бывает хорош только в первый момент, а потом на этом пустом патроне своего единственного верного выстрела строит фальшивую жизнь литератора. Только редкий понимает, что при первой удаче требуется сильная воля, чтобы успешно хозяйствовать возле себя в новом положении.
Я выступил в литературе в таком возрасте, когда миновала острая нужда в позе, и расчета на какое-нибудь положение в обществе у меня не было. Но другое, гораздо сильнейшее, чем самолюбие, гораздо более глубокое, органическое препятствие встречает автор, почему-либо несколько запоздавший явиться на литературный стенд. Так у девушек бывает, пройдет срок живого бездумья, отвердевший разум ясно доказывает всю невыгоду отдачи себя слепому закону размножения – в болезнях рождать детей. Удаче поздно выступающего автора мешают как будто переполняющие голову теории, на самом деле происходит совершенно то же самое, что с перестарелой девицей, он засмыслился и слушает шепот отвердевшего разума: занятие искусством слова по всей правде рискованно, страшно, невыгодно, а просто заниматься, как ремеслом, за одни деньги, неинтересно.
Несмотря на свое запоздание, я не был по своим кровным возможностям человеком загражденным к словесному действию. Но часто эпоха берет человека и делает его как бы засмысленным. Я начал в эпоху лишних людей, чеховских героев. Отсутствие бытия, в котором бездумно, как цветок, распускается личность художника, готово было и меня обречь на бессильное раздумье о моральном согласовании с жизнью своего действия. Но, к большому моему счастью, оказалось, что я удался серым теоретиком и прошел мимо этих знамений времени. Смутную догму свою принял я за ясный метод и чужими мыслями доказывал возможность достигнуть мира разумной действительности путем совлечения иллюзий посредством мировой катастрофы. Но это был не я сам, это была тоже эпоха, создавшая таких людей в противовес чеховским моралистам. Я был революционером, и жена моя, мне казалось, должна быть революционеркой, я был химиком, и жена моя, мне казалось, должна быть химиком. На балерине я не мог бы жениться. Искусство было мне балериной. Бывали, конечно, моменты, когда потихоньку от товарищей я уходил в музей, но это было мне почти как грех. В своем кружке мы постоянно говорили, что бытие определяет сознание, но жили обратно: наше сознание идеальной и разумной действительности поглощало все наше бытие. После разгрома кружка, когда каждый в отдельности должен был ответить на свое бытие, одни покончили с собой, другие затихли в Сибири, третьи вошли в быт как лишние люди, четвертые сумели самую революцию объявить лишней мыслью своего индивидуального действия.
Я вышел из положения тем, что не революцию, а себя признал лишним и ушел не в быт с чеховскими героями, а в то бытие, где зарождается поэзия, где нет существенной разницы между человеком и зверем. Меня увели туда дремавшие во мне древние склонности следопыта-охотника. Оттуда я скоро не мог сигнализировать человеку и брать право суда над ним. Я находил там, в природе, иногда ясные ответы на свои смутные загадки, об этих находках писал, как о чудесных для самого себя открытиях, и был замечен как бесчеловечный писатель, и еще проще, как описатель или, как стали теперь говорить, очеркист.
В таком скромном положении меня всегда оставляли в стороне от большой дороги, и так я на свободе терпеливым муравьем из далекого бытия подползал к царству сознания вместе со всеми своими зверями, собаками, букашками и таракашками. Только после большой революции и особенных переживаний я потерял немного стыдливость и тоже, как настоящий писатель, попробовал написать роман «Кащеева цепь» и перешепнуться в нем с друзьями о человеке.
Психология писателя такая, что нет возможности удовлетворить себя сделанным, все, что назади, уже не свое и кажется таким несовершенным. Стремление к полному удовлетворению себя законченной формой, в сущности, есть стремление как бы к блаженной кончине своей, потому что пока сам не кончился и продолжаешься в жизни, то как же можешь удовлетвориться вчерашним: все ждешь впереди чего-то лучшего.
На этом пути я, однако, замечаю в себе в одном постоянство, – это все большее и большее приближение к простоте языка, и чувствую, это не просто. Мне кажется, главным побуждением к простоте языка у меня является страх перед пустотой и обманчивостью литературного дела. Купишь корову и поставишь на двор, – это действительность, но книга, которую написал я и получил за нее деньги на корову, почему-то всегда представляет для меня вопрос в своей действительности, несмотря ни на какие похвалы в газетах. Отсюда и стремление упростить фразу, сжать слова, чтобы они стали сухими, но взрывались, как порох. У наших романистов, начиная с автора «Онегина», было в повадке, сочиняя роман, посмеяться вообще над романом, как над иллюзией. Пусть у них это был лишь прием, чтобы лучше обмануть читателя выдумкой своего собственного романа. Но я знаю наверно, – этот прием, как всякий настоящий прием художественного творчества, у них был бессознательным, и они сами по всей правде верили в изображаемый мир. Я догадываюсь еще о многом, что скрывается в простоте, о которой у нас в обществе сверху донизу говорят как о чем-то хорошем. У некоторых наших величайших писателей это стремление к простоте в искусстве слова кончалось разрывом с искусством, они объявляли искусство слова художественной болтовней или искушением черта. Есть случаи даже обожествления своего собственного образа, как часто простой народ обожествляет образ божий, икону. Сильно подозреваю, что Христос в поэме Блока «Двенадцать», – грациозный, легкий, разукрашенный розами, есть обожествленный сам Блок, иллюзорный вождь пролетариев.
Ритм стиха и прозы в моем понимании присутствует во всяком отличном труде, и это он делает увлекающие нас вещи. Есть и у нас в словесном искусстве такие творцы форм, до того они сохраняют в них лично себя, что созданная ими форма становится как бы физической силой, управляющей жизненным порядком вплоть до расстановки вещей: таким я Пушкина считаю.
Другая литература, в легкой ветви своей – «для отдыха и развлечения», в трудной – учительская, это именно иллюзорная литература. То и другое мне понятно изнутри в их происхождении. Там и тут для творчества необходимо самоограничение, но разное. Есть самоограничение творческое, в котором создатель новой формы выбирает из себя и утверждает такое, что годится для многих, если не теперь, то в будущем. Чувство утраты при этом счастья поправляется радованием в творчестве.
Мне кажется, если бы любая физическая сила, пусть хотя бы теплота, так же, как жизненная сила, имела своих личных носителей вроде людей, то эти тепловые люди, при переходе теплоты в свет, теряли бы свое тепловое счастье, но, делаясь светом, сохраняли бы всю силу своего первоначального огня. Другой вид аскетизма истребляет в индивидуальности всю ее самость с полом и эросом, от личности остается дух бесплотный, мертвящий творчество жизни в самых ее зародышах.
Усложненность коренится в недостаточном жизненном хозяйстве, как все равно расточительность, пьянство происходят от слабости. Интересно бывает, но эфемерно, – тут все понятно. Загадочна не усложненность, а простота, скрывающая в себе силу словесного действия. Есть в творчестве страшная форма самоотречения, утверждающая собственное ничто в форме догмата, выдаваемого как метод самого поведения людей. Раз, давно, играя с ребятами, один взрослый прикрыл меня, маленького, подушкой и чуть-чуть совсем не задушил. Я напуган этой подушкой на всю жизнь и, с одной стороны, очень боюсь всяких учителей, с другой – опасаюсь постоянно, как бы не задушить кого-нибудь из малых сих своей собственной подушкой. Лично я стремлюсь к простоте языка, главное, чтобы себе самому освободиться от лишних мыслей. И это так трудно, что где тут учить, лишь самому бы только прожить. Но одно радует меня, что во всех своих «без – человечных» писаниях о собаках и всяких зверях я вижу человеческий путь к творческой свободе и что на этом пути мало-помалу оседают во мне убеждения.
Так я с твердостью могу сказать, что писать можно обо всем не потому, что на свете все неважно, был бы лишь мастер слова, и он из всякого пустяка сделает вещь. Нет, все на свете так важно, что о всем надо писать. Еще я знаю, что у каждого мастера есть своя суженая и что без этой родственной связи с предметом описания не бывает художника. А еще я знаю, что для творчества надо выходить из себя и там, вне себя, забывать свои «лишние мысли» до того, что потом если и напишется о себе, то это будет уже Я сотворенное и, значит, как Мы.
Мысль о себе сегодня скрутила мне голову, я ушел в лес, чтобы долго идти и додуматься до чего-то совсем особенного, но, как и в стрельбе, при большой ходьбе голова только в первый час много думает, мало-помалу тело мое стало нагреваться, голова заняла равное рабочее положение во всем организме и думала не о «Я», а о лесе. Вернувшись домой, я записал себе в тетрадку:
Сколько прекрасных слов говорят о лесах, что там ягоды, грибы, и птицы поют, и благодатная тень ложится внизу для отдыха в жаркие дни. Кто задумается над тем, как живется самим деревьям в лесу? Только на вырубках, где от прежнего леса остается всего несколько деревьев, изуродованных столетней борьбою за свет, всякий понимает, какую трудную жизнь проводит отдельное дерево в лесу, как оно, выключенное из общей связи, само по себе некрасиво. Мне в такие минуты раздумья на вырубках всегда бывает неловко и хочется бросить причуду лесного шатания, бывать только в садах и парках, где каждому отдельному дереву дается полное счастье обладания светом.
Так вот, когда некоторые восхищаются вообще-человеком на земле, как преобразующим фактором, его государствами, наукой, искусством, техникой, то мне кажется, они так же далеки от жизни самого человека в борьбе за свет, как дачники в лесу под благодатной сенью от жизни каждого отдельного дерева.
Но как ни поверхностно обыкновенное восхищение дачников лесами, как ни пусто и ни жестоко удовлетворение себя прогрессом вообще-человека, так же бесплодно и безысходно бывает, когда на место разума диктатором становится сердце с исключительным вниманием к жизни отдельных существ: страдающее сердце за отдельными деревьями не видит леса, в котором все-таки вырастают мачты для кораблей.
Нет, ни в разуме, ни в сердце человек не найдет удовлетворения своей великой потребности согласования враждующих частей, пока не станет сам на свое место творческой единицы. Тогда в борьбе за счастье и обладание светом для себя и для всех он даже неизбежную в будущем смерть свою отбрасывает, как лишнюю мысль, и живет как бессмертный.
V
Муки творчества
Рано утром между первым и вторым стаканами чая, за папироской, в тетрадке, где записывается какой-нибудь необыкновенный сон и догадка ночная о словах, сказанных мне кем-то лет десять или больше тому назад, и подсчитываются гонорары, и что, например, чай вышел весь и не зыбыть бы сегодня купить, что у такой-то собаки началась пустовка, а ручной тетерев Терентий протоковал на чердаке, вероятно, перед непогодой, о сыновьях, о разных событиях в обществе, – наконец-то я записал серьезное событие моей жизни, что вторая книга моего романа «Кащеева цепь» окончена и сдана в печать. Я описал в этой книге любовь Алпатова, с намеком, что эта первая любовь подвела его к природе как родине талантов, откуда он и получит потом силу для творчества. Привычка подбирать словечко к словечку в миниатюрных рассказах долго не давала мне возможности написать роман, где требуется большой размах. Но многолетняя дума о романе, накопленное чувство разбили наконец плотину, и хотя с большим трудом, но все-таки я написал. Мне стало после романа так же, как было в первые дни на воле после долгой тюрьмы: столько ждал свободы, а когда она явилась, не знал, терялся, как в ней себя поместить. По правде говоря, эпопея моя была не закончена, потому что лет пять тому назад в тетрадках было записано, что третья книга «Кащеевой цепи» должна быть о творчестве Алпатова, и он сделан у меня инженером-торфмейстером именно для того, чтобы в будущем расчистить где-то проток в заболоченном краю, спустить какое-то озеро-болото и открыть населению забытую, известную только по легендам Золотую луговину. Сюжет, конечно, вырос из собственной жизни, но, записанный, он стал бессознательно для меня определять мои поступки; несомненно, это он и привел меня к поездке на торфяные разработки, которые описывал я в «Рабочей газете», и он же определил в последние годы летом пребывание мое в заболоченном краю по Дубне возле озера Заболотье. Я догадываюсь о влиянии сюжета о творчестве Алпатова на мою жизнь потому, что кое-что и в сюжете и в жизни моей сошлось с поразительной точностью. И вот насколько же может надоесть писание длинного романа, что я сам себя захотел обмануть, будто второй книгой о любви эпопея заканчивалась, хотя самое понятие «любовь» в романе было раскрыто как очаг творчества. Один из моих друзей, прочитав книгу в рукописи, прислал мне о ней очень лестное письмо («не по дружбе, а как историк литературы говорю») и убеждал меня написать непременно книгу о творчестве Алпатова. И еще один литературный критик, прочитавший мой фельетон в «Известиях» «Молоко от козла», убеждал написать книгу о творчестве с не очень убедительным для меня аргументом, что книга такая будет «нарасхват».
Так удивительно сошлось все, что с разных сторон потребовалось мое слово о творчестве, и немного мне удалось погулять с милой моей затеей «Журавлиной родины», с рассказами для всех возрастов, начиная с пятилетних детей. Вот уже просится эта «Журавлиная родина» в роман о творчестве. Правда, журавли родятся в грязных болотах, а когда летят в теплые края, их везде с восторгом встречают. Так наша грязная родина, старая Россия, сколько планов творческого труда в образцах искусства дала она всему миру! Многие смеются и говорят, что лучше синица в руки, чем журавль в небе. Но какой же это мир без планов, с синицами в руках? И потом, разве я, взявшись за роман, не могу создать такую форму, чтобы в него вошла и книга с детскими рассказами? В «Дон Кихоте» сколько вставлено не имеющих отношения к действию романа маленьких новелл. Все это можно замесить и потом выправить линию. Гораздо труднее изобразить не по шаблону жизнь Алпатова в природе. Шаблон, всем известный по Толстому, Лермонтову, Гончарову, Чехову: городской герой, Левин, Печорин, встречается с прекрасной дикаркой, вступает с ней в связь, и не то важно, что герой бросает дикарку и возвращается в город, а что этот маленький поступок как-то внутренне оправдывается. Смысл всех этих повестей – неизбежность разрыва сознания и бытия, причем сознание представляется или хаотическим персонажем, или пошлым, офицерским, ресторанным, а бытию посылается вздох в образе доброго Максима Максимовича или красивого душой дяди Ерошки. Мне удивительно, что даже Лев Толстой отдался шаблону и в этом не пошел дальше всех. А что, если эти враждующие между собой бытие и сознание соединить в творчестве Алпатова, добиться, чтобы Ерошка целиком вошел в творческую личность Алпатова-инженера, и показать, что само сознание питается бытием и в творческом ритме сливается с ним!
В отношении встречи Алпатова с дикаркой или крестьянкой вопрос решается очень легко после двух книг о детстве героя и его первой любви, а вот о создании Золотой луговины нужно очень и очень подумать. Даже на самых первых шагах встречается трудный вопрос, как писать реальный, психологический, почти исторический роман о воссоздании Золотой луговины, если в ту эпоху, перед первой революцией, когда Алпатов должен приступить к своему болотному творчеству, все золотые луговины занимали помещики, да и вообще все было так устроено, что на золотых луговинах крестьянам гораздо хуже жилось, чем в болотах. Мой разум дальше отказывается разрабатывать сюжет, да, вероятно, тут и мало одного разума. Но я не боюсь броситься в поиски куда-нибудь в сферу тревожной совести или в бездну утробной жизни.
Враг всякого творчества, конечно, претензия, и еще больший враг, ослабляющий волю, страх перед претензией, шаблоном и пошлостью. Перебираю все свое написанное раньше, чтобы на него опереться, и все рассыпается в прах. К счастью, вспоминаю свой детский рассказик «Еж», отпечатанный в множестве тысяч Государственным издательством. В этом рассказе описано, как я приучал ежа. Возможно, что я, такой, каким меня видят, и не в состоянии приучить ежа, но посредством какой-то внутренней своей силы родственного внимания к такому удивительному чудаку природы я заразил других любовью, и теперь, наверно, множество детей приучают ежей. Значит, если бы я и ничего другого не сделал, кроме «Ежа», то все-таки у меня довольно основания поведать всем, каким образом совершилось такое великое чудо воплощения моей незримой мечты в общее дело. Мысль эта меня охватывает. Я начинаю «Журавлиную родину», повесть о творчестве Алпатова, которая, быть может, потом будет звеном целой книги о творчестве.
Ты спрашиваешь, сын мой, что такое творчество или делание. По-моему, в основе его лежит борьба и, скажу больше, – победа, а потом самоограничение. По твоим суетливым вопросам и беганью за материалами догадываюсь, что у тебя далеко еще до победы. Остановись, ни на севере, ни на юге нет тебе места, если сам поражен. Человеку побежденному вся природа есть поле, где была проиграна битва. Но если даже одни дикие болота были свидетелями победы, то и они процветут, и та весна останется тебе навсегда весна, слава победе.
Моя победа совершилась в болотах, но я не знал о ней, и как я мог знать о ней: я ужасно боролся с самим собой, и когда нашел себя победителем, то как я мог это увидеть?
Вокруг не было рати побитой, но прилетели журавли к нам на свою родину из далеких стран, и все стало прекрасным, а через десятки лет упорного труда и отказа от свойственных всем обыкновенных жизненных радостей нахожу так мало слов, чтобы выразить всю прелесть болотного пения птиц.
Одних журавлей только могу я сейчас назвать, потому что их трубные звуки весной и осенью всем известны, остальные птицы с необычайно длинными клювами и прекрасными ночными глазами известны только охотникам. Трудно даже сказать, о чем они пели, если думать о каждой породе отдельно; по правде говоря, это пела вода, сбегая к разливу, и птицы ей вторили. Я слушал общее пение, любовался разливом и думал: «По разливам необычайно широким сложилась душа народа, тоже широкая, и я тоже такой». Через минуту мысль моя переменилась: «Необычайно широкие разливы стали нашим несчастьем, вода скоро убегает, и реки, мелея, среди лета становятся несудоходными. Надо углубить фарватер и умерить разливы».
Вдруг я услышал звук, похожий на гульканье взлетающего вальдшнепа, и двинулся туда. Но как только я двинулся, звук исчез. Вернулся назад, – он опять. Я догадался стоять неподвижно, ждать, и это у меня вышло: звук стал непрерывным, и я понял, что это под снегом так поет самый малюсенький ручеек. В эту минуту запас моей жизни, скрытый где-то под моим льдом, вырвался потоком из какой-то пробоины и побежал согласно с водой и пением птиц. Был в этом движении ритм, и через это глаз все понимал: и отчего кулик качается, и трясогузка оглядывается, и утка нырнула. Все слышимое и видимое было согласовано в ритме. Мне оставалось только с этим ритмом согласовать свое будущее, и так ясно было, что можно это, что все теперь зависит только от себя, и на всяком месте и во всяком положении не будет мне больше одиночества, от которого я больше всего и страдал.
А то раз еще среди чахлых деревьев в торфяном болоте я увидел сильную березу, удивился ей и сел отдохнуть на сухом. Подо мной у березы была мягкая зеленая моховая подушка с ярко блестящей травой брусничника. Ноги я спустил в прохладную яму, вырытую, может быть, животным, может быть, человеком. Потом я увидел, что края этой ямы были покрыты сладкими злаками и крупной спелой земляникой. Тут я понял, что и земляника эта, и сама береза, и сладкие злаки выросли на болоте потому, что в эту яму из торфа стекала вода, и тем кислое болото осушалось. Через эту болотную воду вспомнил я в себе самом вечную боль, и когда заглянул в то место, где она у меня постоянно была, то не нашел ее, там все изменилось. И у меня там, как на бровках ямы, куда я спустил ноги, земляникой росли мои мысли и образы. Я понял тогда, что моя боль была, как в болоте, где растения при недостатке воздуха не перегнивают совсем, а ложатся слоями. Деревья на моем внутреннем болоте так слабо росли, потому что вся сила моего сердца оставалась нетронутой и отлагалась слой за слоем, как торф.
Мне стало радостно, я вышел из себя и с удивлением окинул торфяное болото: в нем торф поспел, и сохраненной в нем солнечной энергии было довольно, чтобы сто лет двигать жизнью большого города.
Так точно случилось со мной: боль моя перестала, – мой торф поспел, и я стал обладателем энергии солнечного происхождения.
Сын мой, оставь свое болото, загляни в себя, может быть, у тебя торф поспел.
В этом лирическом вступлении настолько сильно предвосхищается содержание романа, что дальше писать не хочется. Торф очень пригодится где-нибудь в середине, но начало должно быть такое, чтобы с него писать, как на салазках катиться с ледяной горы. Попробую сделать начало вытекающим из второй книги «Кащеевой цепи»: Там в конце («Живая ночь») Алпатов попал на Журавлиную родину, и ему оттуда не скоро выбраться. Но пусть он в самом начале третьей книги побывает в имении у матери и в разговоре с ней, требующем всего какой-нибудь страницы вместо большого романа, откроет нам, что он где-то на своей Журавлиной родине прочно сошелся с девушкой Пашей.
Одна мысль, вычитанная Марией Ивановной Алпатовой у Герцена, задела ее за живое и некоторое время путала даже ее в хозяйственных хлопотах, это была ее лишняя мысль: за что ни возьмется, всюду приходят в голову яркие слова Герцена: «Мезальянс есть посеянное несчастье». Применяя эти слова к положению своего сына Михаила, она не могла для него найти выхода к счастью. Единственным просветом было, что это у него временное увлечение молодости, что впоследствии он одумается, эту бросит, а жену выберет себе настоящую, образованную. Тайный голос, однако, и тут нашептывал, что такие, как Михаил, все однолюбы, – это раз, и другое, что Михаил вообще с расчетом, выбором не может жениться. Был выход облегчить сыну тяжесть посеянного несчастья: предложить ему приехать с женой, потом взять ее в руки, принять в семью, подучить, отшлифовать. Но этот обычный, много раз испытанный способ в хороших среднедворянских семьях не годился Марии Ивановне, потому что она сама была из купцов, училась на медные деньги и в глубине своей каждую деревенскую женщину считала хамкой гораздо больше и решительней, чем люди белой кости, дворяне. В конце концов она решила про себя выжидать, всякий разговор с сыном об этом отклонять, как будто это была у него где-то вне поля ее зрения обыкновенная, легкая мужская связь.
По первому же разговору с матерью за утренним чаем Михаил понял, что его попытка со своим семейным устройством войти в соглашение с матерью не больше как остаток наследственных предрассудков о счастье и последний глупейший этап его переживания. После того он с увлечением стал рассказывать о Московском Полесье, что там есть целый большой заболоченный край на Дубне, по народным легендам бывший когда-то для всех драгоценной Золотой луговиной. Совершенно удивительно, как чудо, случилось, что, слушая эти сказки и разглядывая свои топографические съемки, вдруг он догадался о причине заболачивания края. Стоит теперь только немного поработать, вся болотная вода зашумит в Волгу и край по-прежнему, как в сказке, будет Золотой луговиной.
Мария Ивановна с такой радостью слушала рассказ об этом очень понятном ей увлечении сына, что совсем забыла и о посеянном несчастье Герцена, и что уж следовало бы ей к обедне идти. Вдруг ударили к «достойной», Мария Ивановна перекрестилась, спохватилась: «Что же это я заслушалась!» – и, оставив посуду «на произвол судьбы», отправилась в церковь: ей непременно надо было там повидаться с соседом помещиком и сговориться с ним выписать пополам небольшую жатвенную машину.
Михаил Алпатов спустился с террасы в сад. Роса еще не сошла, сад блестел. Пчелы гудели. Вот уж не могла-то прийти ему в голову предвечная формула Герцена о неравном браке…
Друг мой! есть ли на свете предвечные формулы жизни и правда ли, что если ты сказал А, то неминуемо должен сказать Б? Нет, жизнь по алфавиту существует только для покойников, и неравный брак – сколько я знал примеров – у сильных людей давал многим недоступное счастье.
В этом начале меня испугало обратное, сравнительно с первым, – насколько там казалось трудно продолжать, настолько тут выходило легко, писал бы и писал, потому что форма готова. Я нашел ее вначале ощупью при описании детства Алпатова в борьбе за сокращение слов посредством лирического вступления к каждой главе. Мало-помалу это бессознательное разделение единого лица надвое: Я – повествователь и Он – ребенок, возникшее из воспоминания у меня, пожилого человека, своего детства, потребовало оформления, и в первой книге стало перекличкой двух поколений, а во второй я, автор, превратился в летописца. По пути укрепления себя в найденной форме я однажды совсем неожиданно нашел себе поддержку, читая дневник Суворина, где он говорит, что множество впечатлений от текущей жизни мешает написать ему традиционный роман, что он мог бы написать роман только вдвойне, как написан «Евгений Онегин»; одно лицо говорит о всем, что только захочется, другое движется по определенному плану.
Постепенная находка формы мне доставила много счастья и тоже много убавила скуку читателя, потому что иначе читать бы ему пришлось не две книги, а пять или шесть. Но писать по этой готовой форме третью книгу без радостного труда совершенствования формы для меня невозможно, я даже совершенно отделанную страницу сам не в состоянии переписать и непременно еще переделаю. И потому легкость второго начала испугала меня и заставила его бросить. Мне пришла в голову мысль сделать из себя не летописца, а исследователя жизни. Край, где Алпатов действует, у меня под рукой, и таким образом роман будет перекличкой поступающей в мое сознание действительности с легендой об инженере Алпатове.
Так я могу широко использовать свое дарование схватить ландшафты. Кто знает? Может быть, все сведется к изображению материала края, и Алпатов только намеком, как дух, будет носиться над бездной болот.
Ледник, спускаясь к нам, рыл и холмил землю, не считаясь с жизнью будущих людей. Теперь мы живем на этих моренах.
А всемирная цивилизация разве загадывает о счастье, когда роет и холмит жизнь примитивных народов? Цивилизация чем не ледник? Разве может кто-нибудь обнять весь пройденный ею путь и понять ее движение в отношении к человеку? Уже много тысяч лет тому назад проехал по Европе ледник, а мы до сих пор не овладели материалом, приготовленным шествием льда. Конечно, ледник шел, не считаясь с жизнью, и все переменял в ней без плана: шел сам по себе. Но у нас, в центре страны, он рыл и холмил неплохо для жизни будущих людей. На оставленные им невысокие холмы вышли леса, в рытвинах легли озера. И к тому времени, когда человек оборол леса на холмах, озера заросли и стали болотами с мощными залежами солнечной энергии, сохраняемой торфом. Да, ледник, конечно же, рыл и холмил, не считаясь с людьми, но его бессмысленное творчество расположило недурно материалы и для творческой жизни людей. Ведь стоит только из болот, в которые погружен каждый холм, вывести торф наверх, на песок, и земля станет надолго плодородною.
И какой суд может быть над цивилизацией, что можем мы говорить об этом неоконченном деле, если у нас живет множество людей, не умеющих для себя использовать даже давным-давно конченного ледникового дела. На этих моренных холмах сидят теперь люди, не думая о заготовленном для удобрения торфе, так долго и плотно сидят, что песчаный верх морены от них самих с их животными мало-помалу стал удобряться и немного темнеть. Моренные холмы запестрели лоскутиками полей с селами, церквами, людьми так густо на них, что холмы морен похожи на муравейники, погруженные основанием в бездну огромных зеленеющих, местами даже вовсе непроходимых болот. Этот край, совсем близкий к центральной столице, перенаселенный на холмах и дико пустынный в низинах, я представляю себе местом действия избранного мной человека, пожелавшего согласовать личное творчество с прошлой работой ледника и действующей в настоящее время всемирной цивилизацией.
Оставляю пока все холмы, как они есть, и сам подвигаюсь между ними на лодочке по странной, нигде в других местах не виданной мною речке. Так привык я в других местах, спускаясь вниз по реке, видеть по пути речки-притоки, текущие как бы в помощь основной реке. На Дубне речки-притоки, кажется, не впадают, а выливаются, образуя широкие долины болот. Другие речки приходят навстречу, подпирают Дубну, и опять она выходит из себя, образуя болота на много верст. Все, впрочем, понятно и просто: где-то русло Дубны засорилось, и, не в силах перенести воду через преграду, река разливается и остается огромными поймами. Вот почему и кажется издали, что моренные холмы, муравейники с церквами и частыми селениями погружены в дебри самой дикой природы.
Такое начало романа я почел удачным, очень обрадовался ему, отделал его, двадцать или больше раз вслух прочитал, и все было хорошо и хорошо. Но я всю зиму работал и силы свои израсходовал. Будь весна, как всегда, в природе получил бы поддержку для книги о творчестве, но все знают, какая весна была в этом году: было – как будто новый ледник спускался к нам, и все замерзло вокруг. Садясь за стол, я представил себе, что на лодочке плыву по Дубне между моренами, но взгляд падал на замороженное окно, образы мои обмерзали и останавливались, как ледниковые морены. Теперь я понимаю, в чем дело: я, парализованный усталостью и непогодой, работал не всем существом, а только головой, то, что в нормальной работе я отгонял, как лишние мысли, теперь принимал за цель и описывал их, называя моренами.
Я обыкновенно, если хорошо нишу, то как бы плыву на лодочке, а подо мной волнуется весь океан, и потому я пишу о своей лодочке, что она связана с океаном, и так выходит – говорю о лодочке и получается океан.
Но, бывает, и по-другому пишется: возьмешь океан, а пишешь о лодочке. И это по-своему тоже до того увлекательно, что в первые годы, судя свои вещи по расходу увлечения, я совсем не мог разбираться в написанном. Все было отлично, пока я был неизвестным писателем; за хорошие вещи, назову «океанские», платили, плохие, написанные по «лишним мыслям», возвращали, и я вдруг сам тогда понимал и рвал их. Конечно, редакции иногда ошибались, случалось, я рвал и хорошие вещи. Но не беда, хорошее само возвращалось. Плохое началось, когда явилось доверие к моему имени и оно стало само за себя отвечать. Тут я сделал несколько больших промахов и напечатал лишние вещи, которые и сейчас глядят на меня своими тусклыми глазами.
Есть множество людей, которым ничего не стоит попросить денег взаймы или перейти с кем-нибудь на «ты», но я болею, если приходится занимать, и на «ты» могу только с охотниками и детьми. Так есть очень даровитые писатели, совсем даже не способные глядеть себе вслед: тоже широкие люди, свои ошибки им, как с гуся вода. Я удивляюсь их таланту, но не завидую: это не мастера, и куда лучше их сочинений для меня лес шумит и вода поет. Мастер должен знать себя и талантом своим управлять, как машинист паровозом.
Разными способами, главным образом посредством выбора первых слушателей, или совершенно не понимающих в литературе, или больших знатоков, я стал отмечать в себе то «океанское» чувство и другое, обманчиво увлекающее. Мало-помалу так и нашел я самого себя и организовал сложную защиту такого себя со многими рядами колючих заграждений. И все-таки я до сих пор не уверен, что враг, соблазняющий меня лишними мыслями, не явится с неведомой стороны.
Враг явился ко мне в образе морен, когда я себе представил, что еду по Дубне, продвигаясь на лодочке между холмами, уходящими в дебри болот. Мне вздумалось, глядя на них, найти свои постоянные морены, между которыми будет бежать мой поток. Мало-помалу я до того увлекся сочинением этих «морен», что все на свете забыл. И откуда это взялось! Морены, коротенькие мысли о творчестве, рождались в моей тетрадке во множестве и совершенно задавили живое творчество. Из многих десятков, а может быть, и сотен этих морен, истребленных потом со всею яростью, сохранилось несколько, красиво переписанных, каждая на отдельной страничке. Теперь, когда я овладел собой и морены мне больше не мешают, – они вовсе не кажутся мне враждебными, очень возможно даже, что их потом можно обработать, удобрить, как настоящие морены, и вырастет хлеб. Вот несколько таких уцелевших морен.
Стремление людей в редакции так же бессознательно, как у северного лосося его скачки через пороги и водопады к верховьям реки на места нереста или как у перелетных птиц полет на места гнездований. Я так и догадываюсь, что стремление возродить себя в форме является из той же самой жадности жить, как у лосося его смертельно рискованные скачки на камень, с которого падает вода, или у северной ягодницы в лесу набить корзину брусникой перед самым носом медведя. Форма, которой я добиваюсь так страстно, происходит от жадности так заключить ягоды жизни в сосуд, чтобы он был вечно неистощим.
Коварство этого стремления заключить ягоду жизни в сосуд вечности в том, что ягода-то не себе достается. Я проследил за собой: даже в тот момент, когда я спускаю на окно парусиновую занавеску, подвигаю к себе лист бумаги и начинаю строку с большого Я, – это я уже сотворенное, это Мы.
Каждому человеку в большей или меньшей степени дано искусство видеть мир. Каждый в своей жизни как бы спешит наполниться запасом образов любимых и ненавистных людей, животных, растений, с которыми он и уходит из жизни. Но пределы силы этого обыкновенного родственного внимания узки, в старости человек обыкновенно не узнает своих родственников в новых лицах и цепляется за прошлое подробными расспросами о судьбе своих современников. Способность художников видеть мир означает бесконечное расширение пределов этой силы родственного внимания.
Если мы, наблюдатели русские, возьмем японцев для сравнения с нами, то в их облике нам представится гораздо меньше оттенков, чем у своих земляков. Это потому, что японцы нам мало знакомы, мы не привыкли различать их посредством силы родственного внимания, воспитанной в нас постоянством жизни в пределах своего родного народа.
Еще более поражает наша ограниченность в способности различать, когда мы от человека переходим к миру животных и растений: там все грачи черные, воробьи серые, кошки пестрые, желтые, – по рубашкам только и различаем. Таким образом, подсолнечный мир, значительно охваченный нами в ширину, географически, едва тронут психологически, в глубину, и представляет собой неограниченный материал, требующий приближения к себе родственным вниманием.
С другой стороны, нам присуща способность стирать различия, образованные родственным вниманием, для того чтобы понимать причины, приводящие в движение всех безразлично, и строить на основе этого законы для управления жизнью. Надо помнить, однако, всем людям науки и государственным деятелям, что такие опыты стирания лиц возможны только в лаборатории; в жизни – без лица наше тело превращается в труп. Вот почему если наука стоит на страже в деле охраны общества от блудливого искусства, то искусство должно охранять жизнь от стирания лица, потому что лицо является сосудом смысла всякой отдельной твари.
Истоки творчества видны в самом бытии, которое даже у животных для своего продолжения требует некоторого отказа от пожирания добычи сегодня, чтоб обеспечить им свое завтра.
Точно так же и ограничивается своя общая жизнедеятельность в интересах выхаживания своих детей. Собака, зарывающая избыток своей пищи в землю про запас, великий пост курицы, высиживающей свои яйца, – вот как в бытии происходит наше сознательное методическое творчество.
Сознательный творческий акт человека заключается в способности жертвовать частью своего бытия и строить из этого, действием воли остановленного потока жизни, законы и формы.
Женщину мы уважаем за то, что ей свойственно предпочитать любовь (эрос) самому факту размножения (пол); в этом она более свободна, чем мужчина. И если доходит любовь до брака, женщина остается более сильной в самоограничении, необходимом для выращивания и воспитания младенца.
Эти лучшие свойства женщины в творчестве бытия переходят у мужчин в сознательный творческий акт законов и форм, и вообще можно сказать, что женщина занимает первое место в творчестве бытия, мужчина – сознания. Отсюда выходит, что спасать мир надо не гуманизмом, который выродился в кичливость человеческой культуры над бытием, а согласованием творчества своего сознания с творчеством бытия в единый мировой брачно-творческий акт.
Вот эти остатки бесчисленных, истребленных мною морен. Они вовсе не глупы, но неподвижны. Случилось, в самый разгар писания этих морен ко мне пришел комсомолец из педтехникума пригласить почитать у них на вечере новейшие сочинения.
– Что вы пишете? – спросил он.
– А вот все морены пишу, – ответил я.
И с тем, чтобы узнать, возможно ли мое новейшее прочитать у них на вечере, тут же у себя в комнате я прочитал комсомольцу много морен.
Терпеливо и почтительно выслушав меня, комсомолец сказал, что его очень смущает мой романтизм.
– Друг мой, – сказал я, – романтизм бывает разный, и о природе его путного еще никто не сказал.
– Но все-таки, – возразил комсомолец, – в отношении женщины вы сходитесь со всеми, возвеличиваете на словах, на деле возвращаете в кухню.
– Значит, – сказал я, – вы бытие представляете себе в образе кухни, но почему же вы говорите, что бытие определяет сознание?
Мне вдруг пришло в голову определить свой романтизм.
Я сказал:
– Это у меня романтизм бытия.
Комсомолец дал вежливо понять мне, что такой романтизм похож на мещанство. А я, задетый за живое, потому что какому же романтику хочется попадать в мещане, напомнил случай в общежитии того же педтехникума. Молодые люди тайно сошлись, природа взяла верх и все обнаружила. Девушка легла в больницу и там стала матерью. А когда она собралась с силами, преодолела стыд и решилась после всего явиться к экзаменам, товарищи встретили ее на лестнице с цветами в руках.
– Это все было, – сказал я, – вот романтизм бытия. Как же теперь вы думаете, возможно ли мне свои морены прочесть у вас на вечере?
Умный юноша смутился немного, но справился и ответил:
– Конечно, можно, в особенности если вы позволите прочесть в дискуссионном порядке.
Тут я одумался и от чтения морен отказался, неподвижные они. Смотришь на них, как на холмы, которые ледник нарыл, а сам растаял. Наше дело их обработать. Перечитываешь эти свои морены и думаешь: «Кто же это, какой настоящий философ уже давно включил их в свою этику?» Нет, если я художник, то должен распахать их, разработать, удобрить, вырастить на них живое и потом уж читать.
VI
Клад
Мне долго казалась таинственной сила, срывающая личины и маски, привлекающая родственное внимание в самое сердце людей и вещей, вызывающая, как духов, людей, хорошо знакомых с интересующим меня предметом, чтобы дать ответ на вопрос. Теперь я знаю, что эта сила у поэтов называется музой. Но как называется она у людей, не имеющих никакого отношения к поэзии? Разве не та же это действует сила, когда во всяком деле иногда все удается, и не ее ли на помощь вызывают рабочие в «Дубинушке»: «…сама пойдет, сама пойдет». Думается, музыкальный ритм сопровождает всякий труд, если только человек не разделен и отдается своему делу до самозабвения. Я мог бы теперь в отношении себя лично написать целую книгу о тех хитростях, уловках и всяких приемах своих, посредством которых я до того приладился хозяйствовать около драгоценной таинственной силы ритмического родственного внимания к окружающему меня миру, что могу поставить себе цель и эту изобразительную работу повести почти как научное исследование. Так если бы я загадал себе изобразить какой-нибудь край, или вообще какой-нибудь пройденный мной путь, или отрезок прожитого мною времени, я ищу в этом пространстве и времени фокус, в котором сходятся лучами все мои впечатления, переживания. Нельзя, конечно, предусмотреть, где именно, и когда, и на чем сойдутся все лучи моих впечатлений, – об этом я не загадываю, и, может быть, это самое трудное, приучить себя к доверию, в котором скрывается уважение к внешнему миру в том смысле, что он на тех же правах существует, как я. Во время пути я стараюсь как можно меньше иметь дела со своей записной книжкой и отмечать в ней только незнакомые слова и обороты речи. Под конец пути я уже хорошо чувствую фокус своих впечатлений. Часто, вернувшись из какого-нибудь путешествия, дома беру лист бумаги, ставлю в центре его кружок и внутри вписываю слова, означающие фокус. Вот было со мной, когда я вернулся из путешествия в сибирских степях, я нащупал в себе центральное впечатление от простора степи – пустыни в виде двух всадников, киргиз, которые съехались, поздоровались и один спросил: «Хабар бар?» (Есть новости?) – «Бар!» – ответил другой. И принялся о мне самом рассказывать, как о каком-то Черном Арабе. И когда я спросил своего проводника, каким образом могли эти всадники с такой подробностью узнать о моем путешествии, то он просто ответил: «По Длинному уху». После этого все мои впечатления сами, своей собственной силой стали располагаться во мне, как поступающие по Длинному уху, и в центральный кружок на листе я вписал: Длинное ухо. От этого кружка во все стороны на стрелках я по кругу написал главные впечатления, в следующем концентрическом кругу менее сильные, и так на всем листе сложился весь скелет моей работы. И если теперь мне приходится писать рассказ, повесть и роман, то всегда начинаю работу с поиска фокуса и затем графически располагаю вокруг него все почему-то непременно кругами. В пространстве я представляю себе свою работу всегда кристаллом со светящимся внутри него фокусом.
Вот эту силу, располагающую внешний мир и мой внутренний согласно, я называю ритмом, делающим всякой труд не только легким, а даже как бы пьянящим.
Часто от людей, которые приходили ко мне полюбопытствовать, как делаются вещи вроде «Черного Араба», я слышал горькие слова: «Тут тоже девяносто девять процентов труда». Это говорили, конечно, мне люди, никогда не знавшие сладости в самом труде. Но мне кажется, для каждого человека, желающего сделать лучшее, возможен труд, подчиненный музыкальному ритму, если только научиться его замечать, выделять и очень строго хозяйствовать. К сожалению, есть соблазн легкости труда в слышании его музыкального ритма, и кто обратил на него внимание, обыкновенно бросает трудное дело и сочиняет стихи ради стихов.
Свою первую книгу этнографическую «В краю непуганых птиц» я писал, не имея никакого опыта в словесном искусстве. Против всех, писавших потом о моих книгах, один М. О. Гершензон сказал мне, что эта первая моя книга этнографическая гораздо лучше всех следующих за ней поэтических. Я приписал такое мнение чудачеству М. О. Гершензона, который, казалось мне, всегда и во всем хотел быть оригинальным. И только теперь, когда судьба привела в мою комнату В. К. Арсеньева, автора замечательной книги «В дебрях Уссурийского края», и я узнал от него, что он не думал о литературе, а писал книгу строго по своим дневникам, я понял и Гершензона, и недостижимое мне теперь значение наивности своей первой книги. И я не сомневаюсь теперь, что если бы но среда, заманившая меня в искусство слова самого по себе, я мало-помалу создал бы книгу, подобную арсеньевской, где поэт до последней творческой капли крови растворился в изображаемом мире.
Мне вспоминается и Блок, прочитавший мою вторую книгу «Колобок». Он сказал:
– Это не поэзия.
– Что же это? – спросил я.
– Нет, – поправился Блок, – это поэзия, но и еще что-то.
– Что?
– Не знаю.
Теперь я понимаю, что в этой книге «таинственная сила» выделилась определенно как поэтическая, а другая часть ее оставалась, скажу, в смешанном состоянии и не поддавалась определению поэта.
Это было время борьбы с натуралистическим и гражданским направлением литературы, умиравшим в «Русском богатстве». Поэтическое «Я» разрозненно выбивалось из обветшалых форм, прислоняясь к ницшеанскому сверхчеловеку, очищалось, утончалось, пока, наконец, не заключило себя в формулу: Я – бог. То было величайшее дерзновение, подобное прыжку со скалы, в чаянии полета без крыльев с помощью одной только веры в себя. Трагедия автора сверхчеловека общеизвестна… Вслед за первым поэтом, посмевшим объявить себя богом, появилось бесчисленное множество богов. Все было похоже, как если бы Заратустра пришел в тропический лес, разостлал бы холст, накатал бы его на себя, как делают ловцы обезьян, потом опять раскатал бы холст и удалился. После того обезьяны, как это известно, подражая человеку, закатываются в холст, и в таком виде их ловят.
Множество поэтов закаталось в богов и в таком смешном виде были изловлены. Тогда началась новая форма морально-эстетической болезни: богоискательство. Какой-то наивный, внушенный мне с детства страх божий не дал мне возможности проделать вполне серьезно опыты самообожествления и последующего богоискательства, но, конечно, все было так любопытно, что и я отдавал дань своему времени. Из этнографа я стал литератором с обязательством к словесной форме как таковой. Подражая богам, я тоже стал писать о себе, но в совершенно обратном направлении с декадентами: поскольку в этом «Я» было общего всему миру. На этом пути я так и остался, стараясь все больше и больше приблизиться к простоте своей первой книги.
Конечно, я не мог не заметить, что все эти сменяющие одна другую школы, философские и религиозные искания мало имели значения для творчества тех, кто потом в трудах своих должен был остаться для истории, – для них был это, самое большее, метод, для рядовых – догмат, но как бы там ни было, вожди, рядовые, метод, догмат, реклама, богема, в преддверии катастрофы государства все дружно боролись за освобождение слова из плена натурализма в специфической гражданственности. Это искусство было похоже на удивительное сплетение белоснежных лилий и золотистых кувшинок, прикрывающих иногда на болотах бездонные окнища.
Я был свидетелем трагической цветущей эпохи словесного творчества. Миновать ли мне ее теперь при попытке моей в лице Алпатова подойти к органическому процессу творчества? Нет, я должен за великое свое счастие принять, что не но книжным материалам, а по лично пережитому имею возможность провести своего героя между встречными протоками декадентского эстетизма и революционного аскетизма к открытому морю органического творчества, где все живущее подчинено величайшему закону: «Помирать собирайся – рожь сей!»
Нет, конечно, если около таких больших вопросов поставить Алпатова эпохи эстетизма искусства и аскетизма революции, то ничто не должно помешать его достижениям. Меня смущает теперь лишь возможность воплотить все это в живую человеческую личность. Берет оторопь при первой мысли о том, что какой-то инженер в болотах открыл причину заболачивания края и этот незначительный факт каким-то образом должен свести его с творцами слова и среди них его выделить.
Если я вижу молодого автора, становящегося в тупик при работе над подмостками своего литературного здания, мне бывает смешно; все эти тупики происходят от необходимости разума строить подмостки в пределах пространства и времени, а когда дело доходит до самого здания, в постройке которого участвует весь человек, все решается иногда одной только фразой или словом, а то и просто чертой, за которой действие переносится на тысячу лет вперед или назад.
И вот все-таки, как актер, в сотый раз выступающий в одной и той же роли, по-прежнему трепещет и замирает, так и я ломаю себе голову над вопросом, что же такое могло Алпатова перебросить из болот Московского Полесья в салоны петербургского литературно-художественного творчества и чем же именно мог там обратить на себя внимание торфмейстер. Мне приходит в голову, что Золотая луговина, которую хочет Алпатов дать населению, утопающему в дубенских болотах, очень легко соединяется с мифом о золотом веке и так Алпатова через этот миф можно привлечь в мифотворческий кружок Вячеслава Иванова, а потом торфмейстер сделается символическим героем, вроде как строитель Сольнес у Ибсена или Генрих в «Потонувшем колоколе».
Но для такой постройки мне как-то мешает знание болот, отчего символическое творчество кажется условным, ненастоящим.
Обращаюсь к личной своей жизни: ведь я тоже агроном и с торфом очень много возился и прямо от торфа попал в салоны творчества. Я сделался литератором, потому что к этому делу у меня вдруг прорвались дремавшие способности. Но как мне кажется, радость моя в литературном деле происходит главным образом оттого, что посредством него я примыкаю к общему творчеству. Так случилось биографически, но Алпатова нельзя сделать литератором, потому что органический творческий процесс в словесном искусстве так замаскирован беллетристикой, что, если сказать «писатель», нужно много всего выяснять… Нет, по-видимому, мне надо в агрономии Алпатова найти такой творческий фокус, через который должны проходить лучи всякого творчества.
Может быть, я по ночам или во время своих охот бессознательно уже не один раз приходил к этому вопросу. Кто знает? Может быть, однажды я выпросил себе и командировку от «Рабочей газеты» для описания торфяного производства, повинуясь бессознательному влечению отыскать миф самых вещей, созданных в недрах природы, и что я несколько лет все блуждаю около дубенских болот, и что устроился прочно жить около них в Сергиеве. Я немного боюсь думать об этом, потому что это правда: жутко вскрывать колеблющиеся силы, управляющие повседневным разумом.
Как бы там ни было, но и в этот раз случилось то самое, что бывало уже множество раз с тех нор, как я попал на своего конька и получил способность отдаваться делу целиком и им поглощаться. Все равно, как и в первый раз, мне кажется таинственной эта сила, приводящая на службу мне случай, она непонятна мне, хотя я хозяйствую с ней так же разумно, как инженер с электричеством. Случилось, в тот самый час, когда я в центре белого листа начертил кружок, в который должен был вписать название фокуса моей вещи, и стал возле этого пустого кружка распределять материалы из жизни Алпатова, в кухне у меня за стеной залаяла собака, стерегущая электрический звонок. Так сложилось как-то само собой, что от старого звонка на дворе осталась теперь только проволока. Крестьяне, приходящие ко мне с предложением дров, молока и всего такого, никогда не смеют нажимать пуговицу электрического звонка, вероятно ей не очень доверяя, а гремят проволокой, и собаки на дворе отвечают дружным лаем. Интеллигентный человек всегда нажимает пуговку, но прислуга не всегда бывает в кухне, мне звонка этого в доме не слышно. Вот почему я в кухне устроил самую умную собаку, которая вызывает меня лаем, если в кухне нет никого, а звонок затрещал. Тогда я знаю, что за калиткой на улице стоит человек интеллигентный.
Услыхав этот лай, быстро спрятал я в стол лист со скелетом романа, вышел на двор и впустил к себе неизвестного мне, прилично одетого, с портфелем в руке, вполне интеллигентного средних лет человека. Он тут же у калитки рекомендовался культур-техником Сергиевского исполкома и сказал, что он ищет помощи у меня как литератора.
В комнате он вынул из портфеля рукопись своего труда, очень просил меня с ним ознакомиться и рекомендовать в какое-нибудь издательство.
Труд этот был компилятивной сводкой проектов осушения дубенских болот с подробным описанием географии, флоры, фауны и сложными хозяйственными расчетами. Появление этой работы в нужный момент я принял как чудо и, отпустив автора, прямо же и принялся за изучение.
Я узнал из этой работы, что в план осушения болот входит спуск знаменитого по своим охотничьим богатствам ледникового озера, и самое главное, что на дне его живет До сих пор крайне редкий реликт ледниковой эпохи, шарообразная бархатно-зеленая водоросль Клавдофора.
Мне сразу же показалось до крайности странным, что техники, составлявшие проект о спуске озера, не придали никакого значения тому, что драгоценнейший реликт ледниковой эпохи, сохранившийся только в двух точках земного шара, при спуске озера неминуемо должен погибнуть. Я вернулся к Алпатову с его Золотой луговиной, представил себе, что он, готовый спустить озеро, открывает этот реликт и вдруг останавливается перед вопросом: имеет ли право он, инженер, понимающий лишь техническую сторону дела, стереть с лица земного шара этот реликт с его неведомым мифом? Отодвинув проект осушения болот, я взял план своей работы и в центре листа в пустой кружок вписал: Клавдофора. Мгновенно весь скелет работы вспыхнул зеленым светом таинственного подводного растения и стал облекаться… Но я и тут не доверился. Правда, зачем мне спешить пускать в ход свою фантазию, если таинственная водоросль существует и я могу узнать так много от нее самой. Я начну с того, что сейчас же там, у техников, соберу о ней первые сведения, быть может, напишу о ней в газету, подниму шум: все пойдет мне на пользу, возможно даже я спасу эту водоросль, и путь ее спасения откроет мне совершенно новые горизонты для изображения творчества Алпатова.
VII
Константиновская долина
Много труда я вложил уже и в эти листки, чтобы сделать понятными свои блуждания в болотных лесах, окружающих озеро, на дне которого свободно, без стебля и корней, в виде большого бархатно-зеленого шара живет Клавдофора. Но разве я кому-нибудь мог тогда по всей правде сказать, что вот я укладываюсь, закупаю провизию, консервы, готовлю оружие, охотничьих собак, бинокль, термос, компас, снаряжаю настоящую экспедицию, чтобы пожить несколько месяцев около этой водоросли, пересмотреть жизнь всего края, представляя себе Клавдофору героем края, а все остальное лишь фоном, и через это каким-то образом по-особому понять и жизнь человеческую. Я не раз уже делал подобные опыты, дорожка пробита, и хотя я в большой тревоге за свое дело, но мне теперь незачем ощупывать свою голову с опаской, в нормальном ли она состоянии. А было же время, когда и об этом приходилось подумать, не схожу ли я просто с ума?
Нет, я, конечно, не отказался бы от удовольствия сделаться молодым и прожить еще один век, но только при условии начать новую жизнь уже таким же организованным и защищенным, каким я сейчас существую. Теперь прежние страхи для меня стали просто вопросами, не подлежащими до времени огласке, а любопытство окружающих меня людей удовлетворяю так, чтобы сделать им удовольствие. Тем, кто не знает, какие тучи слепней, комаров, мошек и всякого болотного гнуса обитают в этих лесах, я говорю, что еду на дачу. Другим, что учу там собак и охочусь. Лицам, близким к осушению болот, приходится говорить, что собираю материалы для романа, и эта личина романиста самая мне неприятная: роман в лучшем случае понимают как книжку для развлечения, и романист в глазах большинства не работник, а блестящий публичный мужчина. Только крестьянам мне легко называться писателем и в оправдание своего чувства показать свою пригодную для школ и всем понятную книжечку «Рассказы егеря Михал Михалыча».
Мой большой воз движется на северо-восток от города к Дубне по шоссе, то спускаясь, то поднимаясь на лесистые холмы ледникового происхождения. Много всего придет в голову, когда смотришь на лес, но если и час, и два, и три все лес и лес, притом в упор направо и налево, то, наконец, затупишься и вспомнишь слова древнерусского колонизатора: «лес – бес».
Когда же наконец лес расступится и во всем просторе открывается Константиновская долина Дубны со своими поймами и холмами, уходящими в дымчато-лиловую даль лесов и болот, со сверкающими крестами церквей почти на каждом холме, то этот типичный ландшафт среднерусской всхолмленной равнины кажется самым хорошим на свете. Все восхищаются холмами, утопающими в бездне болотных непроходимых лесов, и не раз я слышал восклицания путешествующих дам: «Тироль, настоящий Тироль!»
Мною почти вся долина исхожена. Не раз я любовался ею с высоты моренных холмов, представляя себе эпоху земли, очень от нас отдаленную. За все эти годы нашей революции могу отметить только, что засохла одна очень заметная ветла. Как жаль, что не могу больше найти точку на каком-то холме, где однажды, почти на закате, я, возвращаясь с охоты, остановился. Вдали что-то вспыхнуло ярким светом и некоторое время как бы горело без дыма. Долго спустя, когда я тут уже везде побывал, догадался я, что это Заболотское озеро, несколько приподнятое над этой долиной, но, конечно, невидимое простому глазу, отбросило на меня свет упавших на него лучей вечернего солнца. Возможно, я не нашел в другой раз этой точки и потому, что только раз в год в такой-то день и час бывает благоприятный угол отражения солнечных лучей на вечерней заре.
Оглядывая теперь знакомую долину болот, я припоминаю золотой вечер, и мне хочется отдать это яркое впечатление инженеру Алпатову. Пусть в этот миг к нему подойдет мужичок, на коротких ногах, веснушчатый, с длинной рыжей бородой, и станет рассказывать, что около Петрова дня в такой-то час непременно в той стороне вспыхивает золото и что это память солнышка о Золотой луговине. И примется рыжий, на коротких ногах, рассказывать о дубах в Дубне, что эти во множестве лежащие теперь в болотах дубы остались с тех пор, когда вся долина была покрыта дубовыми рощами, и река Дубна в одном русле бежала, и берега ее были твердыми и хорошими… Пусть инженер, слушая сказку, вдруг догадается, что золотая вспышка произошла от озера, висящего над болотами, справится с своими топографическими работами и догадается о восстановлении Золотой луговины путем спуска озера.
В записную книжку:
Согласовать вспышку на озере с внутренней вспышкой и внезапными мыслями. В связи с рассказом Рыжего о Золотой луговине вдруг как бы воспоминание о каком-то утраченном родстве и вслед за этим догадка. Посредством этого выразить мысль, что наука – это сила восстановления: так у человека сохранилось воспоминание о быстром своем беге на четырех ногах, и он восстанавливает это изобретением паровоза, был он рыбой и зато делает себе подводную лодку, и птицей был – выдумывает аэроплан…
Мой воз мухой виднелся внизу, а я все сидел под ветлой, любуясь долиной, где за десять лет, таких бурных, засохло одно только дерево. Не легко мне догнать теперь этот воз. Лавиной движутся навстречу мне подводы обитателей дубенских болот на базар в Сергиев. Трудно было представить себе кого-нибудь из них, кто, завидев меня с двумя собаками, Кентой и Нерлью, в березового цвета рубашках, совсем неразличимых, пятно в пятно, не стал бы таращить глаза. Но один прохожий с котомкой за спиной, пожилой человек, не обратил на меня никакого внимания, не удостоил даже косым мгновенным взглядом. Лицо у него от ветра и солнца было медно-красное, загар скрыл его внутренний мир и не давал никакой возможности догадаться о его общественном происхождении. Возможно, шел это какой-нибудь раньше высокопоставленный человек, за годы революции потерявший свое положение и оставшийся с одной только радостью мыслить. Возможно и напротив, какой-нибудь совсем простой человек в бурные годы эти был озарен особенной мыслью и так теперь дорожит возможностью широкого раздумья в пути, что не хочет тратить драгоценное время на случайность точного совпадения пятен на рубашках двух одинаковых охотничьих собак.
За кого же меня принимают все эти люди? Прошлый год я все лето учил на Дубне собак и потом до глубокой осени стрелял целые дни. Никто из них не видал, когда успел я наполнить множество тетрадей своими записками, для них я был только стрелок и охотник. Как представляют меня эти люди, как объясняют они себе возможность столь свободного человека в стране, где с таким трудом достается всем кусок черного хлеба. Что они, презирают меня, ненавидят? Мысль эту я сохранил в себе, пока не настиг своей подводы. Вез мои вещи неглупый крестьянин и хорошо мне знакомый.
Я рассказал ему, как мог, и спросил:
– Презирают меня, ненавидят?
– Жалеют, – ответил он.
Я изумился.
– Не звери же люди у нас на Дубне, – сказал хозяин подводы, – понимают, что был человеком сильным: приказывал – слушались. Может быть, губернатором был, а теперь приказывать некому и нечего – вот и стреляет!
VIII
Зимняк
В своем увлечении живописать, значит, всматриваясь в натуру и оставляя в ней все на месте, различать или находить в ней лицо, я иногда дохожу до того, что становлюсь в тупик от необходимости переменить имя описываемой личности. Не знаю, почему так приходится в большинстве случаев, что имя, носимое человеком, отвечает внутренним особенностям личности, и при первой записи все испортишь, если возьмешь имя другое: тогда все пойдет вкривь и вкось. А когда потом приживешься к имени, от себя чего-нибудь прибавишь, то и технически трудно бывает заменить: тогда нужно бывает, чтобы в новом имени было непременно столько же слогов, иначе ритм будет нарушен, фраза перестанет звучать. А сколько личных необъяснимых препятствий. Алексея представляешь себе с трубкой в зубах, а переменить на Николая, то Николай почему-то выходит без трубки. И так много всего… К счастью, в большинстве случаев при описании деревенских людей, крестьян, кустарей, рабочих не приходится думать, что обидишь: грехи-то их, плутовство, воровство, пьянство, при бедности жизни так простительны, что можно смело писать о всех по-хорошему, разве только с легкой улыбкой. Это не идеализация, а скорее терпение золотопромышленника, отмывающего горы песка из-за крупинки золота. И очень часто бывает даже, что и безо всякой промывки с чистой совестью и радостным удивлением называешь человека собственным именем. Так вот совсем не трудно мне назвать хозяина трактира в местечке Зимняк на Дубне Алексея Никитича Ремизова. Имя это известно далеко за пределами Заболотского края, и скажите любому: «Хороший человек Алексей Никитич!» – всякий согласится и примется рассказывать о нем. С высокой морали, конечно, улыбнулся бы этим качествам, но, но правде сказать, в болотах как-то не приходит в голову судить людей по высокой морали, а радуешься и ветхому завету: не укради, не убий, не прелюбы сотвори, не пожелай осла ближнего, ни вола его…
Вот был такой случай в трактире. Загулял почтальон, показался у Ремизова и пропал. Вик с ума сошел: почтальон вез две тысячи рублей! Милиция измучилась, две недели искали, нет почтальона. И вдруг он показывается в трактире. Тут его ждали. Цап-царап! – и повели. А Ремизов, Алексей Никитич, не спеша вечную свою трубку изо рта вынимает и говорит почтальону: «Петруша, ты у меня вещицу оставил, возьми, авось пригодится», – «Какую вещицу?» – «А я не глядел, как сунул ты под прилавок, так и лежит». Оказался же это мешок почтовый, я все печати на нем были целы. Вскрыли: две тысячи рублей, как копеечка.
Так можно ли поверить, будто Ремизов так-таки и не знал, какой мешок лежит у него под прилавком? Конечно, знал и дожидался: кто положил, тот и возьмет.
Трактир Ремизова – это ключ ко всей устной словесности Московского Полесья. За сотни верст от местечка Зимняк, часто называемого просто Дубной, в Калязине, в Кашине, Кимрах, в самом Угличе каждый валяло, деревенский бродячий портной, сапожник, башмачник, скорняк, игрушечник, маляр, телятник, всякий, кто вдобавок к скудному крестьянству занимается каким-нибудь ремеслом, а из Москвы торговцы, скупщики, разное начальство и особенно охотники – все останавливаются на постоялом дворе Ремизова, и каждый из них считает себя личным приятелем Алексея Никитича. Больше ста лет Ремизовы владеют трактиром, и полвека личных впечатлений живет в памяти Алексея Никитича.
Теперь наконец, после всех, край дождался своего певца, теперь я тут сижу за чайным столом, уложив своих обеих собак, Кенту и Нерль. Дверь в собственные покои хозяина открыта. Он холостой, и теперь с ним только сестра. Его кабинет, малюсенькая комната, весь увешан литографиями немецких охот, у письменного стола грязненькое ампирное кресло, на столе раскрытая книга «Приключения капитана Гаттераса», с золотыми очками на ней, рядом счеты, у окна букет сирени, и в окне длинная деревянная колоннада постоялого двора, утопающая в бездне навоза.
Чайная кипит. Не выпуская изо рта трубки, хозяин беспрерывно дает то пару чая, то фунт баранок, то колбасы, он весь в своем призвании: на людях живет, скрывая под тяжелыми черными, по-хохлацки свешенными усами личное свое: нравится или не нравится. Залучить его нет возможности. Но из чайной сходятся ко мне утиные охотники. Среди них много знакомых и сам бывший егерь Мерилиза Алексей Михайлович, уже раз описанный мною в очерке «Ленин на охоте». У него прекрасные большие глаза. Никто во всем краю и сам он тоже не знает, что, получи он образование, попади на свою полочку, был бы он, как поэт и писатель, известным во всей стране.
Теперь дела его совсем плохи, кому-то хотел угодить, У кого-то будто бы волков отманил и посыпал чужую приманку нафталином. Ославили человека. А сколько записал я у него маленьких охотничьих рассказов! Сколько раз набрасывался на его врагов и говорил и защищал: «Да вы послушайте только, как он говорит!» Тогда со смехом и глубочайшим презрением мне отвечали: «Это он может, на это он мастер!»
Присоединился к нашей охотничьей компании прежний сторож Армантовых охотничьих и рыболовных, угодий Александр Гаврилович Лахин, стриженный коротко, по-городскому, в порядочном пиджаке, но босой! и всегда в мокрых штанах, тоже большой краснобай, совсем погубивший себя языком. Я сам от него потерпел, но прощаю: нет человека, кто бы так хорошо знал в протоки, быстрики, борозды, плесы на Дубне и на озере, нет другого, кто мог бы столько вынести, зябнуть и хотя в мокром виде, но все-таки при всяких самых тяжких условиях жизни стать опять на сухое. Утиных охотников я оставляю, их множество, и их главное призвание угодить приезжему московскому охотнику.
Для общего разговора я задал тему о кряквах.
– Как у них семейная жизнь?
– Семейная жизнь у них неважная, – сказал Лахин.
Алексей Михайлович моргнул мне с понятным смыслом: «Послушаем, что скажет трепло, а потом посмеемся».
Не успел Александр Гаврилыч открыть рот для рассказа о семейной жизни крякуш, как из чайной Ремизов привел неизвестного мне охотника, оказалось, Василия Ивановича, хозяина чайной из Федорцова, возле озера Полубарского, и так сказал:
– Этот человек может интересно и правильно рассказать о богаче Мерилизе и бедном мужике Прохоре, не годится ли это вам для журнала «Охотник»?
– Мне все годится, – ответил я.
Василий Иванович присел к нашему столику и начал рассказывать:
Наш торгошинский Григорий Иванович, известно, был егерем у Мерилиза. Теперь и барин и егерь оба на том свете охотятся. Хороший был старичок этот Григорий Иванович, и такой большой охотник, а никогда не врал. Вот, рассказывал он, поехали с Мерилизом они в Вологду на охоту и остановились в деревне. Название этой деревни и по каким зверям была охота – запамятовал. Кончив охоту, все собрались и велели ставить большой самовар. Григорий Иванович не любил без дела сидеть, врать.
– Я тут, – говорит, – около деревни заметил след русака, давайте-ка, пока самовар поспеет, того зайца возьмем.
Молодые охотники за ружья.
– И я с вами! – сказал Мерилиз.
Собаки враз подняли русака. Молодые охотники бросились занимать места на дорогах, а Мерилиз, пожилой человек, пошел спокойно к сараям: русак это любит бежать от собак в деревню к сараям. Но как раз тут возле сараев намело огромный сугроб, и Мерилизу из-за него ничего не было видно в поле. Зима была с хорошей осадкой: снег не проваливался. Мерилиз возьми и поднимись на самый верх. И нужно такому греху выйти, что мужики два года на этом месте под сугробом копали для скота колодезь и воды не достали. На эту глубокую яму положили две-три слеги, на них хворосту, и ладно! От этого самого, что хворост лежал, снежок к нему метелью прибивало, и сугроб на этом месте постоянно был высокий. Не будь он высокий и тяжелый, все, может быть, и обошлось бы, а как он тяжелый, да Мерилиз, когда стал на верхушку, прибавил своего богатого весу, хворост и не выдержи…
Так вот бывает, стоит наверху человек, и вдруг нате: человек этот в пропасти.
Русака не долго гоняли, самовар поспел, и охотники с зайцем являются. Заварили чай, подождали немного хозяина и по стаканчику выпили. Нет его, по второму выпили…
Молодые охотники догадались:
– Опять, – говорят, – Мерилиз подшутил над нами, наверно, прямо на лыжах прокатил к поезду на станцию.
Так все и решили, что хозяин уехал, и сами после чая тоже собирались, но по какой-то причине раздумали, не помню. На другой день беднейший мужичок из этой деревни, Прохором звать, был в лесу и нес дрова на себе: верно, и лошади-то не было, одно слово, последний мужик. Вздумалось этому Прохору в деревню по насту пройти прямиком, и возле сараев попади на глаза ему след человека. Ему невдомек было, что вчера охотились и след мог быть везде. Обошел он сугроб, – что за диво, нет выхода! Положил он дрова, следом поднимается на сугроб и видит наверху провалище. Крикнул в дыру:
– Живая душа, отзовись!
Из дыры слабо:
– По-ги-ба-ю.
Прохор шарахнулся вниз. Собрал сходку. И рассказывает мужикам:
– У нас в старом колодезе человек кричит: «Погибаю».
Григорий Иванович и молодые охотники тоже были на сходке. Смекнули.
– Это Мерилиз!
Обвязали веревкой жердину, чтобы на ней можно было сидеть и руками держаться. Устроили вроде лебедки, всем миром навалились и вытащили наверх человека: Мерилиз был на себя не похож, весь черный. Привели его в избу, стали отогревать.
– Я, – говорит Мерилиз, – не так от холода страдаю, как от дыма. Два раза выстрелил, думал, дым вверх и потянет, а он весь сел на меня. Я чуть не задохнулся и совсем с жизнью простился.
Дали ему хорошего вина, чаем напоили. Поел он и спрашивает:
– А скажите мне, кто же это мой спаситель, кто первый крикнул: «Отзовись, живая душа!»?
Привели Прохора.
Отозвал он этого Прохора в сторонку, вынул бумажник и сколько-то дал. Потом показал ему бумажник и говорит:
– Смотри, пустой, себе только на дорогу оставляю, а сколько я тебе дал за спасение своей жизни – никому на свете не говори.
Так все и кончилось. Охотники уехали. Но погодите. Покойный Григорий Иванович хоть и егерь был, а ведь из мужиков, торгошинский, конечно, мужицкая душа его не могла на том успокоиться. Когда приехал из Вологды к себе в Торгошино, стал, конечно, уж всем этот дивный случай рассказывать. И все к нему с одним и тем же мужицким вопросом:
– А сколько он дал?
Прошел год и два, и три года прошло. Людей разных мало ли приходит и уходит. Григорий Иванович всем охотно рассказывал, и всякий под конец спрашивал:
– А сколько он дал?
На четвертую зиму Мерилиз вовсе уже не охотился, и, когда начались долгие вечера, стало и самому Григорию Ивановичу неотвязно лезть в голову, вроде как помешательство с ним вышло, худеет, сохнет человек, днем и ночью думает только об одном: «А сколько он дал?» Другой бы стал бога просить освободить его от вопроса этого, но Григорий Иванович однажды утром встал, умылся, встряхнулся – и в Вологду. Конечно, поехал-то он для Мерилиза будто бы медвежью берлогу искать, да это малое дело, главное было найти этого Прохора и спросить.
Приезжает он в ту деревню, спрашивает Прохора-мужика.
– Дом Прохора Семеныча? – отвечают ему, – а вот иди и сам сразу узнаешь: дом этот у нас один под железной крышей, на каменном фундаменте.
Идет Григорий Иванович по деревне и видит, действительно: дом большой, пятистенный, под железом, окрашена крыша медянкой, стены дома обшиты и в золотой охре, наличники белые, фундамент высокий, каменный и облицованный. Вход, уж конечно, в таком доме парадный, под навесом, и на двери электрический звонок.
Позвонился Григорий Иванович. Женщина дверь ему открывает с почтением, просит зайти в переднюю. А там в прихожей зеркало и вешалка березовая, хорошо полированная. Женщина эта повесила его шапку и полушубок, дверь открывает, а там светлая большая комната, на окнах кружевные занавески чистые, белые, медные шпингалеты блестят, двери все тоже по белилу наведены лаком, пол крашеный, и по нем во все стороны дорожки настелены. А посередине комнаты большой стол, на столе чищеный медный самовар, и там за самоваром сам Прохор Семеныч сидит, в красной рубахе, на красном жилет черный с зеленым отливом, борода расчесана волосок к волоску, на голове пробор и от масла блестит. Поклонился Григорий Иванович.
– Кто ты такой? – спрашивает Прохор Семеныч, – откуда и по какому делу пожаловал?
Не узнал. А когда Григорий Иванович напомнил ему, как охотились с Мерилизом, встал, обрадовался бог знает как, стал угощать чаем, вином, закусками разными. Три дня так жили за столом, ели, пили, душевно разговаривали, и все три дня Григорий Иванович о главном своем деле спросить не смел. В конце третьего дня на расставанье изрядно выпили, и тут наконец Григорий Иванович осмелился и спросил, сколько дал ему Мерилиз. Сразу Прохор Семеныч в лице потемнел и говорит:
– Григорий Иванович, не обижайся, душевно говорю тебе, оставайся у меня, живи хоть месяц, хоть два и приезжай ко мне во всякое время, днем и ночью, во всякий час будет стол для тебя накрыт, а об этом не спрашивай, с этим я умру и никому не скажу: это моя тайна.
Во время этого рассказа народ из чайной подвалил, слушали стоя и потом сами готовы были рассказывать без конца о старых похороненных временах барской охоты. Но у меня была своя тема о таинственной Клавдофоре, я завел речь об этом. Долго меня не понимали, но когда я показал руками, какая она, Лахин, Александр Гаврилыч, встрепенулся:
– Так это шары?
И так начал о них рассказывать.
– В городе есть син-ди-кат, что это такое?
Я спросил:
– Какой же именно синдикат?
– А я почем знаю. Читал своими глазами вывеску: синдикат. И еще я читал: аз-вин.
– Это значит: азовское вино.
– Так вот, в городе есть син-ди-кат, и аз-вин, и все двадцать четыре удовольствия. А у нас в Заболотском озере только шары и кряквы. Нет, мало им в городе удовольствий, подавайте крякв и шары. Однажды приехал к нам даже из-за границы немец Филей. «Покажите шары!» Мы взялись проводить. «Не надо провожать, я сам». Мы говорим: «Самому невозможно». А он: «Филей все может, Филею все возможно». Засучил рукава и показал на руках булки. Мы дали ему лодку. На озере известно сто островов и разных плесов. Мы велели ему править на Командирову кочку.
– Что это за Командирова кочка? – спросил я.
И рассказ о путешествии немца Филея перешел на Командирову кочку, о том, что за сутки до разрешения охоты какие-то Пашка и Петька приходят в трактир и сговариваются. После того Пашка берет ружье, садится в лодку и отправляется делать шалашик на этой самой кочке. В ночь под первое августа Петька везет командира, в темноте подплывает к кочке, Петька говорит командиру: «На вашей кочке, товарищ, кто-то уселся». – «Поговори с ним», – отвечает командир. «Уступи! товарищ!» – просит Петька. «Как же мне уступить, – отвечает Пашка из шалаша, – я тут целые сутки сижу». – «Да мы не задаром». – «А что дадите?» Дают цену. Пашка молчит. «Ну-ка?» – «Неподходяще!» Потом ладят. Командир садится на кочку. Пашка и Петька едут на свои хорошие места, много бьют крякв и везут командиру добивать их серебряной дробью.
– Благодарю, Александр Гаврилыч! – сказал я, – извини, что перебил, теперь продолжай о шарах, как немец филей поехал один и, вероятно, не уладил на Командирову кочку.
– Ну да, ему надо было направо, а он круто взял влево и попал на Левушкину тоню.
– Это что такое?
Тут Алексей Михалыч взял слово, у него давно чесался язык.
– Об этом правильно только я могу рассказать. И Лахин с «подчтением» слово о Левушкиной тоне предоставил Алексею Михалычу.
– Название просто вышло, – сказал Алексей Михалыч, – ехал он на лодке уток стрелять, а рыбаки тут невод вытянули, и полнехонький. За то и назвали это место Левушкина тоня. Одно время каким он мне был приятелем, водой не разольешь! И вот на грех случись, позавидовали мне недруги, вроде как бы за буржуя сочли, и увезли у меня со двора, будто бы на гробы, двадцать семь полувершковых девятиаршинных тесин. Приезжает ко мне Левушка на охоту. Я тут и говорю им: «Вы знаете, кто у меня, подавайте назад!» Только свистнули. После того Коля приезжает. Я опять к ним: «Знаете, у меня кто?» – «Знаем, – говорят, – сейчас вернем». Привозят ко мне тес и сваливают. А я кочевряжусь: «Положите на место и ярусом». Сложили. Приходит зима. По первой пороше катит ко мне Левушка зайцев гонять. Понравилась ему моя собака. Продай и продай! Что с него взять, много по советскому времени никак нельзя, а из уважения… что в нем, какое уважение, если его знаменитое имя не могло мне даже тесу вернуть. «Нет, – говорю, – продам я вам собаку, а сам с чем останусь?» Вскоре после него является Коля и тоже: «Продай!» Ну, я, конечно, не посмел отказать, он юрист и человек полезный. Через две недели установилась санная дорога и показались волчьи следы. Привадил я их, прикормил – и в Москву. Докладываю своему юристу о волках. Обрадовался. «Ах, – говорит, – чуть не забыл. Левушка сказал, когда ты приедешь, так непременно чтобы к нему». Вспомнил я о собаке, и сердце у меня упало. «Нельзя ли, – говорю, – не ходить?» – «Никак нельзя». Являюсь. Рад он мне, об охоте говорит и виду не показывает. А потом вдруг: «Ты зачем Коле собаку продал?» Молчу. «Значит, он тебе милей?» Взяло меня за сердце: что, я-то не хозяин, что ли, своей собаке, кому захочу, тому и продам. Вот я на его слова и говорю: «А ежели и милей?» «Милей? – говорит. – Значит, все между нами кончено». Тут я встал и говорю: «Воля ваша, и я на тебе не повис!»
Ревниво следил за рассказом соперника Лахин и, только он кончил, сказал:
– Это что! Вот я расскажу. Было это около еврейского праздника Кучки. У меня в садке припасены живые караси, потому что евреи за карасей около этого праздника цену дают непомерную: сколько спросишь, столько дают. Так собираюсь я в Москву, и как раз тут является человек и говорит: «К тебе завтра охотники приедут, ты с ними поаккуратней: между ними Ильич». Правда, на другой день приезжает Ильич. Я открыто говорю: «У меня караси, мне в Москву надо, а сын может». Ильич посмотрел на Саньку строго, поморщился и говорит: «Молод!» – «Пускай, – говорю, – молод, а другому довериться не могу, молод, а надежен и по утиному делу спец».
– Теперь пусть сам он расскажет, как возил Ильича. Санька!
Из чайной пришел молодой человек и прямо сказал:
– Мне рассказывать нечего, а врать я не умею. Сели мы в лодку и поехали бороздой, я веслом пропихиваюсь, он сидит на носу и молчит.
– Сколько времени ехали бороздой?
– С полчаса крутились, потому что заросла она, и человек важный, боишься, как бы не замочить.
– Полчаса бороздой ехали, неужели он ничего не сказал, не спросил?
Ничего, мне самому неловко. Выехали на озеро, солнце вдруг осветило воду, и показались на дне шары, лежат один к одному. Все дивятся нашим шарам; дай, думаю, скажу: «Вот какая диковина у нас в озере!» Глянул на него и не посмел.
– А сам он шары не заметил?
– Ничего я не знаю. Сидит на носу и молчит. Приехали к плесу. Шалаш приготовлен. Сел он в шалаш. Я сказал: «Владимир Ильич, я тут же неподалече буду, если что нужно, крикните, а поутру я сам приеду за вами».
– А что он?
– Ничего! Я отъехал на соседний плес. На вечерней заре вся утка стороной прошла. Ленин ни разу не выстрелил. На утренней ни одна не присела на плес. Когда солнце поднялось, я подъезжаю к нему и говорю: «Вот диво-то! ни одна не присела?» Он ничего не сказал. Сел в лодку, и мы приехали. Вот и все.
– Послушай, Саня, – сказал я, – теперь за Лениным, где что он сказал, каждое слово записывается, вспомни получше, может быть, что-нибудь и сказал, хотя бы самое обыкновенное?
– А что ему говорить с Санькой? – вмешался отец. – Ильич правильно молчал.
– Было у нас и другое. Один старичок взял его за рукав, потянул к себе: «Мне с тобой, Ильич, поговорить надо». И увел его к бревнам. Сели они с ним на бревна и подряд часа два без умолку, то один, то другой. Этот старик Ильичу тогда все пересказал.
Случилось самое обыкновенное, что постоянно бывает, когда соберутся вместе много охотников и друг перед другом начнут рассказывать разные разности: основная мысль, из-за чего все начиналось, бывает потеряна. Ни многочисленные слушатели, ни рассказчики не помнили, что весь сыр-бор загорелся из-за того, что немец Филей, надеясь на свои крепкие мускулы, вздумал по Заболотскому озеру ехать за шарами без проводника и не уладил на Командирову кочку. Я напомнил об этом, и Александр Гаврилыч с большой радостью закончил этот рассказ. Филей, переезжая с плеса на плес, совсем запутался. А солнце между тем поднялось, разогрело воздух, и слепни целой тучей и с великой яростью набросились на Филея. Немец до того испугался этих огромных мух, что бросил лодку и вплавь с плеса на плес добрался до поймы голый, и, когда с версту шел поймой, слепни его добили: пришел, как в морсу. Нашли его лодку, привезли одежду. Понемногу отжил и просит: «Покажите мне русскую печь!» Показали, он подивился и срисовал. Еще просит: «Покажите мне русскую баню». Привели его к бане. Срисовал он баню. «Теперь, – говорит, – запрягите лошадь, я поеду». – «А как же шары? – спрашивают его, – можно поехать». – «Нет, – говорит, – не хочу, мухи там очень большие».
IX
Обнажение приема
На этом месте моя работа по восстановлению пережитого на Дубне в поисках раскрытия очень волнующего меня смысла существования реликта ледниковой эпохи, этой редчайшей, необыкновенной Клавдофоры, внезапно оборвалась: меня вызвали для заключения договора на второе издание собрания моих книг. Я воспользовался случаем, собрал крупнейших писателей и прочитал им всю «Журавлиную родину», главу за главой, от юбилея Максима Горького и до плеса Ленина. Чтение заняло почти три часа, но слушали меня очень внимательно. Мне очень хорошо читалось, и я уже начал было про себя понимать это внимание в пользу моей работы, как вдруг что-то случилось в то время, когда я от глав, посвященных самоисследованию в творчестве, перешел к движению своей экспедиции для исследования края Дубны, а шарообразная, изумрудно-зеленая Клавдофора напомнила всем книгу сказочного моего путешествия по Северу за колобком. Начиная с главы «Константиновская долина», читать мне стало не только легко, а волшебно приятно, как будто после езды на недурной, впрочем, телеге с железным ходом и по неплохому шоссе я сел в мягкую кабину аэроплана и полетел. В этот только момент я понял, что вниманием к тем длинным, предшествующим действию главам я обязан был исключительно культурности писательского общества. Червячок сомнения гложет теперь меня и относительно успеха второй части: показалось, конечно, гораздо лучше, чем есть, потому что внезапное облегчение чтения всем напомнило близость всегда отличного ужина нашего хозяина, тоже, как Заболотское озеро свою Клавдофору, сохранившего в реликтовом порядке все очарование простодушного и щедрого древнерусского гостеприимства.
Когда чтение кончилось, милая женщина, соединившая чудесным образом в себе даровитого поэта, заботливую мать и отличную хозяйку, пригласила нас в столовую. Некоторое время все молчали о моей работе, но когда голод и жажда были утолены вполне достаточно, один очень опытный литератор, большой мастер, решился высказать первую мысль о моей работе. Он сказал:
– Это обнажение приема.
Я был поражен, уязвлен. Моим побуждением в работе были непорядки в творчестве родной страны, жестокая обида за обвинение в жречестве и заговоре молчания, мною руководил отличный задор превратить свою защитительную речь в художественное произведение. И после всей трудной работы, оказывается, я своим произведением только иллюстрировал моду формального метода. Я был так наивен, что сказал формалисту:
– Честное слово, я не читал Шкловского и работал своими собственными приемами.
Очень умело скрывая даже на бритом лице тончайшую улыбку, формалист мне ответил:
– Честного слова нет у художника, вернее, оно есть, но тоже как прием. И чего вы волнуетесь, у вас вышло очень недурно, после оживленных и современных рассуждений о творчестве обрыв в Константиновскую долину с этим озером и Клавдофорой, в гущу народа, в трактир, вышел прямо блестящим. Несомненно, это удалось благодаря только обнажению приема. Лет пять тому назад я сам пробовал использовать этот превосходный прием в одной своей повести…
Пришло время и мне подумать о своих усах, чтобы не очень дрогнули от улыбки: настолько все-таки я понимал формальный метод, чтобы его раскрытие приемов ценить за невозможность после того их использовать, за стимул к исканию своего совершенно нового приема.
После формалиста сказал блестящий драматург, благодаря своему большому натуральному таланту, вероятно, никогда и не думавший о каких-то приемах.
– Я признаю твою вещь очень хорошей, но только с тех страниц, когда забыл я об ужине, а все эти рассуждения о творчестве… это не искусство.
Тогда выступили друзья в защиту меня. Один привел в пример «Бесы» Достоевского, где вначале тоже идут многие скучные страницы. Зато как захватывает чтение после них! И сколько всего талантливого, блестящего можно отдать за эти человеческие страницы!
– Ведь только тут вначале, – говорил он, – автору есть время пожить, как человеку, потом он неминуемо должен исчезнуть в своем авторстве.
В заключение один добрый приятель, стараясь примирить тех и других, сказал мне:
– Тебе надо весь груз твой как-нибудь переслоить.
Потом, уже очень подобревшие от еды и вина, все стали удивляться моему изображению быта, и сам формалист тоже обласкал меня такими словами:
– Я теперь понял, прием родился бессознательно, и этим вы отличаетесь от тех, кто пользуется им как рецептом. Вероятно, и я потому не дописал свою повесть. Вы не со Шкловским в родстве, а с Тиком, автором комедии «Кот в сапогах». В этой комедии обнажение приема проведено во всем блеске, у вас немного неуклюже, по-русски…
– Я тоже думаю, – сказал Вячеслав Шишков, – вам надо переслоить густоту.
X
Журавлиная радость
На горох нет собственности в русском народе, и даже в посевной молитве своей старинной крестьянин просит у бога урожая на всех, в том числе и на долю воров. Часто указывают тоже на яблоки, но это неверно, воровство яблок пришло от оскудения. Мне однажды довелось быть в одном селе, где у каждого крестьянина был хороший яблочный сад, не было там воровства, совершенно так же, как и в Германии. В среднем у нас и раньше было, и теперь продолжается без больших перемен прочная собственность на предметы среднего достатка, а лишняя против всех вещь держится у хозяина его внешней силой, но не внутренним убеждением сограждан. У меня эта вещь – лодка «Ботик», описанная мной в книге «Родники Берендея». Зимой на лошадях я перевез ее из Переславля на Дубну, и с тех пор нет мне покоя. Оно и понятно: на большом Переславльском озере моя долбленая лодка кажется маленьким челноком, здесь же лодки такие, что и одному надо очень осторожно сидеть, и моя лодка, способная везти до восьми человек, всем завидна. Зато вот она и не живет у меня. Приходишь к месту, говорят: рыбаки взяли. Это не обидно, подождешь возвращения рыбаков и возьмешь контрибуцию рыбой. Явится экскурсия, опять успокоишь себя полезностью дела. Даже озорник, даже пьяненький выехал и наслаждается собственным пением в тростниках: «конница Буденного» – все я терпел, все было хорошо. Но случилось, прихожу, нет лодки. «Кто взял?» – «Женотдел». Без спроса взял Женотдел мою лодку! Грубым людям все я прощал, но грубости от женщин не вынес, какой-то древний инстинкт борьбы проснулся во мне, и я запер эту лодку в сарае у попа в Константинове. К этому попу в Константинове теперь я и командировал человека, сам оставаясь в трактире у Ремизова. Вьюнок – такое было деревенское прозвище посланного – скоро явился с длинным зеленым веслом в руке, босой, в мокрых штанах, но в хорошем пиджаке. Еще более странным казалось, что седеющая голова его была острижена бобриком, и оттого очень загорелое лицо его напоминало мне не то голову какого-то знакомого боевого генерала, не то галерного раба на картине Иванова. Мы не дошли еще до лодки, как этот лукавый Вьюн стал пробовать на свой оселок мое политическое расположение мыслей. Устарелое в быту название большевики, везде ныне смененное коммунистами, повторялось у него на каждом шагу. Надоедливый, неискренний зуд наскучил мне. А когда он заговорил о религии в том смысле, что не дают вовсе богу молиться, я резко оборвал его:
– Кто может запретить молиться богу про себя, при чем тут большевики?
Вьюн переменился в одно мгновенье.
– А я разве против советской власти?
Я повторил его слова и спросил:
– Как же иначе понять?
Вьюн думал очень немного и ответил:
– Конечно, скрывать нечего, я борюсь против власти, но я же за нее и стою. Вы что на это скажете?
Возражать было трудно. Мы сели в лодку. Взяв рулевое весло, я сказал:
– Ну, с богом!
Вьюн очень обрадовался и принял мое с богом к сведению.
– Вот пустяки какие, – сказал я, – это просто поговорка.
– Нет, не просто, – покачал Вьюн головой, – это вода.
– Что?
– Так: в Крещенье воду мы всегда освящаем, вот отчего все на воде и поминают бога. Тут охотился один высший коммунист, все на свете отвергал, а когда в лодку садился, непременно, бывало, скажет, как вы: «Ну, с богом. Вьюнок!»
Мы поехали низкими берегами Константиновской долины, исстари знаменитой у охотников своими бекасами. В иных местах говорят: «Тут можно пройти только в болотных сапогах», – здесь же я слышал не раз: «В сапогах тут никак не пройти», – и это значит, что идти надо голому. Набежала тучка, дождь смешал в Дубне воду, а в стороне зеленых болот опустился конец яркой радуги, осветил подробно деревенское стадо. В свете конца радуги было видно, как неопытный, вероятно нездешний, вздумал идти в болотных сапогах коровьим растопом, вмазался в растоп, беспомощно переводил дух, а двадцатипудовые туши коров возле него своими тонкими ногами легко прокалывали болотную замазку. Но особенно хорошо было отличному коню, на котором без седла ехал мальчик; своими стальными ногами, как шилом, конь легко, свободно прокалывал замазку, шел почти грациозно. Тоже и девушка, высоко задрав юбку, подобно животным, не стесняясь, успешно пересекала болото. Все под яркой радугой было красиво, и даже человека застрявшего не очень было жалко: сам виноват, зачем по такой теплыни шел в сапогах.
Продвигаясь вперед по Дубне, я перекидывал с холма на холм свою радугу, стараясь в личности Алпатова найти примиряющий момент многовековой работы ледника над землей и всемирной цивилизации над примитивными народами. В моих глазах при этом постоянно является под радугой голоса моего лодочника, очень похожего, я теперь убедился, не на боевого генерала, а на галерного раба. Какое разделение! Я не могу ему доверить ни одного моего внутреннего движения, потому что, лукавый и злой, он все переврет и предаст меня. Это природный хищник. Когда озеро спустят, он мечтает не о Золотой луговине, а что караси ему достанутся. Ему перепадет от инженеров за разборку плотин. И если хоть немного пообсохнет возле его дома, а других зальет водой, он будет стоять за спуск озера. К себе в книжечку я записываю:
Вьюн делает Алпатову массу гадостей, представляя его себе обыкновенным барином или интеллигентом, но Алпатов все его шаги предусматривав! и заставляет отлично работать.
Была очень короткая встреча с открытой долиной под радугой. Скоро мы въехали в дикий болотный лес. Часто ольха, обвитая хмелем, совсем закрывала нам путь, на плесах лодка визжала по телорезу, топила множество цветущих кувшинок. Берега были жидкие. С трудом мы устроились на сплетении обнаженных корней и, задыхаясь в дыму костра, спасались так всю ночь от комаров. После долгой борьбы все-таки на какой-нибудь час удалось мне заснуть. Вот наконец-то спит мой разум и вместе с ним воля. Но сердце работает и ночью без отдыха, создает сновидения. Не верю толкователям снов. В этих извилистых тропинках своего сердца только я один сам для себя что-то понимаю, никого не могу взять с собой на прогулку и никому об этом не могу сказать, потому что спит мой разум, нет слов. Только в момент, когда разум просыпается и разбирается в материалах всю ночь отдельно работавшего сердца, можно воспользоваться этим и что-то дорогое для всех понять в этой заутренней дружбе разума, воли и сердца. Не отсюда ли взялась у людей мысль о предустановленной гармонии? Не тут ли и мне искать согласования ледниковой работы с цивилизацией, объединяемых творческой личностью Алпатова? В этот предрассветный час клочки сновидений расстилаются туманами, и потом все из себя переставляется в мир и оттуда обратно в себя, и так ясно по ощущению озноба постепенно на рассвете мир является, как тело мое, и все мое тело, как дом восходящего солнца.
Все думают, будто рассветает, белея на востоке, но это неверно: белеет значительно позднее того, как восток стал отделяться от всего неба. Начинает немного рыжеть, как бывает в дороге темной ночью, заметишь рыженькое и станешь спрашивать, не в той ли стороне электрический город. Рыжее электрическое небо, постоянно висящее над городом, происходит от слабости искусственного света, потому и на востоке в предрассветный час небо, освещенное самыми отдаленными солнечными лучами, сначала рыжеет. Но в лесу от этого перемены нет никакой, там все еще это утро считается за глухую полночь. А самому очень занятно думать, что понял рассвет раньше всех птиц и зверей.
Я приставил ладони к ушам, как делают охотники, расслушивая отдаленную начальную песнь глухаря, и разобрал трепетание листиков. А везде была тишина. По моему примеру, Вьюн тоже приставил ладони.
– Слышишь?
– Слышу, – тихо сказал он, – где-то осина трепещется.
Вдруг пикнула та самая птичка, по которой весной охотники узнают приближение глухариного часа: весной она поет, теперь только пикнула. Трепет осины был слышен без напряжения слуха, и рыжее пятно на востоке стало быстро белеть. Померкли звезды. Ночь разделась. Показалась и наша осина. Все одежды скинула ночь, в себе стало знобить, в мире ложилась роса. Тогда утро взялось нас всех одевать в голубое и красное. Крикнул первый журавль на первом гнезде, и ему ответил журавль на втором, потом на третьем. Я сосчитал, насколько только хватал мой слух, гнезда всех журавлей на их родине по Дубне, и, когда солнце показалось, они кричали все вместе.
XI
Замошье
Встреча с хозяином тростников произошла у нас на одной заводи, такой тихой, что, когда лодка коснулась береговой травы, этот шум побежал от одной тростинки к другой, как волна, и встревожил хозяина тростников. Верней всего, он подумал на лисицу, оставил гнездо на островинке, раздвинул тростники и выглянул. В это время мы были от него всего в десяти шагах. Батюшки мои, как растерялся хозяин тростников, встретив лицом к лицу хозяина всей земли, как оторопел, смялся, побежал неудачно между водой и тростниками, чуть там не запутался крылом, и когда наконец-то справился, поднялся над плесом, то все-таки и в воздухе у него осталось что-то вроде смущения: «Вот так попал!»
С этого плеса по быстрику мы вошли в узкую борозду, канал, сделанный в болоте людьми. Продвигаясь бороздой, мы пересекли узкий, такой заросший ольхою проток, что сверху никак бы не догадаться о воде, а между тем было это основное русло самой Дубны! Встретив Дубну, мы все-таки продолжали ехать бороздой и скоро попали на возделанный остров среди пойменных зарослей. На этом небольшом, вероятно тоже ледникового происхождения, острове расположилась деревня Замошье. Рассказывают, будто когда-то здесь поселился лесной сторож, размножился, и так стала здесь деревня. Человек по человеку, полоса за полосой, пришли к самому краю, к зыбучему болоту над глубиной, ни хлеба взять, ни скотину пустить. Земли-то, конечно, нарезали, да где: за болотами! Но люди все-таки приладились. Изрезали пойму бороздами, по этим каналам стали плавать: человек едет на лодке, а скотина за ним терпеливо плывет, постегивая слепней своим благодатным хвостом. Теперь хоть не насквозь, как везде, хоть не проехать по дороге, но въехать в Замошье можно на лошади. Гать эта сделана отлично, с мостиками, с прочной насыпью, прямая на версту, как стрела: инженер делал.
Я тут не один раз бывал на утиных охотах. На этих плесах возле Замошья у меня явился впервые задор создать Алпатова таким, чтобы его инженерное цивилизаторское дело являлось естественным продолжением начатого без нашего ведения творчества самой природы. Как трудно передать эти неясные тени чьих-то, вероятно, отчетливых мыслей.
Бывало, сидишь в челноке на плесе где-нибудь под кустом, из воды торчит телорез, на воде лежат белые бальные лилии, над головой сабли тростников и их черные шишки вроде снарядов, утята посвистывают, чего-чего нет! И вот приходит в голову как бы воспоминание с догадкой, что все это было в себе, что все это я сам раскинулся и вижу себя в своем происхождении. Придет ли такое чувство на Кузнецком мосту, а между тем случалось в тот же самый день с плеса показываться на Кузнецком, и тогда мне лица толпы являлись как реликты постоянного творчества человека, и среди них, как в тростниках, я узнавал свое лучшее в его происхождении, отчего возникал к чужим людям интерес и, пожалуй, отчасти любовь. Алпатов должен выразить собой мое возможное лучшее. Но как это сделать, если я только словесник, а у него деловое преображение мира? Задетый в себе, в своей словесной самости, я мысленно возвращаюсь в Замошье и там открываю неиссякаемый родник удивительных слов и в них понимаю дремлющие планы великого действия; так болотный торф, с виду грязь, хранит в себе солнечную энергию, способную множество лет приводить в движение жизнь большого города.
Последний раз, помню, приплыл я сюда протоками на челноке, чтобы гатью пройти в Замошье и посмотреть эту новую дорогу, о которой на все лады говорили в этом крае. Вез меня известный охотник Максим Трунов, человек, по-моему, прямо возвышенный, всегда восторженный, честный на редкость и не бедняк. Крайне удивительно, как мог сохранить натуру свою человек так недалеко от Москвы, но здесь этому, когда говоришь, никто не удивляется: «Бездетный, – говорят, – эко диво кормить себя да жену, так-то мы бы все хорошими были». Вот этот дядя Максим в мой последний приезд презабавно рассказывал мне, как он спас спекулянта.
Было это, когда гати и в помине не было, а торговля уже началась и по миллиону платили за одного карася. Приехал рыбный спекулянт и просил свезти его к рыбакам в Заболотское озеро. Случись как раз тут щучий бой. Дядя Максим поехал на бой, а спекулянта отправил на челноке с девочкой племянницей. И только выбрался дядя Максим своим протоком на плес, с соседнего плеса, слышит, кричит его девочка, будто спекулянт ее режет, благим матом кричит: «Помогите!» Трунов знал один скорый узенький быстрин, веслом пропихался и мигом приехал на место. Видит он тут, над водой две головы держатся, девочкина и спекулянтова, оба руками за ольховые ветки схватились, и оба орут. И правда, как не кричать, челнок утонул, и им деться некуда, берег хуже воды, жидкая грязь, и под грязью опять глубина. Поплыл Трунов скорей спасать девочку, а спекулянт хвать рукой за край, и в челнок сразу хлынула вода. Но вовремя дядя Максим успел дать веслом по руке и занесть над головой спекулянта: «Пока девочку не спасу, терпи, тронешься, дам по лысине веслом и не воскреснешь».
Посадил девочку, с большим трудом погрузил спекулянта, весь он посинел.
– Какая природа у них, – сказал дядя Максим, – лежал в челноке чуркой, в избу ввели под руки, потому в весенней ледяной воде человек окочурился. Сел он на лавку, голову опустил и слабым голосом просит:
– Дайте веревочки.
«Что за диво, – подумал, – может быть, он это со страху просит: „веревочки“».
– Водочки, – спрашиваю, – хочешь?
– Нет, – говорит, – я водки вовсе не пью, пожалуйста, дайте мне поскорее веревочки.
Принесла ему жена какой-то обрывок.
– Мало, – говорит, – дайте мне побольше тонкой бечевы.
Принесли ему бечевы. Просит гвоздиков.
«Ну, – думаю, – конечно, рехнулся: вешаться хочет». А жена все-таки дала ему гвоздиков. Тут вдруг он и ожил да как забегает по всей избе, с гвоздика на гвоздик проводит веревочки. Напослед вынимает из всех карманов мокрые пачки и ну развешивать по веревочкам, тысячи, миллионы, миллиарды; весело стало в избе: везде синенькие, красненькие, зелененькие бумажки, и он все бегает, дует и сушит, дует и сушит.
В Замошье все знают, как Трунов спасал спекулянта, и много всего другого расскажут, я целый короб таких рассказов собрал в последний приезд, пошел новой гатью очень богатый, и тут из-под своего словесного богатства особенным каким-то глазом увидел я длинную гать, шел по ней целую версту и думал о счастье.
Какое, правда, это было событие, когда впервые открылась дорога и скот не поплыл, а пошел весь вместе, женщины выбрались из домов все до одной, как в других деревнях, при этом случае были с хворостинами, кричали, как и везде, спорили, скот ревел. Какой это был праздник в Замошье, какие светлые лица были у женщин, как радостно ревел скот! Много столетий тому назад у других людей начались дороги шоссейные, потом пошли дороги железные, на реках загудели пароходы, в воздухе показались аэропланы. Банкиры, летая по воздуху, по беспроволочному телеграфу давали сигналы и делали распоряжения в свои конторы. Так много стало всего, что способность удивляться покинула мир и радости от полетов было так мало: в кабинах так сильно качает. Наконец, чтобы скоротать скучный полет, стали по радио вызывать световые изображения знакомых и близких людей. В это время цивилизация достигла Замошья, граждане получили гать и вот как ей обрадовались, вот как заревела скотина.
XII
Старая Дубна
На заре моего сознания в русском обществе цивилизацию представляли себе не по Шпенглеру, а шли от Глеба Успенского и его знаменитой керосиновой лампы, лампа – цивилизация, а что у Шпенглера называется культурой, то понималось в поэзии утраченного лучинного быта. Моя жизнь, как мне кажется, вышла исключительно счастливой в том отношении, что ответ на загадки и шарады не откладывался, как в журналах, до следующего номера, а тут же в этом самом номере моей жизни приводились ответы, с наградами и без наград за верные решения, с наказаниями за неверные, не розгами, как нам грозились, а прямо бамбуковыми палками, о каких и не снилось нашим наставникам. Так на заре сознания усвоил я себе восхищение перед лучинным бытом и ненависть к штампованной керосиновой лампе. Эти чувства были неверны, я понес за них наказание; пришла такая жизнь, вовсе исчез керосин. Простому народу хоть бы что! в один миг народ вспомнил и многовековые навыки, явилась лучина и с нею лучинные песни. В деревенской школе при лучине я занимался с учениками, и у меня беспрерывно болела голова не от копоти, а от вдыхания тех неприятных газов, которые выходят из нагретого моста лучины перед тем моментом, когда огонь его схватит. Бывало, простая фитюлька, почти лампадный по силе света керосиновый огонек, сравнительно с лучиной, признавался за счастье; бывало, достанешь в городе бутылку керосина, тащишь ее пешком вместе с пайком овса и, представляя себе впереди уют за книгой, освещенной фитюлькой, прославляешь керосин. Запах керосина, когда-то один из самых неприятных, стал самым хороши?.! с ним стало связываться здоровье и свет. И это не один керосин. Кумач, кожа, дрова, махорка, зажигалки с какими-то австрийскими камешками, нитки, всякое вещество, необходимое в жизни, будучи в предельно малых количествах, вступило с нами в самую интимную личную связь и через то как бы перестало быть отдельно от нас в предметах цивилизации, вроде того, как сейчас для меня аэроплан, летает по своим неведомым мне делам, – предмет цивилизации, но если бы я мог сесть на свой аэроплан и полететь, куда мне только захочется, то в личном моем отношении исчез бы аэроплан, как типичная вещь современной цивилизации, и стал бы одним из добрых духов культуры, помогающим мне создавать эту книгу: я бы то и дело шнырял бы на нем в Москву, в библиотеки за справками.
Есть в этих предельных испытаниях чувство единства того, что мы привыкли разделять на живот и душу, или материю и дух. Я это чувство берегу в себе, как смысл всего пережитого, но иногда кажется, что все я это надумал себе в возмещение унижения. Часто в пути приходят вопросы, решение которых в ту или другую сторону так обидно зависит от ничтожных, переменных до крайности величин повседневности. А бывает, от столкновения противоположных решений просто бессмысленно начинаешь глядеть перед собой: что-то непременно в таких случаях происходит вне меня занятное, я вникаю, увлекаюсь, и совершенно незаметно для себя те оставленные вопросы, должно быть, как-то входят в события внешней жизни, а то совпадения бывают столь поразительные, что для объяснения их пришлось бы обращаться к необходимости признания чуда. Но, бывает, вопрос опустится куда-то в себя, и лет через десять находишь его в себе как совершенно ребяческий. Так было со мной на этом острове, заселенном потомками лесного сторожа: что-то близкое почудилось мне тут, на диком острове почти под Москвой, и куда-то осело…
Непривычный глаз даже и не заметит выход с этого острова, таким странным покажется, что рожь, спускаясь с холма все ниже и ниже, переменяется на хвощи и осоку, а болотно-травяной покров сменяется густыми кустарниками, и возле лих, как будто без признаков воды, лежат челноки. Это исады, старинное название пристани. Лодки спускаются в небольшую лужу, продвигаются с силой по траве, входят в кусты, и там что-то есть, какая-то очень капризная полоска воды.
Довольно тяжелую мою лодку не легко было стронуть. Мы только взялись было за корму, к нам подошел и приветливо поклонился среднего роста молодой человек с портфелем в руке. Лицо его было чисто крестьянское, заветренное, нехоленое, неправильное, как можжевельник, но глаза некрестьянские и не совсем городские, это были особенные глаза с двойным светом.
У больших дипломатов и тонко образованных политиков необходимость скрывать от всех государственную тайну стала второй натурой, выработалась сложная внешность обращения, часто очаровательного для непосвященных в дело людей. У нынешних дипломатов и политиков из простого народа это выражается на лицах особенным откровенным двойным светом в глазах. Неизвестный молодой человек отрекомендовался мне секретарем ячейки. Я назвал свое имя. «Знаю», – сказал он и попросил у меня разрешения поехать вместе на лодке: ему тоже давно хочется посмотреть на работу экскаватора.
Всякому охотнику, наверно, на всем свете не очень приятны глаза с двойным светом, но портфель странным образом возбудил во мне чувство большой симпатии: это был совершенно затрепанный, рыженький не от краски портфель, а от ветров и дождей, и такой худенький: по-моему, там не могло быть ни одной бумажки. Верней всего, мне эта жалость к портфелю перешла от гоголевской шинели, по литературной традиции. Но и всякий нелитератор мог пожалеть: не легко было, судя по затрепанному портфелю, обладателю его работать в этих болотных местах.
– Почему вы с портфелем? – спросил я.
Секретарь ответил:
– Иду с пленума.
Он сел на лавочку против меня и, выломив себе большой кол, стал подпираться о болотные кочки и помогать Вьюну в продвижении лодки.
Как ни худ был портфель, но кругозор секретаря был неизмеримо велик в сравнении с кругозором Вьюна и всех местных людей. Мы могли объясняться с ним даже цифрами, выяснить себе, что весь водосбор потопленного края приблизительно равняется ста двадцати тысячам десятин, и вместе догадываться о том великом дне, когда экскаватор прорежет новое русло, сложит новые берега магистрали, население покроет болота сетью боковых осушительных канав и мертвая болотная вода убежит по веселой Волге в далекое Каспийское море.
– Экскаватор – это самый лучший агитатор советской власти, – говорил мне секретарь.
Я же говорил о далеких днях геологической истории, когда еще в этом краю могли расти лавры, перешел к часам ее, когда надвинулся ледник, все уничтожил, все перерыл, перехолмил, стал отступать и опять потеплело – один час благодати! И опять все замерзло, и опять – еще час! Ледник отступил, и началась последняя секунда в жизни земли: наша человеческая культура.
– Только одна секунда в сравнении со всей жизнью земли! – сказал я.
Двойной свет у секретаря мало-помалу исчез: он учился, понимая, что попал счастливо в общество какого-то великого спеца. Но Вьюн, словно за живое задетый, вдруг воскликнул с откровенной злобой в зеленых глазах:
– Не может быть, не верю!
– Это не мои слова, – сказал я, – сотни, тысячи ученых работали, десятки тысяч книг об этом напечатаны на всех языках.
– Ну что ж! – воскликнул Вьюн. – Я и в радио не верю.
Секретарь стал терпеливо рассказывать ему о радио, доказывать, приводить множество примеров, когда неверящие мужички нарочно вызывались в Москву и оттуда по радио разговаривали со своими односельчанами.
Но мне во время этого длинного и не совсем ясного объяснения стало показываться, что секретарь уже стал позабывать тот мир, из которого сам только что выбрался. Мог ли Вьюн серьезно отрицать подлинность радиопередачи, если сто раз бывал в Москве с живыми карасями и на всех площадях слышал громкоговорители. Усмехаясь, слушал он объяснения и после, когда секретарь приутомился, подлил масла в огонь:
– Радио радием, а я и в воздух не верю!
– Воздух, – спросил я, – которым мы дышим?
– Нет, – ответил Вьюн, – что дышим воздухом, этому верю, а что он состоит…
– Состоит из кислорода, азота и паров воды?
– Вот, вот! – обрадовался Вьюн. – Я верю, что мы дышим, и не верю, что состоит. Не верю тоже в секунду.
– Какую?
– А вот вы сейчас говорили: человеческая жизнь только секунда.
Вьюн, для меня совершенно понятно, издевался над ученым секретарем, но широкий человек, занятый большими вопросами человеческой общественности, не догадывался о насмешке злого человека. Все выходило легко и занятно, веселыми въехали мы наконец по быстрому течению протока на широкий простор Грибановской Дубны. Я опишу эту прелесть не скоро, когда машина сложит новые прямые берега магистрали. Нет! Кто знает? Быть может, от этого болото лишь немного осохнет и вместо нынешней полезной густой осоки вырастут редкие, несъедобные, бесполезные хвощи, население будет недовольно, быть может, даже взбунтуется, когда его заставят рыть осушительные канавы, и мое воспоминание прелести Старой Дубны подольет только масла в огонь лени и невежества. Хватило бы только веку! Я дождусь того времени, когда не один на всю страну старенький, амортизованный плавучий экскаватор, а тысячи их поведут победное наступление, как некогда паровоз и пароход повели наступление в прежней Америке. И когда все будет осушено, я напишу воспоминание о прелести Грибановской Дубны, чтобы люди, тоскуя об утраченном, воскрешая его творчеством, стали создавать новый, прекраснейший мир. Теперь об этом писать невозможно. Неверящий Вьюн зелеными насмешливыми глазками глядит на меня. Я должен защищать и рыженький портфель секретаря, и старенький, амортизованный, единственный на всю страну плавучий экскаватор.
Берега Грибановской Дубны ушли от нас не так далеко, чтобы мы остались с одною водой, можно было различать под сенью нависших непроходимых зарослей широкие заводи, покрытые водяными лилиями, и белоснежными и золотыми, в заводях был настоящий бал цветов, среди них я мог узнавать не только больших птиц, но маленькие головки утят, цапля стояла, как, бывало, директриса женской гимназии на нашем детском балу. И все это в отражениях на тихой воде доходило почти до меня. Хороши были тоже под нами, в глубине Дубны, небеса. Любуясь про себя, я представлял, что мы летим на аэроплане выше небес, и сочинял письмо другу без имени, как будто я с аэроплана пишу.
– Какая красота! – сказал секретарь.
В это время одна из красивейших наших птиц, лирохвостый косач перелетел Дубну с берега на берег, из леса в лес.
– Вот тетерев! – сказал я секретарю в ответ на его «красота».
Он очень обрадовался:
– Так вот он какой! – Улыбаясь, секретарь сказал: – А они тут порядочные.
Вьюн равнодушно ответил:
– Тетерева везде одинаковые.
Я указал секретарю: «Вот кулик!» – эта птица, совершенно как детская игрушка, вечно качается. Потом указал на птицу с голубыми крыльями: «Вот сойка!» Хороша была, как всегда, цапля. Одна большая щука прошла внизу, подводной лодкой, а маленький щуренок, вероятно спасаясь от нее, а может быть, сам в погоне за какой-то добычей, выпрыгнул в воздух и угодил прямо в лодку к нам.
Секретарь был как маленький восхищенный ребенок, коренной деревенский человек как будто впервые встречался с природой и непрерывно о всем восхищенно говорил:
– Красота!
Мне это было не в первый раз: деревенские, кроме рыбаков и охотников, в этих формах проявлений поэтической силы вокруг себя не видят природы. Так и я сам, застигнутый врасплох, ни за что не скажу, какие в моей комнате цветы на обоях. Так московские люди не видят джунглей в Московском Полесье. От родины, от привычного надо уйти, чтобы видеть ее. И, может быть, потому я и почувствовал с первого взгляда симпатию к рыженькому портфельчику: он отрывал секретаря от деревни и теперь заставлял всему удивляться.
XIII
Новая Дубна
Старший механик не алпатовского, а действительно работающего на Дубне экскаватора, Михаил Парфеныч Пафнутьев, не умеет кривить душой, его пальцы с карандашом нервно дрожали, но ответы давал мне он только правдивые. А между тем кому бы, как не ему, похвастаться перед сотрудником газеты. Это он с мандатом Ленина во время гражданской войны при переменных правительствах почти что выкрал машину на Дальнем Востоке и с Амура огромную тяжесть доставил сюда, на Дубну. Ленин так рассчитывал, что только в Центрально-промышленной области найдется достаточно подготовленных культурных сил для начала индустриализации и сюда, как там на Дальнем Востоке и ни была бы полезна машина, она должна быть непременно доставлена.
Вот Михаил Парфеныч и доставил машину.
Я с тревогой спросил:
– У нас много теперь таких машин?
Он с дрожанием пальцев ответил:
– Единственная.
– Машина, верно, потрепана?
– Амортизована.
Я смешался, но он объяснил, что это ничего не значит, все части теперь уже новые, и если одна сломается, на ее место становится другая. Есть другая и настоящая опасность: если утонет.
– Вытащат, – сказал я.
– А как из торфа вытащить?
И пальцы его задрожали.
Правда, как вытащить? И на всякий случай я запомнил это себе, и потому что – кто знает? – Алпатов может попасть в такое положение, что ему придется расстаться со своею мечтой открыть людям Золотую луговину, и в таком случае он может утопить экскаватор. Так я через Михаила Парфеныча вошел в интимно-тревожную творческую, а не рекламную сторону дела. Но когда мы с последнего заколдованного плеса Старой Дубны, ничего не видя впереди через густейшие непролазные заросли, услыхали совсем близко свисток экскаватора, радость наша не давала места никакому раздумью. Мы поспешили, налегли, продвинулись и встретили перед собой плотину. После небольшого замешательства мы нашли удобное место и волоком перетащили мой ботик через плотину. Тут мы сразу увидели новые берега и это большое деятельное существо, экскаватор, вечно гремящий своими цепями. Над кустами плотно сросшейся черной ольхи, укрывающей аршинные кочки, была занесена огромная железная рука с маленьким ведром, которого вес, однако, как оказалось, был сто пудов. Железная рука наклонилась к воде, погрузила в пучину ведро, достала, понесла в сторону. Там, где вода переходила в довольно жидкий болотный берег. рука остановилась, дно вывалилось из ведра, на старый болотный берег свалилась небольшая кучка торфа, а дно снова захлопнулось. Снова рука погрузилась в воду и к первой маленькой кучке прибавила еще столько же. Через шесть таких поворотов железной руки на наших глазах прибавилось нового черного берега на одной стороне, потом рука перекинулась на другую сторону и, погрузившись в пучину шесть раз, и на той стороне сделала такой же кусочек нового берега.
Нас устроили в моторную лодку. В сопровождении молодого инженера мы помчались в новых черных, прямых как стрела берегах. Есть своя красота в этих прямых каналах, везде это красиво. Но в культурных местах можно задуматься о происхождении такой красоты, потому что в природе прямого нет ничего. Здесь же после Старой Дубны некогда было задумываться, прямая линия преобразующей человеческой воли естественно присоединялась к делу природы и завершала его. Прямая линия магистрали сложилась из множества маленьких линий, пересекающих петли Старой Дубны. Мы постоянно встречали эти отрезки старицы, посылающие последние капли в русло новой реки. Там была картина полного разрушения старого мира. Ольховые заросли, когда-то задумчиво склоненные над утиными плесами в цветах, теперь с обнаженными корнями висели, некоторые просто валялись. Дно плесов обнажилось, на нем лежали желтеющие, как поздней осенью, тростники, камыши и разные болотные травы – все это когда-то задорно-напряженное войско с острыми штыками и саблями. Я никогда не утомляюсь дивиться на старых речках белым кувшинкам, никакой лотос для меня не может сравниться с этим волшебной белизны, простым и необычайно торжественным цветком, слова любви, обращенные к полевым лилиям, я про себя переиначиваю: взгляните на лилии водяные… И нигде я не видал такого множества этих лилий, как на Дубне. Теперь на мертвых осохших плесах подводные части этих растении толщиной в руку, свернувшись, как кишки большого животного, иногда желтого, синеватого, а то и фиолетового цвета, сиротея, лежали в гнили. От этих обрезов старицы, повисших над водою новой углубленной реки, пахло йодом, как на морских берегах.
Увлеченный быстрым движением на моторной лодке по прямому каналу, я хотя и все замечал, но не очень скорбел о погибающих джунглях Московского Полесья, потому что слишком близка была жизнь крестьян на острове в Замошье, обрадованных чрезмерно каким-то обыкновенным мостом, соединяющим скотину с лугами. Я верил, что ни одна лилия не погибла вовсе, а непременно воскреснет в творчестве будущего обрадованного человека.
Мы остановились у нового берега посмотреть на одну деревушку, где влияние магистрали уже сказалось на раньше очень топких лугах. Впереди нас по трудной дороге тихо двигался воз с каким-то укрытым рогожей добром. Не замочив даже ног в болоте, мы обошли этот воз, и хозяин подводы сказал:
– Как осохло, раньше бы вам пришлось разуваться.
Секретарь, как ребенок, обрадовался. С того момента, как он увидел экскаватор, я потерял в нем любознательного и восхищенного слушателя по истории нашей планеты: то было, конечно, от нечего делать, теперь мы были у самого дела, все это годилось ему для завтрашнего дня. Вместе с тем появилась и прежняя важная самоуверенность, надулся, и в глазах опять стал двойной свет.
Мы вошли в деревеньку. Собрались мужики, стали нам рассказывать о своем житье-бытье. Вслед за нами въехал и воз. Хозяин из-под рогожи вынул глиняного петушка и на его четырех клапанах ухитрился сыграть песенку. Собрались все ребята, потом показались и матери, чтобы купить им по свистульке. Но петушки, уточки и коньки оказались непродажными, хозяин мог их уступить только в обмен на тряпье. Тогда со всех сторон потащили хлам самого ужасного вида, гниющую мерзость, заражающую воздух, не пригодную ни на что даже в деревенском бедняцком хозяйстве. Мне казалось, в окнах каждой избенки светлело, когда женщина выносила из нее эту Дрянь. А воз все рос и рос. Наконец деревенский санитар очистил всю деревню, все погрузил, покрыл рогожей, затянул воз веревками и тронулся в путь. После него вся молодая деревня свистела на уточках, коньках и петушках.
С восхищением наблюдал я эту сцену превращения рухляди в детскую звонкую радость и сочинял себе гениальную силу, которая сумела бы так же просто преобразить болотную землю в культурную. Не скрою, сам упросил санитара уступить мне одну уточку с отбитым носиком, сам посвистел немного, и сейчас эта прелесть невидимо где-то живет в моем доме, время от времени показывается, и, кто первый увидит, непременно свистит. Но из-за этих очаровательных свистулек я почти ничего не слыхал из беседы секретаря с народом. Помню, однако, некоторые дельные его слова о коллективах, о тракторах и будущем преображении болот работой экскаватора.
Мужики, однако, до того привыкли к речам заезжих ораторов о будущем счастье, что плохо слушали довольно дельные слова секретаря и тоже, как и я, следили глазами за работой женщин по очистке жилищ от тряпья и забавой детей. Но когда секретарь сказал:
– Видите, лужок и сейчас немного осох!
Мужики ответили:
– Не маленько, а вовсе порядочно, благодарим вас.
– Благодарите советскую власть, – отвечал секретарь, – мне же вам, вижу, нечего и рассказывать, экскаватор самый лучший агитатор советской власти.
Он был прав; я подумал: «Пустить бы их сто плавучих и сухопутных, мужики бы закричали осанну правительству». Но как только осанна явилась мне и стало наплывать в душе счастье, вдруг все представилось и с другой стороны: теперь мужики встречают экскаватор, как доброго барина, который им задаром что-то делает, и дружат с ним, пока барин ни к чему не обязывает. Что скажут они, когда экскаватор, прорыв магистраль, потребует от населения больших личных жертв по дальнейшему осушению?
На обратном пути, немного отстав, я решил поделиться своими тревожными догадками с молодым инженером, только что окончившим Тимирязевскую академию. И опять, как у старшего механика, Михаила Парфеныча, встретил я родственное чувство творческой тревоги за дело. Эти реки за тысячи лет своей жизни бездумно нащупывали свой извилистый путь. Они как будто вид только делают, что подчиняются лучшему прямому пути, сделанному рукой человека. Стоит на короткое время их предоставить самим себе, как они возвратятся в старое русло, а магистраль заплывет. Экскаватор, осушая болота на несколько саженей от берега, отличный агитатор только при готовности всего населения дружно взяться за работу осушения. Но если оставить осушенные берега, то, возможно, угаснет даже полезная осока и появятся редкие ненужные хвощи. Что же делать, как заразить население одушевляющей творческой работой? С этим вопросом мы подошли к секретарю, горячо продолжавшему агитацию среди провожающих нас мужиков.
– Как сделать, – спросил я, – как начать, чтобы работа экскаватора не являлась населению милостью барина, а только возбудителем личного творчества каждого крестьянина?
– Нужен коллектив, – отвечал секретарь.
Мужики загамили. Они уже видели примеры коммун, составленных из беднейшего населения. Секретарь объяснил ошибки военного коммунизма. Теперь будут действовать только убеждением.
Мы садились в лодку под шум мотора; я, как всегда в таких случаях, подавленный общими местами речей агитатора и лукавой неискренностью мужиков, намекнул секретарю, что в новой пропаганде коллективов больше надо считаться с квалификацией личностей, составляющих коллектив, притом не надо бы упускать из виду, что всякая живая личность на земле должна пройти, быть может, иллюзорный, но вполне естественный путь личного благополучия…
– Бросьте, – сказал секретарь.
– Нельзя бросать, надо разрешить.
– Это разрешится как-нибудь техническим путем.
У меня было много чего для возражения этому очень распространенному машинному фетишизму. Значительная доля казенного оптимизма, по-моему, именно и паразитировала на этом машинном фетишизме: трактор к нам приедет, трактор нас рассудит… Я подбирал слова для возражения. В это время какой-то крестьянин с косой в руке садился в долбленую лодку, чтобы переправиться на ту сторону, где было известное топкое Калабурдино болото. Может быть, его раньше и не косили, а вот теперь туда едет мужик с косой, не техническим ли путем произошло такое достижение? Секретарь обратил внимание на этого человека и спросил, зачем он едет в такое глухое болото с косой. Объяснение крестьянина было, что корова его не наедается в поле, и ему приходится к вечеру подкашивать травы.
– А прошлый год там не косили? – спросил секретарь.
– Прошлый год, – ответил косец, – я бы там утонул.
Секретарь, весь просияв, ответил мне:
– Вот видите…
А косец продолжал:
– Сами, наверно, помните, какой год был бодливый, у нас там телега потонула и лошадь.
– Это прошлый год, – сказал я, – а позапрошлый?
– Раньше ничего, там постоянно косили.
Секретарь немного смутился. Вьюн, прикорнувший во время нашего похода в деревню на носу лодки, очнулся и вдруг заявил:
– Не верю.
В присутствии мужиков мне не хотелось иметь союзником своим против секретаря Вьюна. Смеясь, сказал я:
– В воздух не веришь?
– Нет, – ответил он, – у вас разговор был о машине.
– Так ты в машину не веришь; она у тебя твоей веры не спрашивает.
– Нет, я верю в машину, только не верю, что техническим путем.
Мои опасения были верными, в темном плуте я получал себе союзника.
– Товарищ прав, – сказал я строго, – научно-техническим путем при народе, организованном в коллектив, можно всю землю преобразить.
– Это что – землю, пустяк! – сказал Вьюн. – Попробуйте-ка техническим путем душу преобразить.
– Ничего нет удивительного, – сказал я, настраивая себя на мужицкое понимание, – в голодное время, бывало, мужик сало привезет из деревни, променяешь ему чего-нибудь, подкормишь душку салом, она и повеселеет.
Всем мужикам слова мои очень понравились, и, казалось, Вьюну ответить мне было нечего. Но как раз тут из деревни долетел до нас отдаленный крик петуха. Вьюн обратил на это внимание и сказал:
– Пускай душку салом, а вот попробуйте-ка техническим путем заставить кричать петуха по советскому времени.
Мы все посмеялись, конечно, и поехали вверх по Дубне к Заболотскому озеру.
XIV
Клавдофора
В потопленный край по Дубне со всех сторон до сих пор собираются вешние воды, и постоянные речки часто бегут не на помощь течению основной реки, а подпирают его, река разливается, и этот постоянный разлив, пойма, с годами становится зыбучим болотом, иногда верст на семь отделяющим человеческое жилье от реки. Один из притоков Дубны, Сулоть, совсем даже не спешит продвигаться болотными, малодоступными человеку лесами, часто совсем приостанавливается, как бы задумывается, и там, где задумалась Сулоть, потом явилось озеро – одно, другое, третье… Так много этих маленьких озер, что их стали называть просто плесами, и только один, последний, огромный, висящий над самой Дубной, называется озером Заболотским, где живет драгоценный реликт ледниковой эпохи, Клавдофора.
Очень трудно углублять торфяное дно Дубны, пересекать прямой магистралью все ее капризные петли, но ничего не стоит бросить в Дубну всю систему озер по Сулоти, с Заболотским прежде всех, с его Клавдофорой и, кто знает, может быть и еще более ценными для науки существами. Тяжело мне было думать, въезжая в Заболот-ское озеро, что через какой-нибудь месяц чья-то техническая причуда обратит этот редчайший памятник природы в десятиверстный непроходимый ковш грязи.
Мы подъехали к болотистому берегу с кустами черной ольхи.
Вьюн сказал:
– Вот тут шары, поглядите.
Сняв шляпу, я заградил ею солнце, сделал тень на воде и увидел на этом теневом месте через прозрачную воду какие-то ядра на дне: совершенно как старинные ядра от пушек, они лежали одно к одному, множество с одной стороны лодки, с другой тоже, лодка тихонечко двигалась, и ядра не переставали. Было неглубоко, всего какой-нибудь метр.
Вьюн опустил туда руку и вынул засверкавшее на солнце круглое зеленое удивительное сердце Земли.
В восторге я закричал:
– Вот настоящий клад!
– Сам думал, – ответил Вьюн, выжимая воду из водоросли.
Привычной рукой сделав это, он положил шар на дно, нагнулся за другим, опять выжал, повторяя при каждом доставании и выжимании:
– Ну разве не диво, сам думал, клад, сам думал…
Однажды пришла ему необыкновенная мысль о красоте, что нет ничего в красоте, а за многое красивое денег больше дают, чем за полезное. От всех, кто только ни приезжал смотреть на Клавдофору, всегда неизменно он слышал: «Красиво, как это красиво!» И так вздумалось ему набрать побольше шаров и поехать ими в Москву торговать.
Он стал с корзиной на Кузнецком, угол Петровки. Сразу окружили его разные люди, и все в один голос:
– Едят?
– Нет, – ответил он, – это не для еды.
– А для чего же?
– Для красоты.
Одни подивились, покачали головой и ушли. Другие приходят.
– Едят?
– Похлебка выходит отличная.
– Почем?
– Двугривенный.
Показалось недорого. Стали бойко покупать. И вдруг городовой:
– Покажи права!
– На это права не берут: эту вещь не едят, не варят, не жарят, она только на удивление, красота и больше ничего.
Взял городовой один шар, посмотрел, повертел, помял, ковырнул пальцем, пожевал, сплюнул.
– Правда, – говорит, – вещь эта для государства бесполезная и налога за нее не возьмешь. Тоже вещь эта несъедобная, себе взять незачем и тебе дать в морду нельзя: вещь мягкая. А все-таки лучше ты с ней уходи.
Вьюн перешел на ту сторону улицы. Собрался народ, и опять этот самый городовой: «Я тебе честью говорил!» Взял корзину, шары выбросил, а публика враз все расхватала.
Со стороны одного островка на озере дунул на меня ласковый ветер и напомнил мне что-то близкое, почти родное, но я не знал, что это ветер напомнил, повернул лицо в другую сторону и забыл. Осталась досада, как после забытого сна, тогда я опять повернулся в сторону ветра, сразу вспомнил Санчо из «Дон Кихота», и все мое путешествие за Клавдофорой представилось, как донкихотское.
Этот рассказ о попытке торговать красотой на Кузнецком ничем не отличался от многих таких рассказов слуги Панчо своему господину. Мне оставалось только пообещать Вьюну губернаторство.
– Вот погоди только, – сказал я Вьюну, – эта Клавдофора живет только в двух местах земного шара: где-то в северном озере Германии и у нас в Заболотье, но наша дороже, наша более южная. Может быть, я напишу о ней, прочитают в Америке, какой-нибудь богач отвалит денег и за шары и за уток…
– Все равно, – сказал Вьюн, – деньги нам не достанутся, утки государственные.
– А приписные угодья зачем? – сказал я. – Пусть ваш кружок охотников припишет себе заболотских уток и будет хозяйничать. В Финляндии на озерах одними лососями деревни живут…
Я увлекся чрезмерно, совсем забывая, что наши Панчи еще раз в десять хитрее испанских. Помню только внимательный жуткий взгляд его и теперь понимаю: он торговал карасями в Москве и теперь днем и ночью видел и ждал, когда обнажится дно и он сразу увезет в Москву всех карасей, еще он готовил швырок для экскаватора, ему хорошо платили за разборку плотин. Вьюн слушал меня и прицеливался, я же слушал сам себя и тоже прицеливался. Когда мы приехали в Заболотье, я устроился на уголку стола с самоваром.
– Погоди, – сказал я Вьюну, – может быть, у нас выйдет скорей, чем мы думали.
И начал писать. Во мне проснулся публицист, который верит в слова, как в силу физическую, и счастье свое находит в действии. Во мне есть эта удаль, но я постоянно себя сдерживаю из-за чего-то, как мне кажется, высшего. Но пришла такая минута, я забыл про Алпатова и того отдаленного друга, кому пишу свой роман. Конечно, я писал с хитрецой, прославляя дело мелиораторов, но я спрашивал, известно ли что-нибудь о спуске озера ученым, которым вверено дело охраны памятников природы. В этой фразе и был мой прицел публициста, потому что не мог же я не догадаться, что ученые тут проморгали, а инженеры их обошли.
Это была маленькая, строк в сто двадцать статейка, помещенная потом в верхнем углу третьей страницы «Известий» под заглавием «Claudophora Sauteri», в скобках под этим было: к делу охраны памятников природы.
Как романист, сколько раз я потом хватал себя за голову, – зачем я так сделал, зачем расстроил спокойное собирание материалов в этом краю и тем, может быть, погубил свой роман, превратив его в повесть о том, как я хотел написать роман и почему он у меня не удался. Но как публицист и охотник я горжусь своим метким прицелом и той наивной простотой, с которой я указывал пальцем ученому: «Погляди, мол, дяденька, у тебя какую-то штуку стащили, не годится ли она для науки?»
Среди человеческого материала в газете сразу бросалась в глаза статья о подводном растении. Меня до сих пор иногда спрашивают милые барышни: «Вы летом в газетах защищали какой-то цветок, скажите, какой он…»
Сейчас, когда я это пишу, лютая зима на дворе. Вчера был мой любимый Солнцеворот, праздник, которым у меня начинается весна света. Приехали ко мне из Москвы гости, и я занимал их своими рассказами о летних скитаниях на Дубне, мне верили, как верят писателю: в том смысле верили, что, если я и приврал что, так оно и полагается в известных границах. Когда же рассказ я свой закончил и принес друзьям на тарелке зеленый бархатный шар в детскую голову, то был один разочарованный голос:
– Я так и знал, выдумал.
Я показал Клавдофору.
– Наверно, сам из чего-нибудь сделал.
К счастью, из гостей моих не было ни одного натуралиста, которые копаются во внутренностях природы так много, что с лица понимать и удивляться разучились. Поэты и художники, узнав, что я не шучу и такое диво существует в природе, стали сначала допытываться у меня, как дети, что там внутри у нее, а потом схватились каждый со своей какой-то думой и долго молчали…
– Не правда ли, – сказал один, – тайна почему-то представляется круглой?
Возможно, никто так из нас не представлял себе тайну, и в один миг поэт нам свое навязал, но так нам всем представилось, что тайна непременно должна быть круглой. Мифологи и филологи стали доискиваться значения слова Клавдофора, и у них выходило это слово от claudo – замыкаю и fero – ношу: носительница тайного, или просто клад.
Мне так помогало занимать гостей своими рассказами, что зеленый клад Заболотского озера переходил из рук в руки. Все они читали мою «Кащееву цепь», все слушали с большим вниманием об Алпатове, и это сочувственное внимание много родило во мне разных приемов для описания Клавдофоры как сердца Земли. Обыкновенный мой охотничий восторг, трепет всего существа на заре при восходе солнца среди росистых трав и цветов, перекличка журавлей, священное упрямство токующего тетерева и что кроншнеп кричит по-итальянски… как это передать? Все это непередаваемое, что при себе остается круглой зеленой иераскрываемой тайной творчества, буду я называть Клавдофорой. Но и крик журавля, если я буду отмечать какими-нибудь словами, и это итальянское кроншнепа – «Viv!», и нарушающий тишину ночи при первом рассвете трепет осины я буду только потому отмечать, что они выражают единую для всех круглую зеленую Клавдофору: в ней пусть и будет сердце Земли, сохраняющее лучистую энергию солнца, тайну всеобщего творчества жизни. Хорошо еще в Клавдофоре, что в ней открыта игра, лежащая в основании творчества. Все поручаемые человеку вещи на земле носят такой коварно противоречивый характер, как будто творец создавал их, просто играя, исключительно ради своего удовольствия, но в момент передачи их смазал долгом, как дегтем, отчего вся жизнь для человека на земле получилась: «В поте лица своего добывай хлеб». Но Клавдофора как была игрушкой, так и осталась… А еще мне приходило в голову, почему бы не написать мне свой роман, как пишут публицисты свои статьи, кого-то ими спасают, кого-то защищают, хотя по этим статьям до того непонятно – правду сказал публицист или наврал, что для разбора наряжают от газеты целую специальную следственную комиссию. В настоящем художественном произведении не может быть лжи, так почему же врали спасают все, что хотят, а я своим правдивым романом, построенным, как публицистическая статья, не могу спасти драгоценную жизнь Клавдофоры?
Ласточка крылом задела спокойную воду. На страшной высоте могучие хищники летали спокойными кругами. Мне обыкновенная ласточка удивительней этих хищников под небесами, она и там может летать, на высоте рядом с могучими, и возле самой земли так низко, что домашние куры поднимают головы и настораживаются. Особенно трудно, должно быть, летать над самой водой, тут, случается, и величайшая искусница полета ошибается и на воде остается кружок. Так неужели же я лучше ласточки пролечу над самой землей и не задену крылом курицы и не оставлю ни одного кружка на воде!
Чувствую сейчас на себе недоверчивый взгляд одного молодого читателя, который не столько следит за мной в понимании Клавдофоры, сколько старается поймать на словах.
– Вы, – спросил он, – где-то сказали, что к осени Заболотское озеро решено было спустить и Клавдофора должна погибнуть, а роман сочиняете для защиты Клавдофоры зимой около Солнцеворота, разве осенью она не погибла?
На эти слова отвечаю, как принято было в старинных романах:
– Погибла ли Клавдофора при спуске озера, или удалось отсрочить спуск озера и спасти драгоценный реликт, все это вы, читатель, узнаете из следующих глав.
XV
Маралово
Нерль проскакала над брошенным мной кусочком, но во время скачка над хлебом что-то почуяла. Вскоре умная ее голова заработала, она остановилась, задумалась и поняла: съедобно-пахучее осталось назади. Тихо, непрерывно играя ноздрями, собака вернулась назад и сразу нашла мой кусок. Я повторил еще опыт, Нерль опять проскочила, опять задумалась, но потом потянула в другую сторону и там нашла дрянь, есть которую запрещаю ей из опасности заразить ее часто живущими в человеке глистами. Отозвав собаку, я сел на пень отдохнуть, ко мне пришел лесник, и я целый час выспрашивал у него о деревне, где бы много было дичи для натаски собак. А потом, когда мы с ним разошлись и я сказал, отпуская собаку, – «вперед», она бросилась к тому месту, где была дрянь, и успела, к моему отвращению, не только отъесть, но и облизнуться. Значит, пока мы с лесником битый час говорили, она все это время мечтала съесть то, что нам представляется мерзостью. Как тут было не задуматься, – почему им нужно это, а мы часто с такой же страстью ищем аромата цветов. Кроме пчел и шмелей, никаких животных не наблюдал я в природе, чтобы кто-нибудь из них останавливался и обнюхивал цветы. Собаки на траве и в цветах ищут только запахи выделений пробежавшей около птицы или зверка. Мне думается, отвращение к запаху пота и других выделений мы получили именно от пристрастия к аромату цветов, но откуда у нас явилось это пристрастие?
Девственные, трудолюбивые пчелы, имеющие дело вечно с цветами, ненавидят запах животного пота до того сильно, что на источник ненавистного запаха бросаются и погибают, вонзив в него жало. В раннем детстве это пчелиное чувство было у меня так сильно, что я и теперь пчел по себе понимаю. Я рос в саду и к цветам чутье имел до того сильное, что, как собака, на расстоянии мог вычуивать желанный цветок, травинку и находить их. Раз караульщик сада, пьяный, сказал мне, мальчугану, что сегодня ночью он был с моей няней. Я тогда еще в этом ничего не понимал, но он показал мне одну штуку, я смутно почуял какую-то мерзость, невыносимое оскорбление и со всего маху огромным, почти в голову, яблоком хватил по лицу караульщика. Конечно, я жестоко поплатился, но зато на всю жизнь понял по себе, почему пчела, не щадя своей жизни, вонзает жало в источники животного пота. Конечно, возможно, что натуралист и отвергнет в этом случае догадку мою по себе, и это очень хорошо, если у него есть доказательства, но если нет доказательств, то метод мой догадываться о жизни природы по себе может играть в науке роль разведчика. Запах цветов возвращает меня к самой первой любви глубочайшего детства, когда половая любовь была невозможна. Есть, конечно, и среди цветов некоторые, возбуждающие животные страсти, но это – уроды и доказывают только общность происхождения животного и растительного мира. Может быть, и люди получили радость аромата цветов от каких-нибудь своих уродов, не способных к производящей любви? У жасмина вовсе порочный запах, и, на мое чутье, обыкновенная наша лесная ночная красавица скрывает в себе животную сущность, особенно под конец, когда исчезнут все признаки весны и начинается лето. Она как будто и сама знает за собой этот грех и стыдится пахнуть собой при солнечном свете. Но я не раз замечал, что когда ночная красавица потеряет первую свежесть, белый цвет ее потускнеет, становится чуть-чуть даже и желтоватым, то на этих последних днях своей красоты она теряет свой стыд и пахнет Даже на солнце. Тогда можно сказать, что весна этого года совсем прошла и такой, как была, никогда не вернется.
Я неплохо себя чувствую, когда проходит последняя тревога весны, страх перед этим концом оказывается совершенно напрасным: мне только хочется остановить свое беспокойное движение, устроиться где-нибудь прочно, не разлучаясь в то же время с природой. Тогда я выбираю себе небольшую деревню в местности, удобной для натаски собак, и селюсь в ней. Иногда я очень далеко отхожу в поисках дичи, но каждый вечер возвращаюсь в ту же избу, ложусь в ту же постель, пишу больше и больше. Весенний аромат цветов гонял меня из стороны в сторону, он делал меня бродягой. Теперь я свой навоз отдаю хозяину двора вместе с его животными. Точно так же, вероятно, и все люди осели из необходимости сохранить свой навоз, и земля оттого потемнела.
Сегодня я вышел для маленькой прогулки с собакой, взял в руку ночную красавицу, понюхал при солнечном свете. Она сильно пахла. Я сказал: «Довольно бродить, весна прошла». И стал искать себе постоянное место для углубленного изучения своей Клавдофоры.
При всем желании никак невозможно сохранить мне здесь название той деревни, где в это лето я устроил себе оседлость. Пусть все останется, как было, но название деревни я возьму из другого уезда. Кто знает? Теперь столько грамотных, что книжка моя легко может попасть на место своего происхождения, и если там заметят, что я переставил два дерева или при создании ячейки предвечных характеров привлек двух-трех из другого села, дело мое в этой деревне пропащее, непременно я в ней прослыву треплом, как бывает со всеми деревенскими поэтами на их родине. Я взял Маралово из того уезда, где жил один чудак ученый, очень похожий на героя Пиквикского клуба: по названию Соболевка он догадывался, что в этом уезде некогда жили соболя, по Хомякову о хомяках, по Боброву о бобрах, а в Маралове по его работе выходило, что некогда тут жили благородные олени, маралы. Не помню, в каком это селе мы, однажды направляясь в Маралово, остановились у росстани подумать, по какому развилку нам ехать дальше в Маралово. На дощечке было написано два пути, повыше была дорога в Голоперово, пониже непонятное мне: оволарам в агород, и неграмотный ямщик объяснил, что как раз эта нижняя надпись и означает дорогу в Маралово. Конечно, подумав, я и сам бы разгадал эту шараду, но случилось, вместе с окружившим меня народом подошел автор надписи маляр, или, как по удобству произношения в деревнях говорят, марал. Тут сразу я догадался, откуда явилось Маралово, и автор сам объяснил мне происхождение надписи «дорога в Маралово» с обратными буквами: «оволарам в агород», дорога шла влево, и маляру захотелось, чтобы, расположив буквы налево, указывать тем самым дорогу. Изобретатель, деревенский марало, очень гордился своей надписью, но я не мог удержаться от смеха.
– Здорово пишут, – сказал мне ямщик, и мы покатили влево по буквам в Маралово.
Теперь переношу это Маралово оттуда сюда и начинаю в нем устраиваться жить, учить собак и писать. Трудно в первое время тем, кто не живал в приболотных деревнях: мухи, слепни, комары, потыкушки, или монахи, всякий гнус. Но за множество лет я к ним приспособился, в жару не выхожу, и то больше потому, что не выносит собака слепней, а комаров до некоторой степени могу выносить. Хуже всего для меня это – домашние мухи, особенно к осени, когда они, как пчелы, начинают жилять. От домашних мух и комаров жена привезла марли на окна; с хозяйской половины, однако, так и валит мухота, но и тут мы приспособились. Берем обыкновенный большой мешок, сшитый конец его привешиваем за тот крючок, где обыкновенно висит лампа, а открытый свешивается над самым столом, с тарелкой простокваши, густо посыпанной сахаром. Чтобы отверстие не сжималось, мы распираем его накрест палочками, и мухи, поев простокваши, садятся спать на внутренние, полутемные стенки мешка. Вечером внизу мешок быстро перехватывается и с целым роем гудящих мух помещается в печь, на освобожденный крючок вешается лампа, и тут я пишу, а жена тоже чем-нибудь занимается у того же стола. Поутру Папаня, хозяин наш, высыпает мешок с мертвыми мухами курам, я потом снова привешиваю его на место лампы, а хозяйка Анисья Ефимовна затопляет печь и приглашает жену мою вместе хозяйствовать.
У нас с этой семьей знакомство старинное, это я помог Папане, по недоразумению лишенному голоса, восстановить свои права гражданина. Все дело было в том, что в Маралове люди расслоились особенно: на городских и коренных деревенских. Было время, когда самые способные приладились к городу, а в деревне выстроили себе отличные дома и являлись сюда только погулять в годовые праздники. Завидно было смотреть на эти дома коренному деревенскому человеку, кто не смел подняться на лучшую жизнь и оставался в болотах! В революцию счастливые были низвергнуты из столицы в болото и лишились избирательных прав: повар имперского государственного банка, трактирщик, кондитер, красильщик и дамский угодник, скорняк, великий мастер из дохлых баранчиков делать дамам мерлушковые саки. Способные люди быстро оправились, кондитер одно время был даже предвиком. Но Папаня прошел тяжкую долю в мучном лабазе, был робок, до крайности честен и очень слаб на вино. Мне пришлось его выручать, и теперь он восстановлен в правах гражданина. Почти как все крестьяне Московской губернии, Папаня говорит на двух языках, один чисто деревенский, другой ломаный, газетно-городской. Я упросил его говорить со мной чисто по-деревенски. Он согласился и только в исключительных случаях не выдерживает, хотя всегда спрашивается:
– Разрешите сказать с точки зрения?
Раз было, мы говорили с ним о злоупотреблениях в нашей кооперации. Он взволновался, не выдержал и спросил:
– Разрешите…
– Валите! – ответил я.
И вот как он загнул с точки зрения:
– Моральный человек в наше время вовсе запутался в паутине.
Я спросил:
– А что это значит: моральный человек?
– Это вы сами знаете, – ответил Николай Карпыч. – Деревенский человек способен только на одно дело, и, когда ему дают другое, – он путается. Вот у вас собака по бекасу ходит, – умственное дело! Если она по бекасу идет, то можете приучить ее и по грубому делу, по зайцу или по волку. Так ли я говорю, можно птичью собаку приучить по волку ходить?
– Пусть будет так.
– Хорошо, пусть будет, а ведь ту собаку, которая на волка определена, нельзя приучить по бекасу? Вот так и крестьянин – это собака по волку, а торговый человек идет по бекасу и, значит, способен на все.
И стал рассказывать, как мальчиком привели его к хозяину лабаза и он поступил туда по экзамену.
– В лабаз по экзамену?
– Экзамен был на обеде. Хозяин позвал нас, двух мальчиков, к себе на обед и смотрел, как мы едим. После обеда говорит моему товарищу: «Ступай, ты мне не удобен, вяло ешь».
– Не выдержал экзамена?
– Не сдал. А мне сказал: «Оставайся, ты весело ешь, значит, на все способен, ты человек моральный».
Пятнадцать, двадцать рублей, которые оставляю я на охоте в семье Папани, для них большое подспорье. За мной ухаживают, но, люди очень хорошие, все полагают, чтобы скрыть свой интерес. Перед самым отъездом, когда я расплачиваюсь, Папаня непременно исчезает, и деньги отдаются Анисье Ефимовне. Всегда она отказывается от лишнего, потом и возьмет. А везет меня Сережа, их сын, двадцатилетний паренек, дочка есть у них – девочка Шура, лет пятнадцати, славная, все они очень милые люди. Прощаюсь я по-родственному, но Папани при этом никогда не бывает. Мало-помалу догадался я, отчего всегда везет меня Сережа и отец при расставании прячется. Папаню нельзя одного с деньгами в город пустить. Семья дружно оберегает его от беды. Конечно, он прячется из опасения, что я дам ему деньги, сын грубо ввяжется, жена заплачет.
Так было много раз, но вот случилось, в последнюю мою поездку я пришел к последнему моему обеду, и не Папаня, а все другие спрятались. Он сам доставал из печи горшки, нес тарелки, резал хлеб. После обеда он запряг лошадь, оделся для поездки со мной в город.
«Взбунтовался или исправился? – думал я. – Если исправился и поедет со мной, то надо деньги теперь же отдать, чтобы избавить его от искушения в городе: он, конечно, оставит их здесь. Но что, если я отдам деньги, а он не исправился и лишь взбунтовался?»
После некоторого раздумья и промедления в надежде, что те придут, а Папаня скроется, я наконец деньги отдал. Тогда я стал смотреть в зеркало, будто мне надо оправиться. В зеркале мне было видно, как Папаня открыл ящик комода, вынул оттуда большой кожаный кошелек, и, когда открывал кошелек и опускал туда мои деньги, видно было, что там еще были деньги, и довольно много, вероятно все деньги семьи. Потом Папаня запер комод и ключ положил на видное место, чтобы домашние нашли сразу после отъезда.
Я был очень рад; так это редко бывает на свете: Папаня, конечно, исправился.
Надолго ли?
Прямо с приезда в Маралово мы не посмели спросить об этом Анисью Ефимовну, она только сказала нам:
– Папаня на мельнице.
Это был почти что ответ для тех, кто знает деревенскую жизнь. Нет испытания большего для пьющего мужика, чем поехать с рожью на мельницу. Случается, не только рожь сплавляют, но и лошадь уходит неизвестно куда. Нам не оставалось никакого сомнения: если Папаня на мельнице, то, конечно, исправился. Вскоре же он и сам приехал, обрадовался мне и со мной возможности как-нибудь дорваться и наговориться на языке людей образованных с точки зрения. После первых приветствий он так и сказал:
– Все зло в людях от необразования.
Анисья Ефимовна вначале ничего не заметила, но когда он внезапно высказал эту мысль: «зло от необразованности», внимательно на него посмотрела, уверилась и сказала:
– А не от пьянства у нас все зло?
Тут надо бы помолчать, но Папаня принял обратное решение: скрыть свое состояние согласными с женой словами. Он сказал:
– Да, конечно, и от пьянства. Надо нашему народу образование дать, пьянство уничтожить, и тогда будем жить мы все хорошо.
Мрачным голосом и махнув рукой на пропащего, Анисья Ефимовна, глядя в упор мужу в глаза, сказала:
– Да, хорошо!
Папаня очень струсил и вздумал поправиться:
– Ну, не скажу совсем хорошо, где нам, а средне будем как-нибудь жить.
Ужасно, что деревенский ток помещается как раз против пятистенки Папани. Вся деревня в одноличку, против каждого дома через дорогу посажено дерево: у одних липа, у других просто ветла. Дворянская липа, конечно, у прежних патрициев, кто жил в городе, у плебеев ветла. Деревья кронами сошлись, и эта зеленая стена, я так понимаю, защищает сенные сараи на той стороне от огненной вспышки в деревне. Иначе и понять нельзя, потому что сараи стоят на значительном друг от друга расстоянии, а избы вплотную друг к другу. Налево от нас на веревочке между деревьями висит вместо вечевого колокола большой пустой стакан от двенадцатидюймового снаряда, по нем председатель бьет, созывая сход, палочкой, и вече, собираясь, рассаживается на бревнах, до блеска отполированных мужицкими штанами. Если открыть окно, мне слышно от слова до слова все, что бывает на вече. Отступя от вече, тоже между деревьями, как раз напротив моего окна, небольшая часовенка с иконой святого князя Владимира. Раз в год в часовенке служат молебен сразу и князю Владимиру, и в память избавления от какого-то мора в незапамятные времена, тоже в случае засухи просят дождя, а если дождь, молятся от потопа. В болотах тем хорошо, что почти никогда не бывает засухи, и потому тут молятся больше о ведреных днях, растворении воздухов и умножении плодов земных. Сюда же и весь скот собирают и кропят святой водой. Но это бывает раз в год, а каждый день вечером на лесенке и бревнах у часовни собирается деревенский ток.
Нюша Фуфаева в этом деле первая хороводница. В сиротском доме этой девице выпала доля быть старшей в семье, и так сложилось, что выходить замуж стало невыгодно, или, может быть, из сиротского дома никто и не брал. Перешла девица, но зато берет теперь силой своего необыкновенно резкого голоса. Только потемнело, в вечерней прохладе комар на короткое время дал передышку, и мы решились открыть окно, к часовне пришла Нюша и принялась токовать. В ответ на ее частенькие песенки на другом конце послышались звуки гармоньи, и скоро все собрались возле часовенки. Все ничего, пока не наскучит петь ребятам однообразные любовные частушки. Вдруг гармонист резко обрывает мотив, переходит на какой-то другой. Барышни знают, что будет, и продолжают против мотива гармоньи сильнее и резче свое. Мужской хор сначала тихо, но очень настойчиво и уверенно вместе с гармоньей чего-то добивается, и мало-помалу через девичьи голоса пробивается невозможно похабная песня.
Окно у нас давно закрыто, затянуто марлей, сверх марли на кнопках прибиты газеты. Но там, снаружи, все-таки остается надежда найти какую-нибудь дырочку или услышать слова. Туземцы виснут на окнах, слышно дыхание, шепот.
Для натаски собаки мне надо вставать в два часа ночи, я пробую уснуть, но вдруг весь ток срывается с места: рев гармоньи, визжание девиц, ржание ребят…
Ужасна первая ночь. Но потом я сплю отлично, или сам сочиняю и даю для тока смешные частушки. И я знаю, в этом гаме ведется один нежнейший роман. Мой хозяин когда-то тоже был на току и под этими самыми ветлами выбрал себе прекрасную женщину, Анисью Ефимовну. И Сереже скоро тоже будет конец: начал понашивать единственную в доме, береженную с малых его дней для свадьбы роскошную вещь, городское пальто на лисьем меху. Анисья Ефимовна сегодня жене моей потихоньку сказала:
– Придется нынче женить, а то ведь и вовсе заносит, а по нынешним временам разве сошьешь такое пальто!
Во сне мне переиначивалась жизнь улицы, представлялось мне, будто это к Синей птице звонили:
– Тиль-тиль-и-митиль!
А это под ветлами, где собирается вече и вместо колокола на веревочке висит стакан от снаряда к орудию, председатель тиликал палочкой в край вечевого цилиндра, созывая сход. Шел мелкий дождь, никому не хотелось вылезать из своей берлоги так рано, а председатель в рыжей верблюжьей куртке был настойчив, как верблюд, не обращал никакого внимания на дождь и звонил. Мой хозяин принес самовар и объявил о великом событии: сход созывают по случаю приезда землемера, сегодня будут нарезать хутора, и в скором времени деревня разъедется.
– Одно хорошо в этом, – сказал я, – что меньше страха будет перед пожарами, а то вы как на вулкане живете.
Хозяин мой встрепенулся: слово вулкан было из словаря людей образованных, и если я такие слова употреблял, то он принимал это всегда как разрешение говорить с точки зрения.
– Потому на вулкане, – подхватил он, – что все мы здесь со средним образованием.
– Как так со средним?
– Очень просто, нет у нас высшего образования, чтобы к высшему стремиться, жить друг с другом в ладу, нет у нас и самого низшего, чтобы, как дикие звери, впиваться друг в друга зубами; того-другого понюхали в Москве, и так получилось ни то ни се: со средним образованием мы и живем, как на вулкане.
Мы сели за чай. Стало прояснивать, председатель звонил веселей, народ на бревнах накапливался.
– Что вы делаете? – сказал я хозяину. – Политика в деревне круто повернула на коллективы, а вы расходитесь на хутора.
– Вот потому и спешим, – ответил хозяин, – что столичная политика круто повернула. Сами же вы хорошо понимаете деревенскую жизнь, земледелие не фабрика, у нас по звонку ничего не сработаешь.
– Неправда, – сказал я, – в помещичьих хозяйствах именно по звонку и работали: утром били в чугунную доску, рабочие поднимались, запрягались до полдня, обедали, отдыхали, и опять сторож бил в чугунную доску… Работали, города были сыты именно этим хлебом, от зерновых хозяйств, построенных так же, как фабрики.
– Работать-то, конечно, работали, – согласился хозяин, – дураков работа любит. Последняя бедность, безысходная нужда гнала на эту работу, а мало-мальски самостоятельный человек на эту работу не шел. Вот и мы теперь должны спасать города, выходить по звонку на работу. Говорят: «богатые будете!» Пусть так. А я, может быть, к богатству-то и не стремлюсь. У меня сейчас на огороде есть лук, – я доволен луком не совсем: жду огурца. А когда будет огурец, я буду ждать капусту. Если ж все будет по звонку и с выдачки, то чего же мне ожидать?
Вдумываясь в слова хозяина, я внезапно, как это бывает со всеми, вспомнил свой удивительный сон: будто я запоздал в болоте с натаской собаки, а вокруг болотные люди косили траву и отлично, как лошади, отгоняли слепней хвостами.
– В болоте вы живете, – сказал я хозяину, – по-болотному и думаете.
И рассказал ему свой удивительный сон.
– А что же сделаешь, – ответил он. – Вот на что уже я, сорок лет в Москве на службе прожил, а все-таки пришлось же вернуться в родное болото: кто где родился, там тебе и Ерусалим.
Солнце выглянуло. Три утки с ночной кормежки Деревней полетели к своему дневному присадку на пойме. Я вышел погулять с собаками. На сходке уже что-то горячо обсуждали, но как только я поравнялся, спорный вопрос был оставлен, мне показали в сторону поймы:
– Сейчас только туда три утки прошли.
– Вот, вот только что! Вот чуть бы, и захватил. Поглядывая на легавую собаку, задача которой, известно, при взлете птицы неподвижно стоять, говорят:
– Ну, как ловит?
Я постарался вернуть сходку к горячему вопросу. Дело шло о праздниках. Из экономии, чтобы не звать два раза попа, праздник князю Владимиру давно уже притянул к себе день благодарности за избавление от скотской чумы в какие-то незапамятно стародавние времена. Нынче молодые предложили скотский праздник соединить с годовым: в Петров день праздновать избавление от падежа скотины и совсем отменить праздник князю Владимиру. Радость о спасении скота, хотя и в незапамятные времена, все-таки была понятна, но действительно трудно было понять жертву рабочего дня князю Владимиру: в кои-то веки, какой-то помещик срубил крохотную часовенку, в день своих именин поставил в эту часовню икону своего собственного святого князя Владимира, а мужики, вероятно, лет уже двести каждую Владимирскую вызывают попа и служат молебны. Трудно было что-нибудь возразить против отмены праздника, но, конечно, поговорили и постановили в последующие годы празднование князя Владимира отменить, а нынче помолиться всем в один день – и апостолу Петру, и князю Владимиру, Фролу и Лавру, покровителям домашних животных.
Николай Карпыч при этом моргнул мне, потянулся и сказал на ухо:
– Я насчет сна.
– Какого сна? – спросил я.
– Ладно, после, дома скажу.
Тут я вспомнил опять замечательный сон о болотных мужиках с хвостами и гривами. И в который уже раз и все с удивлением отметил я себе мужицкое постоянство в обработке раз полученного впечатления: «колом не вышибешь». Так было и с утками, – все, кого я дальше встречал на пути, глядели на моих собак и говорили мне о трех утках, пролетевших будто бы очень низко: «над самой головой».
Мне нужно было сходить в волость за три версты, показать там свои бумаги, устроиться с почтой, заглянуть, какие продукты можно достать в кооперативе. По-деревенски казалось, мы уже много прожили от восхода солнца и начала рабочего дня, а в волости жизнь только что начиналась: сторож своей обыкновенно березовой метелкой пускал пыль в коридоре. На стенках были Карл Маркс, Ленин, другие вожди, под Марксом были слова на стене: Страховой агент. Кроме портретов вождей, на стенах был целый музей всевозможных полезных плакатов, от Наркомздрава была тут передовая женщина, с цветами в руках и со шлейфом Сикстинской мадонны, за ней тоже с цветами бежали дети, и было подписано: Почта и телеграф; но слова, конечно, относились, все равно, как и Страховой агент, к занимающимся внизу соответствующим должностным лицам. Еще был тут на стене похожий на Маяковского рабочий с огромной мускулатурой, героический человек, и рядом – с блаженной улыбкой муж и жена опускали монету в копилку. За большим столом, покрытым чем-то красным, в ранний час сидел только зампред. Я показал ему бумагу от газеты с назначением меня изучать работу экскаватора по осушению дубенских болот.
– Продвигается ли экскаватор?
– Свистит, – ответил зампред.
– Не бреши, Саша, – остановил его старик сторож, выгоняющий метелкой пыль в открытую дверь, – экскаватор с неделю сидит на мели и не свистит.
Они горячо заспорили, и я понял из этого: ни зампред, ни сторож не знали ничего верного об экскаваторе, но старику хотелось, чтобы экскаватор сел на мель, а зампреду, чтобы свистел и продвигался. Конечно, я берегу советскую точку зрения и, желая отдохнуть и провести время на людях, говорю сторожу об индустриализации и необходимости машин в нашем хозяйстве.
– Машина, – говорил я, – спасет крестьянина от бедности, она освободит его рабочие руки для другого дела.
– Это верно, – ответил старик, – руки она освобождает – у нас раньше хозяйством одни бабы занимались, а теперь машина освободила народ, все приехали из городов в деревню и сидят на земле с бабами.
Зампред с улыбкой слушал старика и потом, поглядывая на меня, стал довольно путано излагать ему основы политической экономии: экскаватор управляется пятью рабочими, а надо бы для этой работы сто человек. Освобожденные люди для своего труда получат осушенную землю…
Тут я не мог удержаться: с тех пор как я понял, что Клавдофора при спуске озера непременно должна погибнуть, внутренняя работа моя была направлена против осушения: сам того не сознавая, я подыскиваю материалы в защиту Клавдофоры.
– Извините, товарищ, – сказал я зампреду.
И вдруг экспромтом сфантазировал так удивительно, что и сейчас не могу найти человека, кто бы мог мне что-нибудь возразить. Я указал зампреду на моренные холмы, покрытые редким лесом, вереском и брусникой. Эти холмы окружены обыкновенно ручьями с залежами торфа: гораздо же дешевле вывезти торф, как удобрение, на песчаные холмы, чем приводить в культуру самую трудную болотную почву. А еще я указывал на громадную площадь земли, просто покрытую кустарником, выбитую скотом: здесь довольно только корчевки, и этой земли едва ли меньше, чем болот. Для чего же нам тратить огромные деньги на осушение болот, спускать озеро, где живет драгоценное растение и так много дичи, что при разумном хозяйстве можно бы от одних уток получать доход…
Я увлекся: про Клавдофору, и особенно уток, я напрасно сказал.
– Вот как, – сказал я, – понимаю крупную промышленность: она должна охранять и преображать природу на земле, а не разорять.
– Положение-то наше безвыходное, – ответил зампред, – когда мы дождемся такой промышленности! Мало-мальски вокруг нас осохнет, и то дай сюда.
В доказательство трудного положения он перешел к личной жизни, – встает до свету и работает в своем хозяйстве, потом на службу, потом до ночи опять в своем хозяйстве…
– А где-то восьмичасовой день!
На это я сказал, что с общественной стороны положение действительно тяжелое, что делать? Потерпеть надо: это временно. А если не о людях, а о себе думать, то выход всегда есть… Я лично всегда бы что-нибудь придумал…
– А что бы вы придумали?
– Мало ли что. Вот занялся бы натаской собак: натаскать одну стоит сто рублей, а я за лето их могу пять натаскать.
– Пятьсот рублей! – воскликнул зампред. – Вот я и сам часто думаю, не хватает у нас такой науки, чтобы лично на пользу шла, науки-то какие-то все бесполезные…
Зампред, молодой человек в черной, подпоясанной; ремешком косоворотке, был мягкий и легкий на слова. Долго бы мы с ним болтали без всякого толку, если бы не вошел уже знакомый мне секретарь ячейки, отчего все переменилось в комнате и ожило.
– А вы не оставляете нас, – сказал он мне. – Как дела?
– Хорошие дела, – отвечаю, – поживем еще. Он всмотрелся в меня и вдруг весело засмеялся.
– Конечно, поживем!
При выходе из вика на лестнице я увидел дремлющего сторожа; при солнечном свете он оказался стариком очень глубоким.
– Вот задремал, – сказал он, узнавая меня, – всю ночь рыбу ловил, карась пошел.
– Рыбак! – обрадовался я своему человеку. – Ну как, большие караси?
– Есть фунта на два.
– Хорошо тебе!
– Хорошие караси, я тебе дам.
И повел меня в свою избушку возле самого озера. Старуха сразу принялась жарить карасей, и так они на постном масле пришлись мне по вкусу!
– Значит, ты совсем доволен? – сказал я, кончая широкого карася. – Не беспокоишься, что озеро спустят и останемся мы с тобой на сухом берегу?
– Так что из этого? – удивился он. – С сухого-то берега в омутах нам еще лучше будет рыбу ловить; чай, омута-то останутся.
Я согласился и сказал, что собираются спускать всего на два метра.
– А хотя бы и на три! – воскликнул старик. – Я никогда не поверю, чтобы наши омута осохли; как ни осушай, омута останутся.
На прощанье старуха сказала:
– Ну, пошли тебе бог!
И спохватилась:
– Что это я, дура, вы, может, этого не любите?
– Бога? – удивился я. – Что ты, бабушка, видишь, я человек пожилой.
– Сама вижу – пожилой, – ответила бабушка. – Не вы, а, может быть, служба не дозволяет…
Я хорошо заплатил. Старик, очень довольный, провожал меня и говорил на пороге:
– А об этом не беспокойся и не сумлевайся, мы на озере этом днюем и ночуем, как ни осушай, как ни спускай, омута наши бездонные, их никто никогда не осушит.
В деревне все ругались между собой, когда я возвратился из вика. Никто долго толком не мог мне рассказать, почему землемер вдруг до того рассердился, что бросил работу и верхом ускакал. Только по рассказу Сережи, сына хозяина, бывшего при обмере земли, могу я себе представить эту забавную картину неудачного раздела. Виновником всего был Андрюшка, гармонист, племянник бывшего трактирщика. Все в деревне зовут его комсомольцем, хотя уже года два тому назад его из комсомола вышибли с позором за то, что на свадьбе был шафером и у родного отца украл и проиграл в карты три копны ржи. Я его знаю, по лицу о таких художествах никогда не догадаешься, – красивый, уважительный на словах. Когда стали обмерять лесное урочище Жарье, землемер сказал Андрюшке, что когда он кончит дело с инструментом, то крикнет, и тогда надо ответить и двигаться дальше. Вот землемер установил инструмент, записал цифру и крикнул:
– Алло!
Андрюшка тоже ответил этим же словом, но тут вышло, что лесное эхо слово его повторило, и он туда, лесному эху, послал еще одно алло, но уже с чертовой матерью. И когда эхо тоже не осталось в долгу, то все двадцать деревенских ребят послали алло с чертовой матерью.
Землемер остановил эту ругань, подозвал Андрюшку и сделал выговор.
– Уй-ли! – ответил Андрей.
И обещал не повторять больше «алло». Но когда потом землемер записал цифру и крикнул снова «алло!», – не выдержал, и за ним грянули все двадцать деревенских и двадцать лесных голосов с чертовой матерью. В третий раз землемер наконец-то догадался, и когда взял цифру, то не крикнул, а только махнул белым платком. Так было, что, крикни теперь землемер «алло», ребята бы не посмели баловаться, но когда увидели белый платок и поняли, что землемер сдался, крикнули, а лес, конечно, ответил. Тогда землемер, ничего не сказав, не будь плох, сложил инструмент, сел на коня и ускакал.
– Уй с ним! – сказал Андрюшка.
Да так вот день и прошел.
– Может быть, к лучшему вышло, – сказал я хозяину вечером, когда унялся слепень, а комар еще не разгулялся и мы вышли с ним посидеть немного на лавочке. – Разрешение разделиться у вас есть, всегда успеете.
– Нет, – ответил хозяин, – вы это судите по старому режиму, а в наше время нынче разрешили, завтра отменили, или так повелели, что и сам не захочешь решенного, вы не смотрите на старое: в советской власти вечности нет. И вдруг Николай Карпыч принялся хохотать, и долго не было у него сил, чтобы остановиться и объяснить причину. Оказалось, он это вспомнил мой сон о мужиках с хвостами и с гривами. Когда хозяин немного успокоился, я привел ему в пример соседа его, который мог по своему желанию двигать ушами. Почему не подумать, что это у него остаток далекого прошлого, когда человеку было необходимо двигать ушами. Удивляться надо больше тому, что у болотных людей, постоянно работающих среди слепней и комаров, отпали хвосты.
– Вот бы наработался, – говорил я хозяину, – прилег бы отдохнуть, сам спи, а хвостом обмахивайся. Николай Карпыч не засмеялся.
– Неловко, – сказал он, – человек на свете единый, но нем все и равняются.
– Единый, конечно, – ответил я, – да как же все-таки понять, отчего он единым стал: ну, в городе хорошо, там нет слепней, а для деревни такое равнение невыгодно, в болотах хвосты очень нужны, вам косить, мне собак натаскивать.
– Никак нельзя, – сказал Николай Карпыч. – Оно, может, и остались бы хвосты, если бы в город не ездили, а то ведь мы там каждый базар. Сейчас нам и то трудно в городе: то упустишь, того не поймешь. Сейчас нас и то за нос водят постоянно, а то бы нас водили и за нос, и за хвост, и за гриву.
XVI
Старухина тропа
Прошло время, и стул без спинки перестал мучить меня – спина не болит; нисколько не раздражает меня, что по вечерам туземцы, затаив дыхание, висят на окнах и подслушивают, – сплю отлично, хотя Нюша Фуфаева каждый вечер невозможно резко, на всю деревню токует под самым моим окном. И тоже с комарами, слепнями, потыкушками и мелким улипчивым гнусом; вскоре после моего приезда начались дожди, замер слепень, комар, потыкушки и улипчивый гнус. Мало-помалу в болотах вкладывается особенная привычка ходить; знаешь, что нога между кочками непременно провалится, на кочку же стать – кочку потопишь, а у основания кочки ногу поставить можно, хотя тоже надо привыкнуть понимать, какое болото и какие кочки. А когда ко всему приспособишься, то и на ходу в болоте сочинять можно, как в кабинете с удобствами; быть может, труднее, но зато верно, без всякой опасности прослыть плагиатором: бери материалы и объявляй их своим личным открытием.
Постоянная перемена ландшафта в связи с движением планеты – вот что больше всего привлекает мое внимание. Много раз я даже пробовал создавать свой календарь, начиная с весны света. В конце концов я бросил это дробление, понимая в природе только два времени, отвечающих ритму моего собственного дыхания: планета, весь мир дышит совершенно так же, как и я, весеннее дыхание – одно время года, осеннее выдыхание – другое. Все дело во времени: планета раз дыхнет и выдыхнет – это год; быть может, существуют мельчайшие организмы, так зависимые от моей собственной жизни, что один мой вздох для них все равно, что для меня годовой вздох планеты. Внутренняя ритмика позволяет даже и птицам от своего обычного птичьего времени переходить к планетному, осенью и весною птицы, отвечая вздохам планеты, совершают свои перелеты. Так искусство у нас, я так понимаю, подчинено той же внутренней ритмике, оно рождается чувством большого мирового времени, баюкает вечность, молодую и древнюю, быструю и неподвижную…
Так понятно становится, прислушиваясь к дыханию планеты, почему в первой поэтической любви молодые люди тоже клянутся любить друг друга вечно; постижение большого времени посредством внутренней ритмики у птиц и у людей в конце концов является деятельностью органов, в древние времена считавшихся даже священными.
Творчество Алпатова должно являться продолжением его первой, единственной и необычайно сильной любви, а если творчество непременно сопровождается в силу действия внутренней ритмики явлением большого планетного времени, вечности, то вот и встреча с Клавдофорой: эта встреча творческой вечности под водой ледникового озера в виде светящегося изумрудно-зеленого шара может мгновенно нарушить неустойчивое случайное равновесие слоев действительности и замысла в музыкально-поэтической натуре Алпатова, и Золотая луговина представится ему наследственно мещанской мечтой конечного блаженства в раю.
Так иду я час и другой, догадываясь о планах большого времени и не спуская глаз с собаки в рубашке цвета березовой коры, мелькающей между редкими деревьями. Вокруг меня – как это назвать? – ни лес, ни болото, ни поле. В давние времена, конечно, тут был лес, потом его сожгли, на палях сеяли хлеб, пока рожала земля. Потом бросили землю, а лес не вырос, и снова жечь было нечего. Выросли только отдельно стоящие редкие деревья, – это теперь ни лес, ни поле, и называется здесь просто палями.
Лиловый вереск, и редкие деревья, и красная брусника. Дерево от дерева – сосны – очень далеко. И так часами идешь, все так же под ногой мягко и сухо, все тот же ковер с цветами лиловыми и красными, иное дерево – сосна – раскинется на свободе так причудливо, поглядишь и захочется сесть под ним. Вот устроился на обнаженном корне, как на лавочке, и тогда уже совсем близко, вплотную разглядываешь лиловый вереск и красную ягоду-бруснику. Вдали еле видны белые, красные, синие, всякие платки ягодниц, чуть слышно изредка гукают друг другу, когда разойдутся. Одна девочка маму звала. Верно, голосок ее мать не слышала, и так мне понятно было, что ужас одиночества в пустыне охватил все маленькое существо. Девочка стала кричать всем надрывом из живота прямо в открытое горло, как будто медведь уже схватил ее за ногу и потащил к себе на расправу. Мать пришла, раскричалась на нее. Все опять стихло. Женщины больше не нарушали молчанья пустыни, паслись на бруснике, так же, как глухари и тетерева.
Мне было под сосной, как будто эта паль и есть тот свет и лично мне тут уж больше ничего не надо, как только отдохнуть немного под очень красивой сосной и дальше идти.
Так снова иду я по лиловому вереску, красной бруснике с мелкими листиками цвета зелени вечнозеленых растений, чувствую, что когда-то жил на земле. И то, что я там жил, страдал, радовался и умер, не соединив между собой смерть и любовь свою, здесь это понимают как земной загад. Теперь здесь ответ дается без всякого труда; в этом весь огромный интерес ходить по бесконечным пространствам, что время от времени земная жизнь вспоминается и на все дается ясный ответ. И вот я иду от этого без устали, под ногой лиловый вереск и красная брусника, так много красного, что совсем закрывает зеленые ломкие листики. Мне вспомнилось…
Те, кого я любил не так сильно, вставали в моей памяти до того отчетливо, что каждую женщину я мог бы верно нарисовать карандашом. Но та единственная, которую ни за что любил я без памяти, не показывалась мне сама, а узнавал я ее по освещенным ею предметам. Как солнце, она сама по себе мне представлялась безумно сверкающим кругом. При этом свете, однако, в чертах тех, кого я не очень любил, было что-то несовершенное и раздражающее. С отчетливыми фасами и профилями они вращались вокруг единственной, как погасающие земли вокруг пламенного солнца. Конечно, я мог бы сказать, что глаза у нее были карие, волосы русые, щеки розовые, и вся она в фигуре своей имела склонность к хозяйственной полноте русской женщины. Я мог бы с точностью описать все кофточки, юбки, платочки, в которых она приходила ко мне на свидания. По одной только ее кофточке с красными и синими шашками я могу вспомнить мельчайшие подробности пейзажа, архитектуры, выражений лиц встреченных в ту пору людей. Мало того, я могу своими глазами представить себе все земли, все страны, в которых я в жизни бывал после того, а если бы хватило опыта, я мог бы весь земной шар нарисовать, как лицо. Но самое лицо ее, от которой исходит вся сила моего зрения, обращается в самое банальное лицо хозяйственной русской женщины, вроде того, как великое солнце графически обращается в очень маленький круг. Догадываюсь о причине моего безумия: я не понимал величия света самого по себе, очень похоже было, как если бы слепец, много наслышанный о солнце, прозрел бы и, глядя в упор, стал искать на солнце это прекрасное. Только когда я еще мало понятной мне силой был повернут от горящего солнца к освещенным предметам, стал я чувствовать себя человеком, удивляться, пользоваться иногда своим разумом, а то и просто жить, не обращая внимания, разумно или глупо, только бы жилось как-нибудь…
Мне теперь ничуть не стыдно во всем этом признаться, потому что все это было давно и я не один, многие меня поймут и узнают в этом свое и что даже это «Я», о котором я говорю, есть уже «Я» сотворенное. Иногда же мне кажется, что особенность моего состояния, для многих совсем чуждого, объясняется почти полной моей неспособностью к математике и астрономии, посредством которых другие с точностью до одной сотой секунды узнают о движении миров. Как слепцу иногда в восполнение зрения дается тончайшее осязание, так и мне вместо математики и астрономии дана способность личного понимания миров.
Разобрать пережитое – очень похоже, что это понимание явилось взамен утраченной женщины, во время сильнейшего порыва юношеской любви. Но когда все вспомнишь и углубишься подальше, то оказывается, что эта утрата уже предполагалась при самом возникновении чувства, досадно и обидно оно, если стать на сторону женщины в простенькой кофточке с красными и синими шашками. Как бы там ни было, но из одного источника происходят дети наши кровные и дети нашего сознания. И только потому, верно, мы еще кое-как и понимаем друг друга, что поэт хоть сколько-нибудь верит в созданный им образ, как в личность живую, и живой человек узнает себя в этих образах. Из всего этого и родилась моя астрономия, в которой солнце стало на месте моей утраченной невесты, а на земле, конечно, все через солнце зачатое стало со мною в родстве.
Есть сумасшедшая просека, разделяющая брусничные пали от моховых клюквенных белей в этих местах, она идет такими зигзагами, что, если заблудишься в клюквенных белях, никогда не поймешь, в какой же стороне находится просека. А я часто блуждал тут прошлый год в поисках Старухиной тропы, о которой мне с самого приезда много наговорили. Так рассказывали: одна старуха из деревни Скорынино пошла в это Серково за клюквой и не вернулась совсем с моховой гибели. Такая была это древняя старуха, что и не искали. Потом ссылались на нынешнюю нехорошую молодежь, будто бы молодые сказали: «Чего искать-то, пропала и ладно, а найдем – все одно скоро помрет». Старики тоже хороши: промолчали, а потом стали считать, сколько ей лет, и подвели: «старухе было без трех дней рубль».
Так вот и осталась по старухе одна память в Серкове – тропа, по которой она в последний раз ушла в клюкву. От одного охотника я слыхал, что клюквенная бель за Старухиной тропой – золотое дно всякой лесной дичи. Он мне подробно рассказывал о ней, но, как обыкновенно у крестьян, сказывал, не представляя себе человека, в этом лесу нового. Назовет какую-нибудь тропу: «Иди по ней все прямо и никуда не сворачивай». Найдешь эту тропу, а с нее букетом во все стороны другие тропы и все кажется прямо. Много раз я попадался на эту удочку и только вот теперь догадываюсь, откуда у всех мужиков взялось это прямо: оттого, что сам он там был, проводит мысленно прямую к цели и забывает, что другой, там не бывший, не зная цели, не может провести и прямую. Сколько же я поблудил в Серкове в поисках Старухиной тропы! Каждый раз меня только компас спасал от старухиной участи. Не раз в своих поисках и людей встречал, то пастух ищет корову, то ягодницы собирают бруснику, то болотную траву подкашивают, то диких пчел ищут, – мало ли людей бывает в лесу, и никто из них даже и не слыхал о Старухиной тропе. Раз даже я и струсил немножечко. Как же… Иду я раз по какой-то тропе, подозревая в ней Старухину, и вдруг вижу, на этой тропе растет густая и высокая, в рост человека, крапива. Подумал я: «Значит, пока росла эта крапива, никто еще по ней не прошел». Только я подумал, вдруг из крапивы… ничего особенного не было: крапива закачалась и вылетела маленькая птичка подкрапивница. Стало мне как-то не по себе в болотном лесу, где без тропы в какой-нибудь час выбьешься из сил. Вокруг деревья стояли в черной воде, и Старухина тропа предстала мне неминуемой: «Так или иначе, тебе тоже будет такая тропа». Я схватился за компас и обмер: компаса нет. Вдруг запела иволга, и мне подумалось – не может золотая птица петь в таком страшном лесу. Полез я прямо туда на голос иволги, золотой, звонкой птички, и скоро вышел на суходол.
После многих неудач я встретил наконец человека из той самой деревни, откуда вышла старуха-покойница, и он мне указал. – Так у нас постоянно, и эту особенность надо знать всякому хорошему бродяге: каждая деревня на краю большого болота, озера или реки знает местность только возле себя, а что дальше, ей дела никакого нет, кончается владение, и все кончается.
По указанию встречного я пришел к той самой крапиве, от которой когда-то сбежал, и в этот раз заметил обход крапивной заросли скачками по кочкам. Охотник не наврал, дичи на бели оказалось довольно, настрелял я тетеревей, белых куропаток, одного старого глухаря даже посчастливилось убить. После глухаря стало жарко и тяжело нести дичь, и я устроился отдыхать в тени густых можжевельников.
По обыкновению, на моей собаке был звонок, чтобы можно было за ней следить на слух в густых кустах. На коровах тоже бывают колокольчики, и потому птицы не боятся собаки со звонком, вероятно принимая ее за корову. И женщины, молчаливо собиравшие ягоду, пока собака была им невидима, тоже принимали ее за корову. Но случилось, моя Кента в своей березового цвета рубашке с колокольчиком пробежала возле одной бабы, и она, испуганная, крикнула:
– Сват!
В ответ ей со всех сторон послышалось:
– Сват, сват, сват!
Бабью затею, конечно, я понимал: услыхав тревогу одной, они ее поддерживают, уверяя врага, что они, бабы, тут не одни, с ними мужчина, сват. Они перестарались, голосов было слишком много, чтобы можно было поверить в единственного для всех свата или что тут у каждой по свату. Желая успокоить баб, я громко позвал собаку. Но бабы еще больше испугались. Это у них часто бывает, потому что каждой бабе хочется перед другой побольше набрать ягоды, жадности своей она предела не знает и забывается. А когда вдруг ее что-нибудь испугает, она хватится, будто невесть куда зашла и невесть какие тут живут существа в березовых рубашках и со звонками на шее. А после того, как и сам лесной хозяин голос подал, у баб начался переполох, все кричали без толку:
– Сват, сват, сват!
Многие, наверно, и побежали не в ту сторону, куда надо. Недалеко от меня затрещала сушь, показалась старуха с бородкой, опоясанная ремнем, с подобранной юбкой, в мужских сапогах и с вытаращенными неподвижными глазами. Такая это была ужасная старуха! Главное, что бородка… признаюсь, я даже чуть-чуть струсил, и в голове мелькнуло, что старуху-покойницу-то ведь не нашли…
Она лезла прям на меня. Была опасность, что, внезапно заметив меня, она повалится и со страху помрет, как Пиковая дама. Я поспешил ей крикнуть:
– Бабушка, я охотник, ничего, не бойся!
Но она ничего не слышала и, глядя, не видела. Она шла прямо на меня, потому что все равно везде вокруг была нечистая сила, лезла она на нее с безумной храбростью, как в атаке, на всю великую эту силу старуха шла с одной только молитвой:
– Свят, свят, свят!
Безумствуя, все бабы орали, визжали:
– Сват, сват, сват!
Бабушка пролезла так близко около меня, что даже зацепила корзинкой за шляпу, и ее помертвелые губы неустанно твердили то «свят», то «сват».
Случилось, задетая корзинкой, моя охотничья шляпа повисла и пошла вместе с бабушкой.
Я вскочил и, не достав рукой до шляпы, схватился за корзинку, а бабушка от этого вдруг…
Бывает же такое мгновенное преображение: старуха глядела на меня пылающими гневными глазами, стала почти молодая, и даже заиграл на щеках румянец. Она крикнула мне именно в том значении, когда молодые женщины кричат на шаловливого и бесстыдного мужчину:
– У-у-у, бессовестный!
Прошел тогда весь мой страх к таинственной старухе.
– Шляпу, – сказал я, – шляпу мою ты унесла.
Она схватилась, увидела мою шляпу на корзинке, лицо ее покрылось множеством добродушных морщинок, глаза проницательно и насмешливо взглянули на меня. И удивительно мне было самому, откуда я взял бородку, у нее был обыкновенный старушечий выдающийся подбородок.
Бабушка заметила некоторое смущение у меня на лице, быстро взяла верх и сказала:
– Смотрю я на тебя, вроде как бы ты глупенький, с пыльцой в голове.
Стали сходиться бабы, и началось большое веселье. Так ведь постоянно у баб: пока лесной хозяин не виден, боятся, а покажись и допусти, юбку на него наденут. Одна бесстыдница даже пыталась схватить меня за ружье.
Старухина тропа входит в моховую бель, а оттуда не выходит, она там расходится сначала на множество тропинок, потом каждая тропинка тоже расходится между кочками так, что невозможно отличить человеческий путь от звериных проходов и даже просто глухариных бродков между кочками. В этот раз я вышел без троп сначала на просеку, а потом от нее выбрался скоро на пали и пошел, часто спускаясь между моренами, пересекая внизу торф, сочащийся небольшими ручьями, заросшими черной ольхой. И каждый раз, как лиловый вереск и красная брусника при спуске в черную ольху исчезали у меня из глаз, я из далекого мира с широкими горизонтами возвращался к обязательной мысли повседневности.
Переходя торфяные ручьи, думал я: «Сколько в этих ручьях сама природа заготовила удобрения для песчаных палей, насколько бы дешевле было вывозить торф наверх, чем осушать болота Дубны и вместе с тем губить драгоценный заповедник под самой Москвой». Но чтобы это совсем простое и ясное для себя превратить в могучее средство борьбы за Клавдофору, я должен много собирать материалов, мерить, высчитывать, чертить, для этого я должен забросить рассказ о творчестве и, по всей вероятности, больше к нему уже не вернуться. Хорошо знаю по прошлому опыту, что, взявшись за другое, я там в чем-то другом по-иному переживу все эти подступившие ко мне темы, в бороде моей и волосах появятся новые серебристые свидетели моего постарения, но когда я приду к старым материалам, они мне тогда покажутся наивными и ненужными: кто-то, вспомнишь тогда, о том же самом сказал гораздо сильней. Так сошлось все, что стало невозможным забросить творимую мной Клавдофору для борьбы за обыкновенную Клавдофору ледниковой, сравнительно недавней эпохи.
– Позволь, друг мой, – сказал я себе, выбираясь из заросли черной ольхи, – давно ли тебя поразил изумрудно-зеленый шар, живущий на дне ледникового озера, и вот уже стало две Клавдофоры, поэтическая и действительная, все равно как у Дон Кихота одна и та же деревенская девушка разделилась на Альдонсу и Дульцинею.
– Друг мой, – говорил я себе, снова окруженный большими пространствами, наполненными только лиловым вереском и красной брусникой, – вспомни, что тебя самого выдвинула с особенным лицом среди обыкновенных литературных талантов только особенная страстно-благоговейная твоя связь с материалами. Верь мне, если ты оставишь гибнуть Клавдофору в Заболотском озере, не создашь ты Клавдофору вечную.
С этой мыслью выбрался я из брусничных палей и клюквенных белей на большую дорогу возле 56-го телеграфного столба у самого каменного мостика, где проезжие непременно в ручье поят лошадей. Сонный обоз медленно приблизился к ручью, вялые люди медленно разнуздали своих лошадей. Но как только люди вместе с лошадьми выпили воды из ручья, вдруг все переменилось, хмель вернулся к мужикам, одни запели, другие стали драться, третьи ругались и обнимались. Потом обоз двинулся вперед с обычным диким пеньем пьяных людей, непристойной руганью, ревом и гомоном. Все это я хорошо понимал: туземцы, отправляясь домой с городского базара, сильно выпивают, но не закусывают, отчего хмель держится очень долго, а когда проходит, то стоит только напиться простой воды из ручья, и снова становишься пьяным.
Подбодренный водой, претворенной в вино, с ревом промчался обоз мимо меня. Я скоро забыл о нем и вернулся к тревожной своей думе: сочинять мне дальше Клавдофору для воображаемого лица Алпатова, не обращая внимания на гибель ее первообраза, или померяться силами с затейниками осушения болот в борьбе за драгоценный реликт ледниковой эпохи. Не долго мне пришлось думать об этом: какой-то лежащий поперек дороги темный предмет привлек мое внимание. Скоро я разобрал, что человек это был и, по-видимому, человек мертвый. Он лежал лицом в дорожной пыли, в правой руке у него был кнут. Я хотел было наклониться и попробовать пульс, но в это время сзади кто-то наехал, лошадь фыркнула, остановилась, возница просто спросил меня, как животные спрашивают в сомнительных случаях друг друга:
– Уй-ли!
Я ответил:
– Человек лежит на дороге.
– Не может быть, – сказал он, – человеку тут делать нечего, какой там человек…
Слез с телеги, подошел, вгляделся…
– Уй-ли! – воскликнул он весело, – так оно и есть: ну, какой же это человек!
И с громким криком «Иван!» ударил мертвое тело кнутом по заднице.
Иван вскакивает, протирает глаза, оглядывает нас и, ругаясь, бежит догонять свой обоз.
Это бывает, сползет сонный человек и останется. Часто бывает, встретишь обоз, на одной подводе поет, на другой спит, на четвертой нет никого, а как же на третьей? И дальше опять, кто спит, кто поет. Где же третий? Как же так, исчез человек, а его и не заметили, или один ничего не значит в обозе? Вспомнишь тогда жизнь многих людей, чего они достигали, как умирали, переведешь на себя эту жуть, и тогда вдруг, как бы с осеннего дерева весь лист, разом слетит с тебя все творчество, со всеми игрушками, и до того захочется выпить!
В одном селе на большаке я снова весь обоз этот узнал возле трактира. Лошади стояли против пустого корыта с надетыми на головы мешками, ели овес, против каждой на краю пустых яслей сидела курица в ожидании, не откроется ли со временем дырочка в мешке, нельзя ли будет выклюнуть зернышко. Недалеко мне было до деревни, но я вконец изморился и захожу в трактир чаю напиться с колбасой, конфетками и баранками. Полнехонько. Меня и не заметили. Сажусь в уголку. Кто-то, слышу, спросил:
– Да откуда он взялся?
– Мало ли их присылают сюда: крючок. Две собаки у него, пятно в пятно.
– Знаю, это егерь.
– Ничего ты не знаешь. Ты не на собак смотри, а на морду: это партейный.
– С бородой? Это писатель.
Длинный чахоточный, с румянцем на щеках, всех перебил. Он верно знает, это не егерь, не писатель, не подосланный коммунист, это неподписанный англичанин.
Все обернулись к чахоточному, и он стал подробно рассказывать о каком-то англичанине с двумя собаками и большим портновским магазином в Москве. Человек этот обладает большими богатствами, а советская власть взять не может: англичанин неподписанный.
– Врешь! – оборвал чахоточного молодой человек с забинтованной головой, – советская власть все может. Мне вот ножик в затылок всадили…
– Финский? – спросил кто-то, сразу заинтересованный.
– Вершка на полтора в затылок вошло, и никто на месте не мог вытащить. Семь верст бежал до больницы.
– У нас двум всадили, – сказал Федор Федорыч, солидный, хозяйственный, хорошо мне знакомый мужик из Пустого Рождества.
Никто не обратил на его слова никакого внимания, потому что люди бессознательно мстят сильным, уравновешенным характерам, когда они во хмелю.
– Что же это, по пьянке тебе так попало? – спросил кто-то забинтованного.
– Зачем по пьянке… Ехали лесом, мальчишка лет пятнадцати. У меня гармонья. «Сыграй», – просит мальчишка. Едем двое в лесу. Отчего не сыграть. Я заиграл, а он сзади ножик в меня, спихнул, взял гармонь и ускакал. Вот дурак! Сразу же по гармонье узнали, да и я прибежал, назвал, схватили его враз, а ножик вытащить не могли. Стали было лошадь готовить для меня, а у меня сердце кипит, так, чувствую, лягу в телегу и кончусь, а на ходу ничего: так вот семь верст и бежал. Докторам на удивление: как это мог человек с ножом в затылке семь верст пробежать!
– Разные затылки бывают, – сказал Федор Федорыч, – вот у нас был случай… Его опять перебили:
– Ну и что же, доктора ножик вытащили?
– Нет, попробовали, покачали и тоже не могли. А я вдруг впал в бессознание, и сколько был, сказать не могу. Просыпаюсь, – братцы мои, товарищи, постель белая, и я сам в нижнем белье, а рядом на стуле «Рабочая газета». Взял я газету и от нечего делать прочитал о вредителях в шахтинском деле: вредители были инженеры, немцы все неподписанные, и все-таки советская власть их посадила в тюрьму. И ты говоришь, – обратился потерпевший к чахоточному, – советская власть не имеет прав взять неподписанного англичанина? Я сам своими глазами читал: может взять, все может советская власть и ни у кого об этом спрашиваться не будет.
– А я разве напротив советской власти говорю? – возразил чахоточный. – Советская власть может брать и подписанных и неподписанных, а все-таки зачем ей без больших причин остужаться с Англией, ведь что ни говори, а все-таки гражданин неподписанный. – Но с большого на малое, ниже, ниже, мельче, мельче, и опять кинулись на большое: у нас кругом такая нищета, а тут человек с собаками и со всем своим английским багажом неприступно живет в свое удовольствие. Потащили к допросу и велят: «Хочешь жить у нас, подписывайся!» Этот англичанин тогда, не будь дураком, говорит: «Я есть американец Ара, вот мой лист!» А на листе этом подписи с благодарностью от всех, кого он в голодное время кормил. Советская власть тоже написала благодарность на листе и отпустила: «За все твои добрые дела можешь по гроб жить неподписанным».
– Ничего нет удивительного, – сказал Федор Федорыч. – Кричи против богатого, сколько горла хватит, а трудный час придет – выходит, возле богатого-то и бедному покормиться можно.
И перемигнулся с трактирщиком Иваном Захарычем, понятно, в политическом смысле. Я даже заметил, трактирщик моргнул на меня и вполголоса сказал:
– Вон куманек!
– Уй-ли! – громко ответил Федор Федорыч, – да будь тут и сам Ленин, я в глаза прямо скажу: возле богатого всегда можно бедному, а возле бедного и курица не напьется, за то, что он бедный и у него только удочка.
Тогда голос опять взял чахоточный:
– А я по собакам догадался: это и есть самый он, неподписанный англичанин.
– Не может этого быть, – ответил раненый, – англичанин любит машину, промышленность, зачем ему писать против осушения болот. Тут коммунисты охотятся, вот и подослали своего человека.
Все зашумело в трактире. Чей-то голос был:
– Коммунисты же нас осушают!
– Сухо! – ответил другой.
– Я не к тому, – сказал первый.
И принялся доказывать, что если коммунисты осушают Дубну и озеро спускают, то зачем же коммунисту против осушения писать.
Верно было сказано и просто, но тот упрямый человек наломал себе баранок, наложил их в стакан, налил кипятком, стал парить, и все время, пока этим занимался, ничего не слушал и только повторял на весь трактир:
– Уй-ли, осушили, уй-ли, сухо, уй-ли, все осохло, пересушили!
Я давно, с первых слов догадывался, что речь шла про меня, но только не понимал, с чего же это вдруг взялось и пошло всенародно против меня, и наконец вспомнил и вдруг все понял: это, наверно, напечатали посланную месяц тому назад статейку в «Известия» о Клавдофоре, статейка попала, должно быть, в самую точку, взволновала все местное начальство, а потом и пошло все искривленными лучами в население.
– Чего же вы его не утопите? – спросил чей-то голос.
– Попробуй-ка, утопи! – сказал я громко на весь трактир. – Это я написал.
Все стихло.
Мне думалось, вот сейчас схватятся, зашумят, может быть, хмель опять вступит в силу, и тогда чего доброго… Впрочем, я сидел возле самого окна и с ружьем.
Никто, однако, не напал на меня, и даже никто ничего не сказал. Мужики молча перевернули стаканы и чашки донышками вверх и пошли к лошадям. Чахоточный встал самым последним и неожиданно с таким участием, с такой ласковой грустью сказал мне:
– Милый мой, зачем же ты это писал, неужели тебе не стыдно заступаться за озеро для потехи: ведь жизнь человеческая дороже всего.
Мужики вполне заели свой хмель, обоз степенно тронулся в путь, и я опять на дороге один со своими художественными и всякими затеями.
XVII
Доктора воды
К известности надо очень привыкнуть, чтобы она вредно не влияла на труд. Самым благоприятным для себя считаю, когда кругом принимают меня за своего и не обращают никакого внимания. Народ-то уж очень у нас озорной, чуть что, походка немного более эффектная, чем это допускает общая неказистая жизнь, и мальчишки кричат: «Вот король идет!» Не очень это лестно, если понимать, что король у мальчишек – конечно же! – взят с игральных карт, просто какой-нибудь трефовый или еще хуже – бубновый и даже забубенный король. На полсантиметра шляпа в полях шире других, и вот уже заметили, кричат вслед: «Чемпион мира!»
Редко приходит в голову, что наше, как говорят, сильное или мускулистое тело по правде-то просто кисель, любой мальчишка может завострить палочку и пропороть брюхо всякому чемпиону атлетики. Наша мысль о сильном теле есть одна из равнодействующих сил нашего общего творчества жизни и употребляется в том самом значении, как могучий язык.
Я завел это рассуждение для того, чтобы сделать понятным необходимость оберегать свое расположение к труду писателя. Мне кажется, в этом расположении к труду искусства слова присутствует тоже какое-то тело, и еще в тысячи раз менее защищенное, чем наше тело чисто физическое. Вот теперь все поймут меня, если скажу, что Журавлиная родина в Берендеевом царстве не менее реальна, чем наше физическое тело, но для защиты своей требует еще гораздо более сильного панциря. А то если бы так легко было сочинять, то почему же остается так немного читаемых книг, почему в значительной горе рукописей, читаемых редактором ежемесячного журнала, с трудом находятся для печати две-три тетрадки, почему имена Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского на пути своего становления усеяны тысячами трупных имен людей и образованных, и умных, и отличных в своих намерениях… Задор жизни моей так велик, что пусть сто человек с топорами пойдут на меня плотной стеной, в крайнем случае не покорюсь я и пойду на них с перочинным ножичком. Но что я сделаю, какое слово могу я сказать и сохранить для людей их действительно существующую, только для масс неоткрытую, невидимую Журавлиную родину, если чья-нибудь рука прямо возьмет меня за тот самый «язык», которым помогают еде: в Журавлиной родине даже нет перочинного ножика, чтобы полоснуть им по чужой руке.
Перед самым моим окном деревенский ток, жалкое подобие птичьему и звериному. Я могу самое большее иметь на току успех с какой-нибудь сочиненной мной любовной частушкой, но с Журавлиной родиной и Берендеевым царством засмеют меня на току, Журавлиная родина придет сюда через сколько-то лет отрывочками в школьных книжках. До поры до времени я непременно должен прятаться.
И вот вдруг во всем краю, в каждой деревне, на каждом сходе, на всяком току я стал известным, как враг народа. Что делать? Ясно теперь, что мой роман о творчестве почему-то превратился в признания или в повесть о разбитом романе, мне теперь остается признаться в самом для себя неприятном: хула так поражает меня, что не к самозащите бросаюсь в первую очередь, а тоже вместе со всеми обращаюсь к себе, и хотя не хулю сам себя, но с болью всматриваюсь в то, за что меня люди хулят, и часто со стыдом сам от себя отхожу. Так и в этом случае, когда все кругом на полях и дорогах, в лесах, на покосах, в трактирах, везде меня стали ругать за статью в «Известиях», самому же мне стало странным, как мог я писать в защиту какой-то Клавдофоры в переходное время, когда не только трава ледниковой эпохи, но, может быть, в каком-нибудь сарае пропадало от сырости и невежества редчайшее произведение какого-нибудь эллина… больше: просто по досадной ошибке чья-нибудь жизнь, больше чем жизнь, сама личность творящего жизнь существа.
От брошенного мною слова, однако, побежали потоки, восходящие в центр страны и нисходящие на места. Проспавшие ученые вдруг встрепенулись и завопили в защиту Клавдофоры, местные дельцы стали отбирать приговоры крестьян о необходимости спуска озера, начались комиссии, совещания в центре и на местах, вызов местных сил в центр, приезд из центра понимающих лиц. Когда меня вызывали в центр, я по ошибке ехал на места, когда места вызывали, случилось, выехал в центр, никуда не попал и о всем узнавал только по слухам.
Вот когда наконец-то понял я ласточку, летающую над самой землей и водой: если она при своем игривом полете так низится, что пугает кур и оставляет кружок на воде, то это у нее не ошибка, а нарочно так сделано, чтобы сознать захватывающую прелесть близости к себе земли и воды.
В своем литературном полете одно время я так увлекся близостью к себе родной земли, что даже стал было отговаривать молодежь от обычного, свойственного юности стремления в далекие края.
– Не нужно ездить в Центральную Африку, – говорил я, – у нас под Москвой вы найдете мир, еще менее известный, чем Африка. Надо делать открытия возле самого себя, чем ближе подойдете к себе, тем глубже проникнете к сокровищам…
Эти мои слова привлекли школьных учителей, и однажды в знакомой школе я встретил систематические занятия всей молодежи с мухами, и в честь моего посещения школы учитель-натуралист говорил почти моими словами:
– Изучайте, открывайте мир волшебный, таинственный возле себя, со всей страстью юной души изучайте мух, потому что ближе мух ничего нет к человеку.
Вот еще тогда бы надо было понять мне ласточку, – что особенная близость полета к земле предполагает особенно длинные крылья, чтобы сохранить себе возможность взлететь, когда захочется, под самые небеса. Как уверен я был до сих пор, что мое Берендеево царство существует в действительности, что стоит мне только выйти на дорогу, догнать человека, разговориться с ним, и непременно в самое короткое время неизвестный этот человек откроет мне живущего в нем Берендея и, расставаясь, сам не зная за что, будет горячо благодарить меня и усердно звать меня к своему годовому празднику в гости. На скромной нашей земле без живописных руин и заботливо охраняемых превосходных памятников прошлого, с одними только нежными березками, грациозными тропинками, кудрявой шелковистой муравой на большаке между колеями, одна была у меня широкая радость – встречать везде и всюду родных. Правда, животные тоже, а иногда и растения, мне открывались, но тем чудеснее было узнавать с пониманием собственную интимнейшую жизнь в человеческом слове из уст человека, до сих пор мне совсем не известного.
Бывало, завидев издали идущего навстречу мне Берендея, я сажусь на бревно или на камень, вынимаю папиросы и, наждав его, говорю, как другу: «Пора покурить!» Теперь, завидев пешехода или подводу, я прыгаю через канаву в лес, становлюсь там в кусты за деревом, пропускаю встречного и торопливо, чтобы не догнал кто-нибудь сзади, иду по дороге вперед. Мне иначе нельзя, потому что даже самый кроткий человек, разговаривая со мной, будет что-то держать в уме, дожидаясь момента, когда можно будет об этом спросить, а дерзкий и особенно пьяный прямо в глаза будет ругать и, не зная даже, в чем дело, просто сваливать на меня как на виновника всю свою тяготу. Непременно же гораздо легче жить, если враг воплощается в личности, в этом причина быстрого успеха всякой хулы. Даже и у себя в деревне я стараюсь на улице людям не показываться и хожу на охоту загуменной дорожкой. Но хозяин мой Николай Карпыч весь на моей стороне, он все понимает, собирает все слухи и о всем мне доносит. Какой-то профессор в Москве будто бы сказал: «Озеро надо сделать заповедником, все работы приостановить, а людей из болот переселить на сухие места». Через неделю Николай Карпыч сообщает: «Инженеры пересилили профессоров: денег очень уж много затрачено, и у всех крестьян по Дубне отобраны приговора о спуске озера». Случилось, под самым моим окном бабы заговорили:
– Трава в нашем озере выросла, как за границей, едут ее доставать.
После того на дороге показались лошади экспедиции гидрологов, и баба, показывая рукой на них, говорила:
– Зачем вам трава, спрашиваю, кто вы такие? Они отвечают: «Мы – доктора воды».
Так мы встретились с учеными и вместе поехали исследовать приговоренное к смерти озеро. Не веселы доктора воды. Оно и правда, трудненько работать весело, если на озеро смотреть как на редчайший сложный, неповторимый организм. Солнечный свет был смягчен облаками, в этом задумчивом свете вода лежала осмысленной и тоже, казалось, думала; совсем неожиданно на большой открытой воде высматривала плотная кучка зеленых тростинок…
– Клавдофора, – сказал я, – очень редкий реликт, но все-таки он не может спасти озеро от гибели. Есть ли такой реликт, чтобы мог остановить всякую такую попытку?
Доктора стали думать и называть редчайшие реликты. Из них ценным был Офиура, но лучше всего было бы найти иммигрантов моря: в конце-то концов опреснение вод – явление последующих эпох, а все живое вышло из моря…
– Назовите же, – прошу я, – мне хотя бы одного иммигранта моря такого, чтобы он был значительней Клавдофоры.
Долго ученые думают, много редкостных называют иммигрантов, но все они разве немногим интересней Клавдофоры и едва ли могут собой удивить непосвященного и остановить спуск озера.
Неужели же нет ничего! Пусть на самом деле ничего не найдется, мне нужна только возможность, я не могу отстоять озеро, но роман я могу свой написать по возможностям.
– Представьте себе, – сказал я, – наше творчество, как стрельбу из винтовки: прицел из ружья – это в творчестве будущее. В творчестве, однако, мало того, чтобы верно прицелиться и попасть, нужно еще, и это самое трудное, почти невозможное: после того как от моего же выстрела будущее сделалось настоящим, узнавать его, как свое настоящее. Я знаю по своему опыту, что, когда будущее становится моим настоящим, я представляю себе этот момент как совершенно новый взгляд на прошлое, новое, небывалое его постижение. Вот я и прошу вас дать мне этот вечный реликт для преображения его в нашем современном сознании.
Я это издавна люблю – на воде философствовать с натуралистами: болтай, что только вздумается, они все будут слушать с серьезным вниманием. Меня привлекает их застенчивость, выходящая из долга не говорить о самих вещах, а так все устраивать вокруг нас, чтобы сами вещи о себе говорили. У них есть почти физический стыд, когда начинаешь говорить о вещах, выходящих за пределы простого эмпирического обобщения: силясь ответить сочувственно, честные натуралисты часто краснеют. Впрочем, я и сам с ними стыжусь своей философии, и только необходимость добыть от них материал о реликтах заставляет меня высказываться о синтезе прошлого и будущего в настоящем. Заведующий гидростанцией, живой человек из южан, скорей всех нашелся.
– Вечный реликт? – сказал он. – Это все, что у нас за кормой.
– Это я знаю, конечно, – ответил я, – но мне нужно имя ему, мне нужно хотя бы только в романе такое открыть, чтобы немыслимо было спустить это озеро.
– По-моему, – ответил ученый, – в науке такого ничего не найдется, это скорее дело художников, откройте русалку.
– Ладно! – сказал я, – бросайте батометр.
И стал им читать:
Русалка плывет над водой,
Озаренная бледной луной.
Опускали батометр на дно озера, доставали пробы для анализа, испытывали прозрачность воды и выслушивали в телефонные трубки электропроводность. Они были настоящие доктора, призванные изучить организм приговоренного к смерти…
Наша экспедиция остановилась в богатом деревенском доме, где гордостью хозяев был филодендрон, такой высокий, что верхушка приходилась в самый потолок и непременно бы под тяжестью верхних ветвей с массивными листьями согнулась дугой, если бы не была привязана к гвоздику, вбитому в потолок заботливым хозяином. Огромный горшок с многолетними корнями помещался на скамейке возле окна.
Хозяева приветствовали нас, людей образованных,! и предоставили нам эту парадную комнату с драгоценным) филодендроном.
Так и сказала хозяйка:
– Мы людям образованным рады.
Пришло время обедать, у нас мешки с консервами, селедки смешались с ландрином, печенье подмокло и. превратилось в рыженький кисель с ванилью. Неловко было все это хозяйство обнажать в комнате, где сами хозяева смело ходили только в годовые праздники и настоящим хозяином был только почтенный высокоуважаемый филодендрон. Мы попросили разрешения и перенесли свою шуру-муру в соседнюю обыкновенную хорошую рабочую комнату.
После продолжительного плавания в дурном настроении захотелось пошутить, посмеяться, выпить по рюмочке. Оживленно мы стали рассаживаться возле стола, и тут оказалось, что одному из нас стула не хватает. Не долго думая, наш быстрый южанин, начальник экспедиции, прошел в парадную комнату и принес ту самую скамейку, на которой стоял филодендрон. Через короткие минуты мы чокались, поздравляя друг друга с выполнением нашего долга просвещенных людей в отношении приговоренного к смерти озера.
Вдруг в комнату вошла взволнованная хозяйка и с глубоким возмущением сказала:
– Образованные люди разве так делают?
Мы вскочили. Она повернулась лицом в парадную комнату и показала рукой на филодендрон…
Оказалось, ученый начальник наш не досмотрел второпях, вынул скамейку, поставил пустой горшок на пол, и привязанный к потолочине филодендрон повис в воздухе со всеми своими многолетними корнями.
Хозяйка повторила:
– Так образованные люди в порядочных домах не делают!
По-разному сложилось понимание населением моего политического существа: в сознании руководящих инженеров я был вместе с учеными квалифицированным интеллигентом, в силу своего особенного положения несколько оппозиционно настроенным к политике, рассчитанной на сознание масс. Напротив в широкой среде мужиков я был просто прислужником начальства, я, в их понимании, написал статью, чтобы озеро не спустили и все высшие комиссары могли продолжать охоту на уток. Лучи вражды техников сходились с этими низшими лучами, и так создавалась атмосфера, разрушающая мое Берендеево царство.
В этой атмосфере вражды я долго не подозревал, что было много людей, кто понимал меня совсем по-другому. Случилось однажды, много спустя после отъезда ученых, ночью, когда на улице все смолкло и даже Нюша Фуфаева прекратила свое токование, я вскочил с постели от внезапного воспоминания разговора моего с механиком на экскаваторе: он говорил тогда мне, что экскаватор может утонуть и в этом единственная опасность делу осушения.
– Романа не будет из Золотой луговины, – сказал я себе, – но это первое звено о творчестве Алпатова отлично можно закончить потоплением экскаватора.
Я зажег лампу, стал записывать. Случилось, именно в тот самый момент, когда я записал свою мысль, с улицы тихонечко кто-то постучал в окно. Не срывая кнопок, пришпиливающих газету к окну, я шепотом спросил, и мне шепотом ответили:
– Откройте, сильно надо!
Я отнял кнопки, открыл тихо окно. При свете луча моей лампы показалось лицо человека, сзади него была серая голова лошади с большим темным возом. Человек был мне совсем незнакомый, но со мной хотел обращаться, как с другом, подмигивал, стараясь как будто даже и языком прищелкнуть: «Вот штука-то!»
– Неужели не узнаете?
Я сделал вид, что узнал. Неизвестный страшно обрадовался и очень осторожно, бесшумно влез в мое окно, не расставаясь с кнутом. Потом глаза его уменьшились, над ними во все стороны бросились стрелки, из-под усов явились губы, потянулись к моему уху, и я услышал:
– Большую радость привез вам: утонул экскаватор.
Мне бы уже пора было привыкнуть к совпадениям моих загадов и действительности в этой работе: правда, сколько сложилось всего одно в одно. И все-таки это меня поразило, я вздрогнул.
– Врешь, – сказал я, – врешь!
Неизвестный перекрестился и ответил:
– Провалиться на месте, лопни мои глаза: один флачок над водой.
После того неизвестный опять заморщинился и продолжал:
– А разве не понимаем мы, к чему вы шары защищали, мы-то молчали, а дураки болтали. Вы вот теперь послушайте, что в трактирах говорят: «То-то, – говорят, – он писал о шарах, вот оно что! Человек этот, видно, с шарами».
У меня отнимался язык: неожиданные друзья мои были дальше врагов.
– Что же, – спросил я, – много таких понимающих?
– А все, – ответил он, – как только узнают, что утонул, так и скажут: «Он же об этом и писал нам, дуракам!»
XVIII
Вечная игрушка
Самоопределение, согласованное с движением планеты, в биологии признается пока следствием внутренней ритмики: так не по часам, не по видимому солнцу, а по самому себе петух узнает полночь и начинает кричать, или вечером с хриплым криком минута в минуту, как по хорошим часам, вальдшнеп начинает кружиться в лесу над поляной с молодой порослью. Это внутреннее сознание поры-времени бывает так велико, так оно повелительно, что часто журавли пускаются в путь на свою родину, несмотря на мороз и метель. Но разве мы-то, люди, на какой-нибудь другой планете живем и не дети ли мы все одного и того же нашего солнца? Часто я тоже, как журавли, вслед за жестокими душевными бурями и метелями с особенной острой радостью лечу на родину, общую с перелетными птицами. Бывает, так душит меня скорбь, что вон лезет язык, но я уж не юноша, знаю себя хорошо и ничего не боюсь: язык мой не вылезет, прилетят журавли непременно, и с ними оживут мои Берендеи. Вот эта же самая журавлиная внутренняя ритмика в предрассветный час приводит меня ежедневно после глубокого сна к новому острому сознанию вечности в жизни, я – заутренний человек и вечером о себе могу, как о птице, сказать: клюю носом. Сегодня я проснулся с воспоминанием детства, когда упрашивал мать достать мне такую игрушку, чтобы никогда не ломалась. В следующий момент пробуждения до того отчетливая мысль шевельнулась во мне, что я нащупал карандаш на столе и записал в полумраке: «Пусть рассказики мои только игрушки для детей и для взрослых, но мне кажется, я завожу и пускаю их на веки вечные, и в том моя радость».
После того мысль моя вернулась к Алпатову, как будто для того только она и складывалась: Алпатов на своем творческом пути непременно тоже должен встретиться с вечной игрушкой.
Стало много светлее. Неумытый, неодетый, сижу я на своей узенькой походной кровати и работаю, отдаваясь в писании этому птичьему чувству внутренней ритмики: лететь вперед, несмотря на морозы и бури. Да, конечно, если через десятки лет эта просьба у матери вечной игрушки является во сне и входит, как сила, в мой рабочий день, то сила эта большая, и сейчас поможет она мне приблизиться к пониманию истоков творчества. Прежде всего, конечно, всякий творец, в том числе и описанный в книге бытия, начинает создавать только себе на забаву, в силу той же самой внутренней ритмики, просто, как ребенок играет. Моя картина творчества должна начаться игрой ребенка, и тут же возле него мать, как у Пушкина в сказке: ребенок-богатырь понатужился в бочке, выбил дно и очутился с матерью на пустынном берегу. Начинается стрельба из лука в белую лебедь, и, наконец, маленький богатырь просит мать дать ему вечную игрушку. С этой игры можно будет и начать свою книгу бытия, постепенно через вечную игрушку переходя и к сознательному плану творчества: от создания света, разделения воды и суши, постепенно от низших форм жизни к самым высоким.
Мною сделано довольно понятно в прежних книгах, что бывшее в Алпатове сознание среднего интеллигента-материалиста рушилось от соприкосновения с живой материей: вдруг оказалось, что интеллигентская материя насквозь выдумана, что ничего нет в ней действительно материального, как тоже очень мало съедобного в той вымытой дождями и обветренной кости, из-за которой животные постоянно все-таки грызутся между собой. Весенняя природа, освобожденная от ледяных оков река способствуют решимости Алпатова разбить свое интеллигентское прошлое и начать творчество не с теории, плана, а просто с игры, с занятного себе самому. Открытие протока дается ему свободной догадкой, возможность превращения болота в Золотую луговину является сама собой после беседы с крестьянином. Старую брошенную железнодорожную землечерпалку он переделывает, забавляясь, в плавучий экскаватор и до встречи с Клавдофорой работает играя. Пусть открытие Клавдофоры сразу остановит его резвую жизнь. Он, конечно, может съездить в столицу и там постепенно узнавать от ученых и в книгах все значение редчайшего реликта для науки. И вот, наконец, перед ним является росстань: на одной стороне – благополучие десятка деревень у болот на создаваемой им Золотой луговине, на другой – гибель одного растительного существа, необходимого для понимания отдаленных веков, жизни планеты и через них грядущего. Встреча с Клавдофорой для Алпатова сделается чем-то вроде иллюзии вечности, необходимой для всякого творца, чтобы создаваемая им вещь делалась прочной. Со стороны, при взгляде на вещи, конечно, каждому ясно, что не вечны они, но надо же понимать и язык сотворенных вещей, хорошие вещи все говорят: «Наша прочность ручается за то, что человек, создавая нас, думал о вечности».
Мало есть людей на свете, кто обращал внимание, какое большое время проходит от самого первого света и до восхода солнца, сколько тут всего совершится в природе, и сколько мыслей может пройти в голове человека, и сколько испишешь бумаги, если научишься изображать их быстрый ход. Не скоро заиграет пастух. Мне видно из окна, как с коровьего растопа возле деревенского прудика поднялся длинноносый бекас и после этого своего ночного гулянья полетел вниз в свои болотные основные места. Я видел, как определялись капли росы на траве, и вслед за этим той же силой внутренней ритмики улетевшая в небеса моя мысль стала искать на земле определения и воплощения. Бывает, начинается с того, что просто капля росы засверкает из пазухи листика разными огнями, привлечет к себе внимание, а бывает, сверкнет внутри себя. Сколько раз я давал себе слово замечать условия, при которых бывает это сверкание, но я мало достиг: сверкает всегда неожиданно. Я одно только знаю, что это сверкание является от перестановки времени, и новое время в сравнении с нашим обыкновенным кажется вечностью: солнце вот-вот взойдет, и луч мгновенно вырвется, но мне бывает этот луч от солнца в сроках Рамзеса и Ленина. Так случилось в это утро: луч этого вечного солнца упал на маленького, теперь больного человека, проживающего в нашем селе на социальном обеспечении, потому что он честно служил начальником милиции. Кто поверит, что этот необразованный человек переменил свою обыкновенную вековечную фамилию Асленкова на имя одного из самых даровитых людей в Германии. Я, услышав про это, спрашивал местных образованных людей, врача, юрисконсульта, страхового агента, все они улыбались, но никто из них не удивился настолько, чтобы расспросить самого начальника милиции, почему он вздумал в грязном селе вместо ничтожнейшего какого-то Асленкова утвердить одно из самых изысканных в истории культуры имен. А между тем о другом ничтожнейшем Асленкове, Федоре, везде шел разговор, все высказывали встречному и поперечному, что этот негодяй с коровой, лошадью и десятком овец пролез в бедноту и не платит даже тех совсем ничтожных, определенных бедноте, налогов. Вступив однажды в село с целью купить себе в кооперативе продукты, я вдруг потрясен был представшей мне в совершенно особенном значении мыслью о поступке начальника милиции, забыл о продуктах, постучался к нему. И, смущенный и обрадованный моим визитом, бывший наш начальник милиции очень охотно рассказал мне, что он сам, избирая себе новое имя, и не подозревал даже о существовании философа-пессимиста, столь мало близкого к учению Карла Маркса. Только недавно уком, и то, наверно, не сам, а наученный кем-нибудь свыше, вызвал инвалида для объяснения, не является ли эта перемена фамилии идеологическим уклоном старого партийца в сторону философского пессимизма, само собой влекущего и пессимизм социальный. Недоразумение раскрылось при первом же вопросе, потому что бодрый марксист совсем даже и не понимал значения слова пессимизм и о Шопенгауэре как философе тоже никогда не слыхал. Вот как все произошло.
Рядовой Иван Асленков был ранен и очутился в германском плену. В лазарете за ним ходила сестра милосердия, девушка прекраснейшая. Молодой человек после разгрома германской армии и последующей революции вернулся на родину, вступил в партию, восстановил этим против себя всех Асленковых и, желая, в свою очередь, стряхнуть с себя весь асленковский прах, переменил фамилию. Всему наследственному жульничеству Асленковых ему, естественно, захотелось противопоставить самое возвышенное, самое прекрасное, что только приходилось в жизни встречать, сестру милосердия фрейлейн Луизу Шопенгауер.
Так в это утро из всех граждан я единственный сделал открытие в сокровенном мире бывшего нашего начальника милиции, как мне кажется, только потому, что один конец рычага, двигающего меня в гражданском мире под солнцем Ленина, упирается и в Рамзесово солнце. Я ничего не могу сделать прочного без опоры на вечное; и пусть другие считают ее за выдумку, ее рабочую ценность они все-таки должны признать, потому что и я и многие другие мастера только благодаря этой вечности дают людям прочные вещи.
Видал ли кто-нибудь белую радугу? Это бывает на болотах в самые хорошие дни. Для этого нужно, чтобы в заутренний час поднялись туманы и солнце, показываясь, лучами пронизало их. Тогда все туманы собираются в одну очень плотную дугу, очень белую, иногда с розовым оттенком, иногда кремовую. Я люблю белую радугу, она мне, как молодая мать с полной грудью молока. Белая радуга в это утро одним концом своим легла в лесистую пойму, перекинулась через наш холм и другим концом своим спустилась в ту болотистую долину, где я сегодня буду натаскивать Нерль.
Рожь буреет. Луговые цветы в этом году благодаря постоянным дождям необыкновенно ярки и пышны. В мокрых, обливающих меня ольховых болотных кустах я скоро нашел тропу в болота и увидел на ней далеко впереди: утопая в цветах, свесив на грудь мглистую бороду, спускался в долину простой Берендей. Я залюбовался долиной, над которой с криком носились кроншнепы, и до тех пор не мог стронуться с места, пока Берендей не скрылся в приболотных кустах. Тогда и я сам, как Берендей, утопая в роскошных цветах, среди которых была, впрочем, и Чертова теща, стал спускаться по следам того старого Берендея в приболотницу, высокий кочкарник, заросший мелкими, корявыми березками. Эта широкая полоса приболотницы, сходящая на нет возле пойменного луга, казалась мне прекрасным местом для гнездования бекасов и дупелей. Я только собрался было полазить в кочках, как вдруг вдали над серединой зеленой долины услышал желанный крик, похожий на равномерное повизгивание ручки ведра, когда с ним идут за водой: «Ка-чу-ка-чу…» – кричал бекас, вилочкой сложив крылья и так спускаясь в долину. Точно заметив место, куда опустился бекас, я с большим волнением веду туда на веревочке Нерль. Трава очень высокая, но там, где спустился бекас, все ниже, ниже, и вот, наконец, на топкой, желтоватым мошком покрытой плешине, по-моему, и должен бы находиться бекас. Ставлю собаку против ветра и даю ей его немного хлебнуть. А мой головной аппарат на это время почему-то занялся темой: «Человек на этом деле собаку съел». Мне думается, эта поговорка пошла от егерей: в дрессировке тугой собаки человек до того может себя потерять, что стоит и орет без смысла, без памяти, а безумная собака носится по болоту за птицами, и это значит – собака съела охотника. Но, бывает, собака не только слышит и понимает слова, но даже, если охотник, вспомнив что-то, тяжело вздохнет на ходу, идущая рядом собака остановится и приглашает глазами поделиться с ней этой мыслью, вызвавшей вздох: вот до чего бывает очеловечена собака, и это называется, значит – человек на своем деле собаку съел. Нерль у меня полудикая, и, пуская ее возле самого бекаса, я волнуюсь, что сегодняшним утром с белой радугой съест она во мне доброго и вдумчивого человека, каким стараюсь я быть. И тут же волнуюсь, ласкаю себя надеждой, что не ошибся в выборе собаки, что совершится почти невозможное, собака с первого разу поймет запах бекаса и поведет. Но нет, или она его не чует, или вовсе нет его вблизи этой плешинки. Раздумывая об исчезнувшем бекасе, я вспомнил Берендея и подумал, – не он ли это тогда поднял бекаса. В то же время слышу, кто-то кричит:
– Эй ты, борода!
Вижу, сам Берендей, свесив на грудь мглистую бороду, одной рукой опирается на косу, а другой показывает мне куда-то на мысок, поросший мелкими корявыми березками. Теперь все вдруг мне стало понятно: проходя мысиком, Берендей спугнул самку бекаса, она, бросив пасти своих молодых, высоко взлетела, спустилась, и тут на спуске я ее увидал. А в то время, как я подходил, пустилась бежать между кочками, как между высокими небоскребами, невидимая мне, в ту сторону, где оставила своих молодых. Все эти проделки я наблюдал множество раз и теперь не ошибся: только я стал на березовый мысок, бекасиха с криком «ка-чу-ка-чу» взлетела и неподалеку, как в воду, канула в болотную траву. Внизу в невидимых глазу темных таинственных коридорах кочкарника бекасиха бегает свободно, взлетает, когда ей вздумается на нас посмотреть, опять садится близехонько и сигнализирует детям.
Там, в осоке, есть небольшой плес, и к нему лучами сходятся среди обыкновенной болотной травы темно-зеленые полосы: это бегут невидимые ручьи под травой. У самой воды редеет осока, и плес окружает драгоценная для ночной жизни бекасов открытая грязь, в нее они запускают длинные свои носы и этими пинцетами отлично достают себе червячков. На середине воды кувшинки, их стволы, свернутые кольцами, охотники называют батышками, тут, на этих батышках, дневной утиный присадок. Около плеса мы и нашли сразу весь выводок молодых, их всех было четыре, в матку ростом, но вялые на полете. Взяв Нерль на веревочку, я направил ее к месту, где опустился замеченный мною молодой бекас. И много же мы помяли травы, но найти не могли даже и молодого бекаса. Потом я перешел на другую сторону плеса, где опустился второй из выводка, много и тут намесил, но разыскать не мог и второго. Утомленный долгой бесплодной работой, вынул я папиросы, стал закуривать, а веревочку бросил. В тот момент, когда я все свое внимание сосредоточил на конце папироски и горящей спичке, чтобы одно пришлось верно к другому, я вдруг почувствовал, что там, вне поля моего ясного зрения, что-то произошло. Взглянув, я увидел: бекасенок тряпочкой летит в десяти шагах от меня, а Нерль, крайне удивленная, смотрит на него из травы. Я еще не догадывался, почему же именно бекас нашелся в то время, когда я пустил свободно веревку и занялся своей папироской. Звено моей мысли, соответствующее нарастающему сознанию собаки, выпало, и потому дальнейшее мне явилось вдруг…
…В данный момент я не иду по болоту, а записываю звенья своей, осмелюсь сказать, творческой мысли. И как же не творческой, если хотя бы одну охотничью собаку я прибавляю к общему нашему богатству. Я видел: на стороне Берендей во время моей долгой работы с собакой косил траву и, отдыхая, иногда глядел на меня. Я уважал его дело, он тоже творил, его материал была трава. А Нерль? Сейчас я покажу, она была тоже творцом, ее материал был бекас. А у того тоже свое творчество, свои червячки, и так без конца в глубину биосферы, смерть одного на одной стороне являлась созиданием на другой. Вот вдали слышится свисток плавучего экскаватора, – подняли его! – там эта землечерпательная машина, мало-помалу продвигаясь руслом речки вверх, приближалась к нашим болотам, чтобы спустить из них воду и осушить и сделать ненужной, бессмысленной мою артистическую работу в этих местах.
Я был утомлен, свисток машины был готов переключить мое жизнеощущение творца, уверенно и радостно поглощающего свои материалы, на унылое чувство – самому рано или поздно отдаться необходимости для кого-то стать материалом. А человек, по колено в воде подсекающий осоку для зимнего корма своей единственной коровы, мне казалось, с насмешкой смотрел на мое бесполезное дело…
И вдруг… вот в том-то и дело, что никакого вдруг и не было вовсе. Это произошло только потому, что я, желая закурить, предоставил Нерли свободу. Множество лет предки породистой Нерли были в руках человека, который естественное стремление собаки подкрадываться к добыче и останавливаться, чтобы сделать прыжок и схватить, разделил: она останавливается, это ее стойка, а прыжок человек взял себе – этот прыжок его выстрел, достигающий цели гораздо вернее собаки. За множество лет культуры это вошло в кровь легавой собаки стоять по найденной дичи, выполнение стойки стало ее свободой, а дело дрессировщика только умело напомнить о живущем в ней ее назначении. Но я не напомнил своей Нерли, а только сбивал, потягивал веревочку. И когда я бросил веревку, она осталась на свободе и сразу нашла бекасенка, – это действие чувства свободы, необходимое и для собачьего творчества, и было пропущенным мною звеном. Теперь я все восстанавливаю. Причуяв на свободе бекасенка, она не сразу нашлась в наследственных навыках, потянулась, спугнула. Она подняла голову высоко из травы, чтобы поглядеть в сторону улетающего, но ветерок принес ей какой-то новый запах с другой стороны, она поиграла ноздрями, на мгновенье взглянула на меня и что-то вспомнила…
Совершенно так же, как в жмурках, бывало, мы, ребята, шли с завязанными глазами, так и она переступала с лапы на лапу в направлении плеса. Там на грязи было множество ночных следов. Я бы рад был, если бы она верхним чутьем подвела к ночным следам улетевших на рассвете бекасов. Довольно мне, чтобы она остановилась по ним с подогнутой лапой и так замерла. Но она, кроме того, повернула ко мне голову и просила глазами:
– Дело какое-то очень серьезное, такого еще не бывало, иди помогать, только не торопись, не шлепай, я же все равно почему-то дальше не могу тронуться.
А когда я к ней наконец подошел совсем близко, дрогнула, заволновалась, как бы стыдясь, стесняясь:
– Так ли я все это делаю?
Я огладил ее, вгляделся своим охотничьим глазом и такое заметил, чего ей бы никогда и не разглядеть: шагах в десяти от нас из-под травы, густой и темной, выбивался в плес небольшой ручеек, между берегами его был ржавого цвета круглый, не больше сиденья венского стула, остров, и тут на нем я сразу обратил внимание на две золотистые, округло по бутылочке к горлышку сходящиеся линии, все кончалось длинным носом, отчетливым на фоне дальнейшей воды, – это был маленький гаршнеп, только по золотистым сходящимся линиям и носу различимый от окружающей его ржавчины, согласной с остальным его оперением.
А Нерль все стояла. Как хорошо мне было! Я посмотрел в ту сторону, где Берендей косил осоку. Опираясь на косу, этот другой творец внимательно смотрел на меня. Я показал ему рукой на собаку, передавая слова:
– Смотри, не напрасно я трудился все утро, смотри, стоит!
Берендей бросил косу, развел руками, передавая слова:
– Удивляюсь, егерь, удивляюсь, больших денег теперь стоит собака!
Потом опять был свисток экскаватора, но какое мне теперь дело было до того, что когда-то болото осохнет, если я в это утро понял секрет всякого творчества. Пусть все болота осушат. Клавдофора со мной, я создам в природе небывалое охотничье угодье и напущу туда множество птиц с длинными носами и прекрасными ночными глазами.
Берендей ожидал меня вместе отдохнуть, побеседовать. Не торопясь, я к нему приближаюсь, смотрю на него, он на меня, и оба ничего не видим, у него борода знаменитая, да и я тоже почти всего себя спрятал в бороду. Так почему бы теперь о себе не говорить мне как о егере?
Берендей и егерь сразу друг другу очень понравились.
Егерь вынул папироску и предложил старику покурить.
Он отмахнулся и ответил:
– Это, друг мой, непробудное пьянство.
– Старообрядец? – спросил егерь.
– Нет…
Замялся.
– Но зато, – сказал егерь, – дети мои вышли некурящими. Я им сам сказал: «Простите мою слабость и не берите дурного примера». Они обрадовались случаю сделать мне удовольствие и не курят. Вот видишь, я курящий, а сделал людей некурящими, это заслуга больше, чем своим примером, потому что с примером надо поэкономнее, на все в мире своего примера не хватит.
Дед Григорий – так звали его – после этих слов чему-то очень обрадовался, весь просиял, преображаясь, и вся деревенская тягота с лица его спала совсем…
Хлеб эти темные люди создают подневольно, потому что не по своему желанию берет крестьянин себе земледелие, а по рождению в земледельческой почти что касте. Есть счастливые, кто занимается этим с любовью, их процесс творчества хлеба непременно сопровождается жестоким чувством собственности, как любовь к женщине ревностью, как сама жизнь явлением личности. У кого из-за этого чувства собственности, у кого из скудости и подневолья труд этот сопровождается постоянным ворчанием, ссорами, ненужной жестокостью, грязью, вонью, болезнями, легионами кусающих насекомых, мух, слепней, комаров, потыкушек, мелкого, улипчивого гнуса. В этих условиях труда человек замирает совершенно, скрывается так глубоко, что и сам не помнит себя, как существо все побеждающее и милосердное. Из прямых слов правды тут никогда не узнаешь, часто люди даже говорят обратное тому, во что они верят, что любят и жалеют. Но когда случается все это сбросить и обнажить нетронутую середину человека, там оказывается чистое дитя, которому предстоит начинать долгую, новую, неведомую нынешнему человечеству жизнь. Я и у других народов встречал это Дитя, оно везде, но в своем родном народе это дитя мне доступнее, и встречи гораздо чаще случаются…
– Сам ты немолод, – сказал Берендей, – а походка твоя легкая, как у вьюноши, чем ты занимаешься?
– Учу собак, – ответил егерь, – приходится много ходить в трудных болотах, проваливаться, мокнуть, зябнуть, вот и согреваешься скорой ходьбой, привык и не уморяюсь.
На эти слова Берендей спросил:
– Как же тебе досталась эта легкая жизнь? Удивил.
– Кто тебе сказал, что она легкая?
– Не поднимал все-таки тяжелого? Не работал с камнями, канавы не рыл?
– Рыл и канавы, и камень дробил, только по своей охоте, я так положил: умру, а достигну, чтобы делать все по охоте. Это было не легко, а у тебя есть к чему-нибудь охота?
– К пчелам.
– Почему же не пошел этим путем?
– Родился в крестьянстве: жена была, росли четыре девочки, мальчишка.
Помолчав, старик спросил:
– А тебе на легком ходу не приходит такое в голову…
Старик смутился.
– Что? – спросил егерь.
– Еген, – ответил старик.
И насупился.
Не сразу егерь догадался, что старик так назвал по-своему геенну огненную, где будет плач и скрежет зубов.
– Нет, не боюсь, – ответил егерь, – и тебе тоже не надо бояться: это было и прошло, больше нет геенны огненной.
– Ой ли! – повеселел старик. – Я сам начинаю мало-мальски догадываться. Вот было со мной, сын мой собирался в монахи идти, да вдруг и в церковь перестал совсем ходить, дальше больше, и говорит: «Отец, я хочу в партию поступить». – «Что же, – говорю, – сыночка, ты не маленький, у меня средств таких нет, чтобы тебя понуждать». Сам же сходил в церковь, помолился о сыне и так порешил: если есть бог на небе, то он не допустит сына до партии, а если примут… Вскоре сын приходит из города: в партию его приняли. Так тебя вовсе еген не пугает?
– В детстве пугали очень сильно геенной огненной, но я потом от нее освободился и стал думать, что бог должен быть милосердным.
– А как же слепень, комар, муха и улипчивый гнус, тоже не пытка, неужто милость?
– Не будь слепней и комаров, – ответил егерь, – тут бы дачники жили, перевели бы дичь и собак натаскивать мне бы тут было нельзя, эти слепни мне помощники, вроде как бы на службе у меня состоят.
От этих слов старик так принялся радоваться, будто страшный еген действительно пропал навсегда, и в полном любовном согласии с егерем, освобождая слепня из своей бороды, сказал:
– Хлеб, соль да милость и разбойника покоряют.
Потом Берендей стал собираться, прощаться, вынул из бороды егеря и отпустил на свободу одного слепня, похвалил его бороду.
– Дедушка, – сказал егерь, – был я богат и брился, теперь, когда придут за долгами, я только ладонью по бороде проведу: вот для чего борода.
– Для всего хороша борода, – сказал Берендей, освобождая еще одного большого жука. – Другой норовит тебе плюнуть в глаза, а попадет в бороду.
И, взвалив огромную вязанку травы на плечи, окруженный непобедимым воющим войском слепней, Берендей стал подниматься вверх своею тропой.
Наверху сошла с кустов роса и внизу под кустами блестит только в пазухе такого листка, где никогда и не просыхает. Коровы наелись и грудой стояли у болотного бочага. Подпасок Ванюшка лежал на кочках дугой. Не сразу и догадаешься, как вышла дуга; он, должно быть, лег на кочку головой, но, пока спал, кочка умялась, голова опустилась, – получился высокий живот, а голова и ноги внизу.
Я его давно знаю: ярко-рыжая голова, и на лице крупные веснушки одна к одной, глаза блестящие, чистые, как обсосанный леденец. Я давно его принял в Берендеево царство и, когда вижу, мимо ни за что не пройду. Мне сегодня удача, хочу с ним побыть и бужу маленького Берендея. Он открыл один глаз на мгновенье, вынул немного начатую полбутылку, протянул мне и опять уснул. Я стал трясти его и хохотать.
– Пей! – сказал он. – Вчера гулял на празднике, тебе захватил.
Когда он совсем пришел в себя, опохмелился, я вынул из сумки последний номер «Охотника» с моим рассказом и дал ему:
– Прочитай, Ваня, это я написал.
Он принялся читать. А я закурил папиросу и занялся своей записной книжкой на пятнадцать минут, так уже замечено, что курится у меня ровно пятнадцать минут. Когда кончилась папироса, а пастух все читал, я перебил его вопросом:
– Покажи, много прочел?
Он указал: за четверть часа он прочел две с половиной строчки, а всего было триста.
– Дай сюда журнал, – сказал я, – мне надо идти, не стоит читать.
Он охотно отдал журнал со словами:
– Правда, не стоит читать.
Я удивился: таких откровенных и добродушных читателей как-то це приходилось встречать даже среди крестьян. Чуть ущемило, но больше понравилось. Он же зевнул и сказал:
– Если бы ты по правде писал, а то ведь, наверно, все выдумал?
– Не все, – ответил я, – но есть немного.
– Вот я бы так написал!
– Все бы по правде?
– Все. Вот взял бы и про ночь написал, как ночь на болоте проходит.
– Ну, как же?
– А вот как. Ночь. Куст большой, большой у бочага. Я сижу под кустом, а утята – свись, свись, свись.
Остановился. Я подумал – он ищет слов или дожидается образов. Вот очнулся, вынул жалейку и стал просверливать на ней седьмую дырочку.
– Ну, а дальше-то что? – спросил я. – Ты же по правде хотел ночь представить.
– А я же и представил, – ответил он, – все по правде. Куст большой, большой. Я сижу под ним, а утята всю ночь – свись, свись, свись.
– Очень уж коротко.
– Что ты, коротко, – удивился подпасок, – всю-то ночь напролет: свись, свись, свись.
Соображая этот рассказ, я сказал:
– Как хорошо!
– Неуж плохо, – ответил он.
И заиграл на дудочке, сделанной из волчьего дерева, тростника и коровьего рога.
Это было какое-то особенно счастливое утро свободы: я освободил Нерль от веревочки, и она в благодарность за это сделала мне отличную стойку, потом освободил старого Берендея от егена, пастуха от чтения… И в это же самое утро маленькая дикая уточка чирок-свистунок решилась наконец-то перевести своих утят из леса в обход деревни в озеро на свободу. Весной это озеро далеко разливалось, прочное место для гнезда можно было найти только версты за три на кочке в болотном лесу. А когда вода спала, пришлось все три версты путешествовать к озеру. В местах, закрытых от глаза человека, лисицы и ястреба, мать шла позади, чтобы не выпускать утят ни на минуту из вида. И около кузницы при переходе через дорогу она, конечно, пустила их впереди. Вот тут их увидели ребята и зашвыряли шапками. Все время, пока они ловили утят, мать бегала за ними с раскрытым клювом или перелетывала в разные стороны на несколько шагов в величайшем волнении. Ребята только было собрались сбить шапками мать и поймать ее, как утят, но тут я подошел, осчастливленный удачной натаской и мыслью о великой творческой силе чувства свободы для каждого живого существа.
– Что вы будете делать с утятами? – спросил я строго ребят.
Они струсили и ответили:
– Пустим.
– Вот то-то «пустим», – сказал я очень сердито. – Зачем вам надо было их ловить? Где теперь мать?
– А вон сидит! – хором ответили ребята.
И указали мне на близкий холмик парового поля, где уточка действительно сидела с раскрытым от волнения ртом.
– Живо! – приказал я ребятам. – Идите и возвратите ей всех утят.
Они как будто даже и обрадовались моему приказанию, прямо и побежали с утятами на холм. Мать отлетела немного и, когда ребята ушли, бросилась спасать своих сыновей и дочерей. По-своему она им что-то быстро сказала и побежала к овсяному полю За ней утята, пять штук. И так по овсяному полю в обход деревни семья продолжала свое путешествие к озеру.
Радостно снял я шляпу и, помахав ею, крикнул:
– Счастливый путь, утята!
Ребята надо мной засмеялись.
– Что вы смеетесь, глупышки, – сказал я ребятам. Думаете, так-то легко попасть утятам в озеро; вот погодите, дождетесь экзамена в вуз. Снимайте живо все шапки, кричите: кричите «До свиданья!»
И те же самые шапки, запыленные на дороге при ловле утят, поднялись в воздух, все разом закричали ребята:
– До свиданья, утята!
Календарь природы*

Весна
Весна света и воды
У нас, фенологов, наблюдающих смену явлений природы изо дня в день, весна начинается прибавкою света, когда в народе говорят, что будто бы медведь переваливается в берлоге с боку на бок; тогда солнце повертывается на лето, и хотя зима на мороз, – все-таки цыган тулуп продает.
Январь средней России: предвесенние оживленные крики серых ворон, драки домовых воробьев, у собак течка, у черных воронов первые брачные игры. Февраль: первая капель с крыш на красной стороне, песня большой синицы, постройка гнезд у домовых воробьев, первая барабанная трель дятла.
Январь, февраль, начало марта – это все весна света. Небесный ледоход лучше всего виден в большом городе наверху между громадами каменных домов. В это время я в городе адски работаю, собираю, как скряга, рубль за рублем и, когда, наругавшись довольно со всеми из-за денег, наконец в состоянии бываю выехать туда, где их добыть мне невозможно, то бываю свободен и счастлив. Да, счастлив тот, кто может застать начало весны света в городе и потом встретить у земли весну воды, травы, леса и, может быть, весну человека.
Когда после снежной зимы разгорится весна света, все люди возле земли волнуются, перед каждым встает вопрос, как в этом году пойдет весна, – и каждый год весна приходит не такой, как в прошлом году, и никогда одна весна не бывает точно такой, как другая.
В этом году весна света перестоялась, почти невыносимо было глазу сияние снега, всюду говорили:
– Часом все кончится!
Отправляясь в далекий путь на санях, люди боялись, как бы не пришлось сани где-нибудь бросить и вести коня в поводу.
Да, никогда новая весна не бывает, как старая, и оттого так хорошо становится жить – с волнением, с ожиданием чего-то нового в этом году.
Наши крестьяне, встречаясь друг с другом, только и говорят о весне:
– Вот-вот оборвется!
– Часом все кончится!
У нас перед домом намело огромный сугроб, и он лежал на солнце, сиял, как непомятая лебединая грудь. С трудом я открыл дверь, заваленную ночным снегом, и, пробивая лопатой траншею, стал раскидывать и белый пух этой ночи и под ним залежалые тяжелые пласты.
Я не жалею сугроба; вон в световом половодье на небе плывет облако, большое, теплое, каких не бывает зимой, и оно тоже – как непомятая лебединая грудь. Там и тут вместе с весной, на земле и на небе, показывается вновь мое неоскорбляемое видение, и я встречаю его теперь без сумасшедшей тревоги и провожаю без отчаяния: оно, как весна, приходит и уходит и, пока я жив, непременно возвращается. Чего же мне тосковать? Я теперь уже не ребенок, а отец и хозяин всех моих видений.
Это не шутка – пятидесятый год; вспомните, как сказано об этом в древней книге: шесть лет работай землю, а седьмой пусть земля отдыхает, и когда семь раз по семи так совершится, то это будет твой пятидесятый год, тогда возьми трубу и труби, и это будет твой юбилей.
– Ну, ребята, – кричу я, – живо вставайте, идите мне помогать, скоро будет мой юбилей!
Их зовут Левка и Петька, оба умирают в лесах на охоте. Я с толком воспитал в них эту свою страсть: ради меткого выстрела мои дети не загубят жизнь, они убивают только, что мы едим и что можно сохранить для музея. Так убивая, они становятся правдивее, чем те, кто говорит против убийства, а сам берет мясо в лавке; на этом пути дети, по-моему, ближе становятся к природе, и каким-то образом даже лучше учатся жалеть человека. После Нового года и до первой весны, в закрытое для охоты время, они, бывает, танцуют в городишке и поздно возвращаются ко мне в деревню, и это у них тоже называется стрелять. У Левы рано наклюнулись усики, он их потихоньку подбрил моей бритвой, и теперь у него усы на верном ходу. У младшего губы еще совершенно голые.
Начиная от Сороков, когда прилетают грачи, жаворонки и всякая мелкая птичка, они бросают мысли о танцах и в свободные часы начинают готовиться к тяге, к глухариным и тетеревиным токам. А когда пойдет самая охота, возвращаясь вечером с тяги, вспоминают иногда с удивлением танцевальное время и говорят, что это было от нечего делать. Опять они начинают ошибаться в словах и говорить не девушки, как я им велю, а девчонки, и теперь почему-то я их больше и не поправляю.
– Ну, ребята, – говорю им, – чувствуете вы, какой нынче день, весна света в полном разгаре, скоро вода погреба зальет, живо, живо работайте, други!
Мы славно поработали, и от этой вольной работы здоровье души переливается через край.
Стою, опираясь на погруженную в снег лопату, и не могу себе ясно сказать, кого я так сильно люблю.
Над фиолетовым лесом играют два ворона, кувыркаются.
Да вот же кого я люблю – эту птицу! В зимний страшный день, когда от сильного мороза солнце как будто распято на светлых столбах, все засыпано снегом, спрятался человек, зверь, птица обыкновенная на лету падает мертвая и только я – живая душа – еду, неуверенный, доберусь ли домой, – вот этот черный ворон над белым покровом летит высоко, скрипя обмороженным маховым пером.
А вот теперь у ворона разгар любви: нижний с разлету сшибает верхнего и поднимается выше, сбитый проделывает то же самое, и так, чередуясь, летят они все выше, выше и вдруг с криком ринутся вниз и сейчас же наверх.
Вороны кувыркаются – до чего хорошо! В душе звучит мелодия, и вместо слов отзывается мне все голубое небо, и по этому светлому половодью вот опять плывет теплое облако, как большая белая птица, подымая высоко лебединую грудь, никем не помятую.
С осени лежала на лугах паутина, по народному календарю – к урожаю, все Рождество на деревьях был иней – опять к урожаю, и что снегу навалило порядочно – тоже все к хорошему, а вот что на Евдокию петух не напился – это к трудной весне: метель на Евдокию – у мужика все выметает из закрома. Солома, сено, овес – все вздорожало.
Но в нашем лесном краю, где зимой возят на станцию лес, задержка в ходе весны идет на добро: лишних недели две санного пути – все дай сюда. Я тоже люблю, когда снег задержится и весна света разгорится над снегами до того, что настоящие летние громады кучевых облаков перемещаются по небу и оставляют на снегу переходящие голубые пятна. Когда весна света перестоится, то и радость ожидания до того доходит, что трудно ее выносить.
Мне ли не знать, как много беды на земле, как нечеловечески жестоко иногда говорить о радости жизни, но сейчас мне кажется: если бы суметь с большой осторожностью высказать свою радость и как-нибудь обмануть слабых, то это и было бы как раз то, что надо.
Под вечер стало сильно морозить, но громадное летнее облако держалось до темноты. Наклонился месяц, и между звездами одна особенно мерцала, непрерывно меняя синие, зеленые и красные рубашки.
Зачем же мне скрывать эту минуту: душа моя переполнена счастьем, а впереди я ничего не боюсь.
Вы думаете, я говорю это, как русские писатели, чтобы потом по контрасту сильнее показать какие-нибудь ужасы жизни? Положа руку на сердце, говорю: ничего подобного. Я хотел бы написать повесть с хорошим концом, чтобы все закончилось свадьбой.
Скрипят по морозу подсанки огромного обоза. По глубокому снегу нельзя его обойти, и волей-неволей я должен идти за ним, умеряя свой шаг.
Лес везут сильные мужики, у кого лошадь хорошая и может выдержать эту большую работу. Слабым да бедным людям зиму приходится сидеть на печке. Зимой, пройдя по деревне, сразу можно узнать дворы, где ворота занесены и на сугробах нет следа даже кошачьего.
Обоз идет в глубоком молчании, и только иногда слышатся рабочие слова, понукивание лошадей. Каждый из этих людей, шагающих ночью десятки верст рядом с подсанками, сосредоточил в себе в меру своего чувства и разума жизнь огромного народа, перенесшего небывалый в истории опыт.
– Мирон Иваныч, – говорю я, – расскажи мне, пожалуйста, как ты воевал, что видел в плену. Подумав немного, он начинает:
– В каком это было государстве, в каком городе – не знаю. В Германии? Нет, не в Германии. В Австрии? Нет, не в Австрии. Лагерь наш был в церкви, начальство и жизнь были германские…
Мирон Иваныч начинает свой рассказ из новой жизни совершенно так же, как старые люди сказки рассказывали: в некотором царстве, в некотором государстве.
– А когда это было, в каком году?
– В каком году – теперь не запомню. Было это, конечно, при царе Николае.
Это значит, как при царе Горохе. Так создается сказка: устраняется место, время, и от этого самая обыкновенная жизнь становится волшебной.
Жили-были в лагере русские военнопленные, триста шестьдесят человек, ходили на работы, ели суп из тюленей. очень жирный. Неплохо. Бывал суп из какого-то красного мяса, будто бы из морской собаки, потому что немец-повар, давая такой суп, лаял собачкой. Случалось, давали консервы из устриц, но Мирон Иваныч устриц не ел и менял их на папиросы. Однажды приводят в лагерь нового военнопленного; человек оказывается умственный, с деньгами. Этот человек и на работу не ходит. Перешептался он с нашими, денег дает и просит во что бы то ни стало купить ему ножовку. Был один такой цивильный человек, заказали ему ножовку, принесли. Тогда этот военнопленный потихонечку под нарами стал выпиливать дырку и обещается: «Я вас всех выведу». Так и выпилил кусок половицы аккуратно; подымет – дыра, закроет – ничуть не заметно. Первый раз согласились десять человек, звали и Мирона Иваныча, но он не пошел и сказал им: «Посмотрю, как вы дойдете. Пришлите письмо». Вот эти смельчаки ночью спустились в дыру, и след их скоро простыл. Через несколько времени получается письмо: дошли благополучно. Позавидовал Мирон Иваныч, но все-таки, когда и вторая партия собралась, не решился. Потом стали пропадать по двое, по трое. Немцы дивятся, усилили караул на работах и никак не могут дознаться: пропадает народ на глазах, а как – неизвестно. Рано ли, поздно ли, конечно, все-таки догадались бы, но тут у самих немцев случилась революция, заиграл красный флаг. Теперь уж и сам офицер намекает, чтобы уходили: часовой, мол, будет грозиться, не боялись бы, – не стрельнет. И уходили. А Мирон Иваныч все сидит с рассуждением: раз уж у них революция, то недолго ему дожидаться конца всему. Офицер теперь прямо говорит: «Уходи!» Нет, Мирон Иваныч просит записку от офицера. Тот смеется: «Так, – говорит, – иди себе, никто тебя не тронет, а записки дать никак не могу». День проходит, другой, третий, из-за одного только Мирона Иваныча содержится караул. Надоело офицеру. «Ну, – говорит, – на тебе записку». Но и тут Мирон Иваныч не совсем поверил. Показал другому офицеру. Тот одобрил. Показал часовому. Пропустил. И зашагал Мирон Иваныч в Россию.
– Почему же ты, – спросил я, – добивался записки, когда все ушли?
– Потому что, думаю, какая же наша сила, ежели германский офицер с побегом согласен.
Потом Мирон Иваныч стал очень хвалить интеллигенцию и уверять меня, что не будь у нас интеллигенции, то и он бы пропал, когда вернулся из плена домой. Думал, в рай идет к себе на родину, а вернулся – семья побирается, и сам ничего не может понять. Пошел в город посоветоваться с богатой купчихой Василисой Петровной. «Не мне тебе теперь помогать, – сказала Василиса Петровна, – а ты мне помоги». И надавала ему всяких своих вещей, больших и маленьких и даже серебряных, чтобы спрятал куда-нибудь и поберег. «В долгу не останусь», – уверяла Василиса Петровна.
Во время этого длинного рассказа о Василисе Петровне я потерял волнующую меня мысль и, с трудом наконец вспомнив ее, сказал:
– Мы ведь, кажется, заговорили о русской интеллигенции, Мирон Иваныч… Каким же образом вышел у тебя рассказ о купчихе Василисе Петровне?
– Вот именно, – ответил Мирон Иваныч. – Не будь Василисы Петровны, пришлось бы идти по миру. А тут я сразу стал на ноги. Теперь дом у меня новый, лошадь хоть и одна, да, вон посмотри, за две везет, корова хоть и одна, да круглый год с молоком, и овец полон двор.
Закончив рассказ, Мирон Иваныч захотел помочиться и отстал от обоза. Я спросил его здоровенного сына:
– Петруша, почему ты не идешь в комсомол?
– Не хочу старика обижать. Не будь его, я давно бы уже был в комсомоле.
– А что тебе там?
– Как что? Комсомольцев на фабрику берут в первую очередь. Не будь старика, я бы теперь в месяц шестьдесят рублей получал и не возил в ночь и в полночь двенашник на станцию.
Так понимал сын комсомол.
Отец же, догнав обоз, говорил.
– Спасиба, спасиба и много раз спасиба интеллигенции!
Так понимал отец интеллигенцию.
Потом мы шли молча, и я думал о повести с хорошим концом.
Три дня не было мороза, и туман невидимо работал над снегом. Петя сказал:
– Выйди, папа, посмотри, послушай, как славно овсянки поют.
Вышел я и послушал, – правда, очень хорошо и ветерок такой ласковый. Дорога стала совсем рыжая и горбатая.
Казалось, будто кто-то долго бежал за весной, догонял и наконец коснулся ее, и она остановилась и задумалась… Закричали со всех сторон петухи. Из тумана стали показываться голубые леса.
Петя всмотрелся в редеющий туман и, заметив в поле что-то темное, крикнул:
– Смотри, земля показалась!
Побежал в дом, и мне было слышно, там он крикнул:
– Лева, иди скорее смотреть, земля показалась!
Не выдержала и мать, вышла, прикрывая от света ладонью глаза:
– Где земля показалась?
Петя стоял впереди и показывал рукой в снежную даль, как в море Колумб, и повторял:
– Земля, земля!
К обеду небо пролысилось, и леса стали голубеть все больше и больше, пока не сделались совсем фиолетовыми. Лева принес важное известие:
– В низах вода напирает!
Петя заметил: тетерева сидят на деревьях и выбирают место для тока.
– Может быть, просто кормятся? – спросил я.
– Нет, – отвечает, – они сидели низко на корьёвнике, там им нечем кормиться.
Иду в село за провизией по обрытой дороге. Рядом, по старой дороге, едут на базар подводы. Моя высокая дорога сильно обтаяла, вода стекла в канаву, а на старой – слежалый и закрытый навозом снег, как стальной, и долго будет лежать, и долго еще но старой дороге будут ездить мужики на базар; старая дорога одна теперь соединяет в один путь все проселки.
Туман все-таки еще не совсем разошелся, не видно села. Но я слышу, как там кричат петухи. Чем ближе я подхожу, тем сильнее крик петухов, не крик даже, а петушиный рев, все село кричит по-петушиному. Так скоро будут грачи орать на гнездах, выгоняя ворон, потом, к Егорью, коровы, и после всего девки начнут.
К вечеру мы вышли проверить, не отзовутся ли на пищик рябчики. Весной мы их не бьем, но потешаемся; очень занятно бывает, когда они по насту бегут, останавливаясь, прислушиваясь, и, бывает, набегут так близко – чуть что не рукой хватай.
Возвращаться нам было труднее: прихватил вечерний заморозок, ногу наст еще не держал, проваливалось, и ногу трудно было вытаскивать. Оранжевая заря была строгая и стекленеющая, лужи на болотах горели от нее, как окна. Нам было очень нужно узнать, что это: тетерева бормочут или так кажется. Все мы трое взгромоздились на большую вытаявшую кочку, прислушались.
Тут я пыхнул дымом из трубки, и оказалось – чуть-чуть тянуло с севера. Мы стали слушать на север и вдруг сразу все поняли, – это внизу, совсем близко от нас, переливалась вода, напирая на мостик, и пела, совершенно как тетерев.
За ночь сильно вызвездило, в комнате стало прохладно, – я вышел посмотреть, что делается на дворе. Как раз в это время и сосед мой, старый крестьянин, вышел до ветру.
– Морозит, – сказал я.
Он не сразу ответил, осмотрел все вокруг себя – снег, звездное небо, шарахнул ногой и сказал о морозе:
– За дедом внук пришел!
Я попробовал пройти по снегу, – не провалилось.
– Хороший внук, – сказал я старику и пошел будить детей.
Я им рассказал, что это, может быть, последний наст и нам надо непременно идти на Ворогошь – проверить ток глухарей, и если даже не услышим песню, то увидим на снегу чирканья крыльев.
– Ты, папа, спец, – сказал радостно Лева и стал тормошить Петьку.
Все подковало и даже припорошило. Дорога была легкая и радостная во все стороны. На десятки верст леса и болота нами исхожены, избеганы с гончими, и всем островам, низинам, хохолкам дано наше имя: есть у нас «Ясная поляна» с тремя высокими елями, под которыми всегда зайцы проходят, есть сухое местечко между двумя большими болотами – «Передышка», есть «Золотая луговина», а верст за восемь от нас, среди временами почти непроходимых болот, высится боровое местечко, далеко видное, местные люди зовут его просто Вихорек, а мы окрестили «Алаунская возвышенность». Со свежими силами по припорошенному насту мы быстро промахнули все восемь верст до Вихорька и тут на высоком месте щекой уловили первое движение южного ветра. Тут я вспомнил, как все говорили о весне – «часом все кончится», и затревожился: «Что, если при южном ветре будет солнечный день, как мы выберемся из этих глухариных мест?»
В ожидании первого света мы прислонились к деревьям и слушали. И вот это уж верно: всю жизнь ходи в лесу, все узнай, все изучи, и все-таки нет-нет и выйдет такое, что никак не поймешь. Услышали мы треск внизу на болотах, и такой сильный, что лед разлетался, как стекло, и эти стеклышки льда, падая, тоже давали звук. Чудовище, ломавшее лед на болотах, очень быстро двигалось к нам, и все мы трое, затаив дыхание, со взведенными курками, ожидали его в темноте. Но оно, не дойдя немного нашего острова, завернуло и пошло все дальше и дальше в болота. На том сухом местечке, которое мы зовем «Передышкой», треск на короткое время прекратился, а потом опять стало ломать, и это было слышно без конца и, верно, уж больше по догадке. Потом, когда в той стороне загорелась красная заря, Петя услышал первый оттуда желанный звук и потом Лева. Верно, это было очень далеко, я не слыхал, и в ушах у меня пели сверчки да по догадке по-прежнему лось все ломал и ломал стекло на болоте. Они услышали первые, и теперь их дело скакать вниз и потом, с риском спугнуть, по стеклянному болоту.
Мне довольно прекрасной зари и ласкового южного ветерка, – я стою на горе и смотрю туда вниз, на болота, покрытые редкими темными седухами – соснами.
Сколько времени я так стою? Проходят красные века по заре, и вдруг там, у них, выстрел: это лучше, чем мне бы пришлось, – так уж почему-то складывается: их удаче я больше радуюсь, чем своей. Но и мне пришлось поскакать немного; на третьем скачке я услышал особенный, непередаваемый звук больших крыльев, быстро обернулся туда, на красном поймал между кронами большое черное и туда, как в стену, выстрелил, а другой глухарь, к которому я скакал, сорвался. И пусть, мне больше не надо. Он упал на огромную муравьиную кочку под соснами, и в нее, в эту еще не ожившую кочку, я сел лицом к заре.
У них там был еще один выстрел, но я его пропустил почти без внимания, потому что при восходящем солнце около муравьиной кочки открылся целый мир загадок, которые все я, напрягая весь свой ум, стал разгадывать. Был там один маленький канальчик в луже подо льдом, и по канальчику струилась вода. Откуда взялся канальчик? Я разгадал: это когда снег только еще начал таять, мышь пробежала и омяла его, потом подморозило, и когда снова стало таять, то омятое мышью не так быстро превращалось в воду, как снег, и когда еще раз сверху заморозило, то подо льдом вода мышиный ход приспособила для своего бега.
Может быть, я и уснул, но в природе я сплю, не обрывая ни чувств своих, ни дум, только время проходит без счета. Меня разбудила пригнутая снегом ветка и примороженная верхушкой к той самой луже, где для своего бега вода приспособила мышиный ход, – эта ветка вдруг прыгнула и стала передо мной деревцем. Я вздрогнул, вскочил, и что же открылось мне с этого места, называемого нами «Алаунской возвышенностью»: вода голубая, кругом вода!
То, что мы тут отрезаны на острове, мне и в голову не пришло, – как-нибудь доберемся, не в этом дело. Счастье увидеть еще раз весну света и воды было безмерное; мгновенно вспомнилось мне из древней книги: шесть лет работай землю, а седьмой пусть земля отдыхает, и когда семь раз по семи так совершится, тогда возьми трубу и труби, и это будет твой юбилей.
Я отнял ствол от ружья и затрубил что было мочи. Пришли мои встревоженные дети. Я им велел отнять тоже стволы и сказал:
– Трубите, дети, сегодня мой юбилей!
В этот год, когда моя земля отдыхает, я не буду ничего придумывать: буду писать, не переменяя на свой лад имен, отмечая каждый день весны; героем моего рассказа пусть будет сама земля.
Потребность записывать все явления природы явилась во мне, когда я начал удерживаться от весенних отдаленных путешествии, и, когда я стал, мир пошел. В нынешнем году я достал себе фенологическую программу и веду записи, как требует наука, но в черновиках своих я тут же отмечаю и события своей личной жизни, встречи, замыслы, так что вся моя жизнь этой весны расположилась фенологически.
В тот день, когда я записал себе: разбивка долгохвостых синиц на пары, Пете сказали в школе, что вторая ступень у них преобразуется в семилетку, он получит свидетельство об окончании, а если хочет дальше учиться, то надо переехать в другой город. А мы уже и раньше думали, как бы податься куда-нибудь поближе к воде, и списывались с Переславлем-Залесским, где находится прекрасное Плещееве озеро. Случилось, что как раз в этот день долгохвостых синиц и Петиной семилетки получился ответ от заведующего Переславльским музеем, что в Переславле школа недурная и при музее ребятам можно хорошо заниматься краеведением, что птиц всяких множество, подальше в лесах еще сохранились лоси, рыси, медведи, что в трех верстах от города на высоком берегу Плещеева озера есть историческая усадьба, где хранится ботик Петра Первого, и тут есть пустой дворец, в нем предполагается устроить биостанцию, и если я положу этому делу начало своими фенологическими наблюдениями, то могу занять любую квартиру в этом дворце.
После того в письме был подробно указан путь на лошадях прямо или же кругом, через Москву, по железной дороге до станции Берендеево.
Какие удивительные есть имена, и как они на меня действуют: дворец мне явился сказочным дворцом Берендеева царства, и пошло и пошло в душе берендить.
«Ну, Берендей, – сказал я себе, – думать тебе больше нечего».
Страстное чувство природы совсем не мешает мне любить большие красивые города и их сложную жизнь: когда мне в городе захочется на волю, я сажусь на трамвай – и через двадцать минут опять в поле. Я, должно быть, свободный человек. Годами живу в хижинах рыбаков, охотников, крестьян, люблю трудовых людей, мне холодно и неловко у богатых мещан, но это не мешает мне любить города и дворцы. Черт бы ее подрал, эту мою хижину, где летом при сильном дожде сухо только в печке, а зимой не вылезаешь из полушубка.
Куй железо, пока горячо, скорей стучи, молоток, по ящикам, туже затягивайся, веревочка.
– Лева, – командую, – коленкой, коленкой нажми, чтобы не развязалось дорогой. Петя, вычисти и смажь получше наши ружья, слышал: рыси есть и медведи.
Оставив детей сдавать экзамены, мы отправились в путь, и над нами дикие гуси летели на север, верно, тоже к Плещееву озеру.
Мы в ограде Горицкого монастыря, большой, способный вместить тысячи людей города, расположенного крестом на берегах реки Трубежа и Плещеева озера. И, может быть, время такое и было, когда люди сюда вбирались от врагов. Теперь внутри стен пусто, сняты языки с некоторых колоколов, возле архиерейского пруда, соответствующего локоть в локоть размерам Ноева ковчега, бродят только две козы заведующего народным музеем, историка местного края, и с ними бегает Галя, дочка помощника заведующего, фауниста.
С малой колокольни видна вся жизнь за стеной: множество монастырей и церквей древнего города и между ними поток деревенских людей на базар. Так все тут смешано, в этом городе-музее: древняя обитель, где находится наш музей, называется Пречистая на Горице, а сама земля, на которой стоит Пречистая, называется Вшивая горка, и на Вшивой – улица Свистуша, теперь переименованная в улицу Володарского, потом Соколка, где жили когда-то соколиные помытчики Ивана Грозного, теперь же просто человек живет – гол как сокол. Внизу лес церквей, так что между ними вот только проехать; одна из церквей – Сорок мучеников – стоит при самом впадении Трубежа в озеро и названа в память утопленных в каком-то озере сорока мучеников; другая – как раз напротив, тоже на берегу Трубежа и Плещеева озера, называется Введение, потому что, по объяснениям рыбаков, служит введением в лов знаменитой переславльской селедки, а дальше опять высота, и на ней опять святыня – Федор на Горе.
Так странно, что в болотах, испещренных малыми речками, мы уже справили весну воды, а Плещееве озеро все лежит, как зимнее поле, и только по едва различимой глазом лесной зубчатой оторочке догадываешься, что все это огромное белое поле – озеро.
Налево от Горицкого на этом озере виднеется одна высота с белым дворцом в память Петра Первого и колыбели русского флота, на другой стороне – высота Александровой горы с погребенным в земле древнейшим монастырем, и названа эта гора Александровой в честь Александра Невского, переславльского князя, а в народе гора называется Ярилова плешь.
Все это я сразу узнал от местного историка, посвятившего всю жизнь изучению родного Переславльского княжества и сохранившего во всей чистоте владимирский говор на «о».
– В Горицком я седьмой квартирант, – говорил он по-владимирски, – первым был шут: вот Шутова роща, Шутов овраг, и даже одна из наших башен называется Шутова.
Шут, потом финские жрецы, еще кто-то, под самый конец архиерей… Я хорошо запомнил шута и все думал о нем, когда историк рассказывал о каком-то селе Воскресенском, в народе называемом Чертовым.
«Не оттого ли, – думалось, – Шутово стало Чертовым, что в борьбе с веселым Ярилой, или шутом, святые отцы поставили невозможную задачу Воскресения, одна невозможность вызвала другую, и бытовой добродушный Ярило перестроился в мистического злого черта».
Все монастыри, все церкви, имеющие художественное значение, и ботик Петра Первого, и Ярилова плешь – все принадлежит музею.
– Вот так музей, – сказал я, – от Ярилы до Петра Первого…
– И после Петра, – ответил историк, – хотите, сейчас покажу Екатерину, Елизавету…
В это время прибыли посетители музея, и все мы пошли смотреть Успенскую церковь.
Этот историк – отличный хозяин и своего рода переславльский собиратель земли, а главное, великоросс: может представить картину и на широкой воле и, когда нужно, вильнуть по узенькой тропинке…
Заметив, что не всем интересен рассказ про екатерининский иконостас и елизаветинское барокко и что многие неопределенно блуждают глазами по голубым сводам, он начинает рассказывать про архиерея Геннадия Кротинского, умершего от холеры и погребенного под этим храмом.
Место могилы на полу храма обнесено решеткой, и за ней какой-то накрытый бугорок. Бывало, монах доставал отсюда из-под плата рукой песочек, раздавал верующим, и те думали, будто эта земля из-под сводов через камень, бут и дерево пола выпирает наверх. А вот теперь каждый может открыть платок рукой и убедиться, что песок просто насыпан в жестяную коробку из-под карамели, с которой даже не потрудились стереть надпись: «Эйнем – Смесь».
Один из посетителей, не обращавший внимания на екатерининское и елизаветинское искусство, не улыбнулся и на «Эйнем – Смесь». Михаил Иванович указал этому мрачному юноше на фреску «Богатого и Лазаря».
– Это в огне буржуй кипит, – сказал он, – а пролетарий, смотрите, вознесен горе в лоно Авраамово! Посетитель оживился и сказал:
– Вот видите, с каких времен это все существует.
– Молодой человек, – ответил историк, – это так было действительно очень давно.
Когда мы вышли из церкви и со стены глянули на озеро, то все заметили, что сегодня, в очень теплый день, отделилась узенькая голубая полоска заберегов и высоко плыли, курлыкая, журавли.
Славно греет солнце на музейном дворе; летают бабочки-крапивницы. Фаунист Сергей Сергеич отметил день крупным событием: жуки, музейные вредители, переползли на внутренние стены. Он собрал в мешок много сухих листьев, просеял, и долго мы смотрели в лупу, как эти сор-жуки оживали.
– Сергей Сергеич, – спросил я, – из этих шестидесяти тысяч собранных вами жуков, наверно, есть у вас какой-нибудь любимый, с которого все начинается? – Он не понял меня, повторил: – Есть у вас любимый жук?
Очень задумался.
– Личный какой-нибудь жук? – бормотал я.
– Есть, – с живостью сказал он, – только это не отдельный жук, а вид.
Ну вот… вид. Я же потому именно и спрашивал, чтобы выйти из вида и вспомнить того личного жука, который, может быть, в последнюю минуту отчаяния сверкнул всей красотой мира и спас жизнь Сергея Сергеича. Но раз любим целый вид…
– Хотя бы вид, – сказал я, – какой же вид?
Грузный, весь заросший волосами, сам похожий на большого букана, ученый, честный, способный Сергей Сергеич, весь просияв, сказал:
– Жужелица!
После того мы пошли в кабинет и смотрели жужелиц, – сколько-то тысяч под стеклом, сколько-то на вате, и каждая из них имела свою карточку, свой формуляр.
Я слушал о жужелицах, и так мне все хотелось спросить о первой жужелице, с которой он встретился, и узнать те тончайшие личные обстоятельства, увязавшие Сергея Сергеича в дело прикалывания любимых жужелиц на булавки.
Всю жизнь меня самого манило найти себе какую-нибудь вечную научную жужелицу и заняться ею на всю жизнь только одной, и много раз я даже брался, но как-то моментально выпивал из нее всю сладость, а работа впустую, без сладости, не выходила. Итак, я не мог специализироваться, если не считать специальностью ловкость записей феноменов жизни.
В какой-нибудь час я выудил для себя все замечательное в коллекциях Сергея Сергеича и вот уже опять блуждаю глазами в поисках нового и замечаю, что в воздухе дрожит пустельга и голубая лента заберегов озера все прибавляется. Сказали, что если так пойдет таяние льда, то через неделю начнется щучий бой на Переславльском озере. Я принял решительные меры, чтобы стать поближе к природе, созвал музейный совет и сделал свой доклад об изучении края.
У меня есть свой краеведческий опыт и шевелится в голове что-то вроде метода. Сущность этого краеведческого метода состоит в том, чтобы обыкновенным земляческим чувством края, в котором заключается и чувство природы и даже, несомненно, художественный синтез, пользоваться для понимания лица края, по крайней мере, на равных правах с обыкновенными научными методами изучения. Мне кажется, что замечательный следопыт из простого народа стоит одного или даже двух хороших ученых.
Несколько раз в беседе с первоклассными учеными я высказывал эти свои мысли, и оказывалось, что эти гениальные люди работали совершенно так же, как мы, рядовые следопыты жизни, а когда то же самое я говорил рядовым хорошим ученым, то они смотрели на меня свысока и очень плохо слушали. Вот почему я думаю: наверно, я еще не дожил до того, чтобы своими мыслями убеждать, и потому об этом молчу, а просто докладываю о работах Сокольнической биостанции юных натуралистов и предлагаю подобную станцию основать в Переславле.
– Но там, – говорю я, – в Сокольниках, под Москвой, сравнительно мало материалов, и потому там общий тон изучения можно назвать микро-тон: микро-климат, микрозаповедник и самые лучшие работы сделаны о комарах У нас же все природные данные вызывают взять макро-тон: огромное озеро, бесконечные леса. В нашем крае хорошо бы устроить биостанцию с географическим отделом и в тесном сотрудничестве с Сокольниками: пусть у них будет микро, а у нас – макро.
Сергей Сергеич заволновался, он понял, что я хочу избежать того необходимого труда, кропотливой, скучной работы, которая, собственно, и воспитывает детей.
Я этого совсем не хотел сказать, но я готов спорить, что воспитывает не микро-труд сам по себе, а то основное увлечение, ради чего выносят скуку и отчего всякая работа легка.
Мнения разделились: на позиции макро остались мы с историком, и к нам примкнул представитель укома; на сторону Сергея Сергеича стал заведующий ОНО. Метеоролог, худой, болезненный человек, колебался.
Перед концом дебатов и голосованием я сказал:
– Примите во внимание, что законы колебания в стакане чая и в Плещеевой озере одни и те же, а все-таки буря в стакане и в Плещеевой озере не одно и то же.
В это время Сергей Сергеич, наверно, желая что-то возразить, нечаянно дернул рукой и опрокинул стакан своего горячего чая на колени метеоролога. Тот вскочил и бросился вон. Вскоре он возвратился, и все тревожно обратились к нему:
– Ну как?
– Ничего, – спокойно ответил метеоролог, – вам кому макро, кому микро, а мне только мокро.
Совет постановил: 1) для выяснения вопроса о направлении биостанции пригласить на время каникул представителей от Сокольников, 2) заведующему фенологическими наблюдениями предоставить на Ботике в дворце квартиру на южной стороне в четыре комнаты.
С утра был светлый день, утренник скоро растаял, и к полудню утомительно было ходить в ватном пальто. Чайки прилетели раньше меня и теперь сильно кричали на зарастающих монастырских прудах.
Я ходил берегом озера устраивать свою квартиру на Ботике. У озера два берега: один – древний, высокий, изрезанный оврагами и потоками, другой – низкий, болотистый у воды, и в воде песок. Овраг здесь называется по-старинному враг: первый от Горицкого Шутов-враг, речка очень маленькая при деревне Веськово с Мемекой-горой, за Веськовым-врагом – Вознесенский и гора Князек, и тут рядом Гремячая гора с Гремячим ключом. Вот на этой Гремячей горе и хранится, как мощи, ботик Петра Первого, и потому вся усадьба называется Ботик.
Не успел я взойти на Гремячую гору и оглядеться, как Надежда Павловна, жена сторожа Ботика, рассказала мне о Петре, что он был большой любитель воды и раз, увидев издали Плещееве озеро, повернул коня и прямо спелыми полями поскакал к воде. А в деревне Веськово баба жала рожь и, как увидела, что какой-то верховой топчет, принялась честить его всякими скверными словами. Петру будто бы это очень понравилось, он щедро наградил веськовских мужиков и некоторых даже постоянно звал к себе на совет думу думать, с тех пор вот и пошли в селе Думновы, и сторож Иван Акимыч тоже Думнов, значит, кто-нибудь из его родни непременно с Петром думу думал.
Я осмотрел домик, где хранится единственный уцелевший от всей большой петровской потешной флотилии ботик с прогнившим дном, вспомнил из истории, как Петр, приехав сюда через тридцать лет, возмутился небрежным хранением остатков флота и тут написал свой суровый указ воеводам переславльским. Сначала, конечно, это подогрело воевод, а потом опять стало гнить, пока от всех кораблей не остался единственный ботик, переходивший из рук в руки частных владельцев усадьбы. Царь Николай I наконец приналег на владимирских дворян, они выкупили ботик, построили тут небольшой дворец, триумфальную арку и мраморный памятник с надписью из указа Петра:
«Надлежит вам, воеводам переславльским, беречи остатки кораблей, яхт и галер, а буде опустите, то взыскано будет на вас и на потомках ваших, яко пренебрегших сей указ».
Настроенный словами Петра, я подошел к обрыву Гремячей горы посмотреть на озеро, как на колыбель русского флота. За день кольцо заберегов стало еще отчетливее и было красным от заходящего большого красного солнца. По долетавшим до моего слуха особым гармоническим ладам я узнал пролетающих где-то высоко лебедей.
В доме нашлись какие-то козлы, доски, из которых мы сделали себе столы и кровати, все убрали, наслаждаясь звуком рычащего дерева в лесу: этот звук обыкновенно бывает слышен только в глухих оврагах, а мы слышали его из дворца с большими саженными окнами. Жаль только, нигде не было дырочки для самоварной трубы, и пришлось его ставить на крыльце, но зато, когда я ставил его, вдруг в нескольких стах шагов от крыльца услыхал токование тетерева, а когда пошел в подвал за лучинками, то в окошко, напуганный мною, выскочил здоровенный русак.
Мы пили чай, с восторгом слушая рычащее дерево.
Валит мокрый снег. Иду по кочковатому болотистому лугу краем озера в Рыбацкую слободу. Чайки, верно, уже устраивая гнезда, обрезают с резким криком мой путь так близко, что жмуришь глаза. Недалеко от рыбаков на широкой заводи между берегом и льдом раздалось необыкновенно сильное хлопанье крыльев, и, не замеченный раньше на мокром снегу, поднялся совсем близко от меня лебедь. Вытянув длинную шею, совсем как утка, только большой и белый, полетел на озеро и скрылся во льдах. Вдоль заберегов то и дело прокатывались парами чирки и кряквы. На обратном пути, там, где был лебедь, прячась за кочками, я захватил гусей: вожак плыл впереди и вел за собой четырех. Всполохнувшись, они недалеко отлетели и сели возле самого льда. В грязи у воды копошились чибисы. Начался валовой прилет дичи.
Под яром, на косе против Гремячего ключа за эту ночь вырос шалашик из елового лапника, и дома мне сказали, что это мельник поставил, наш мельник с Гремячей мельницы, что он заходил просить меня не помешать ему своей охотой и обещался еще раз зайти.
– Очень вежливый, – сказали мне, – совсем молодой человек и, говорят, из дворян.
Вскоре явился и сам молодой человек, высокий, с красивыми глазами, похожий скорее на студента, чем на мельника.
– Вы понимаете в ружьях? – спросил он меня после первых слов и, вернувшись в кухню, принес ружье.
– Шомполка, – сказал я, – это не ружье.
– Ничего, я скоро куплю центральное; мне один мужик должен сорок пудов; как получу, так куплю ружье и лодку. А мое образование – пять классов гимназии.
– Вы один?
– Жена и ребенок. Я зарабатываю два фунта с пуда, всего десять пудов в месяц. Скажите, пожалуйста, где есть такие места, чтобы много было дичи?
– На Плещеевом озере начался валовой прилет дичи, чего же вам больше: лебеди, гуси, утки всех пород.
– Я бы хотел попасть в такие места, где бы не ступала нога человека. – И, не дождавшись моего ответа, спросил: – А вы любите человечество?
– Интересуюсь.
– А я ненавижу. В особенности отвратительны наши мужики: хитрые, злые, жестокие.
– Разные бывают мужики…
– Все одинаковы. А что значит беллетрист?
Я сказал.
– В таком случае позвольте мне рассказать, как я женился.
– Мне спать хочется, вы, наверно, тоже хотите?
– Нет, я пойду читать Максима Горького, ведь мельница сама работает; я читаю, а она работает, мне это нравится. А жена моя в городе, шьет.
Он вышел вежливый, грустный, первый мой знакомый на Ботике. Вслед за ним вошел рядиться городской печник, мрачный человек с лицом аскета, и навел меня на мысль, что это очень религиозный человек.
– Сколько, – сказал я, – в вашем городе церквей!
– А до бога все далеко.
– Вы хотите сказать, что нет бога?
– Может быть, и есть где-нибудь, да ему до нас все равно, как нам до комаров.
– Вы цените, вероятно, только науку?
– Истинная религия: социализм.
Так мы начали с печником рядиться о печке. Вспомнив разговор с мельником, я спросил печника.
– Кто такой этот молодой человек?
Печник ответил:
– Прежнего нашего земского начальника в третьем колене племянник.
Валом валит всякая охотничья дичь – свистят, шумят крыльями. Из новых я отметил свиязь в большом числе и слышал, что эта более редкая утка уже гнездится тут же недалеко, в соседнем зарастающем озере.
У меня был рыбак, служащий в местном рыбацком кооперативе. Когда я спросил его, чем он занимался до революции, он ответил, что служил в полиции и был даже приставом. Когда же я, очень удивленный этим откровенным ответом, сказал ему: «Да как же вы уцелели?» – тогда он, в свою очередь очень удивленный, сказал: «Да у нас же в Переславльском крае ничего не было».
Я привел множество всего, уже замеченного мною: что в одну церковь на базаре вгнездилось потребительское общество, что один мещанин, большой хозяин, из-за хозяйственных столкновений убил свою жену, променявшую домашнее хозяйство на службу в исполкоме, и много такого… Рыбак соглашался, но стоял на своем, Я понял в конце концов его так, что революцию здесь испытывают так же, как и везде, но потому, что в этом краю мало помещиков, мало было и разрушительных выступлений масс.
По пути в город я зашел к председателю сельсовета отдать ему свой паспорт для прописки. Самого председателя не было дома, а жена его, молодая женщина, очень бойкая, попросила у меня немного денег взаймы и обещала отдать потом картошкой, она ссылалась на годовой праздник. Когда я ей дал деньги, она сказала: «Благодарю вас, барин». И я вспомнил о словах рыбака, что революции тут не было.
После обеда ко мне является председательша с запиской от мужа:
«Я, председатель сельсовета, прошу я вас, пожалуйста, приходите ко мне в гости, очень буду вами благодарен Ежели придете, и впредь будем с вами знакомы».
Я ответил уклончиво и стал думать: идти мне или не заходить. К счастью, заглянул ко мне мельник с Гремячей мельницы, и я спросил его о председателе. В практической жизни молодой человек оказался вовсе не так уж наивным.
– Бывает, – сказал он, – три типа председателей: первый тип горой стоит за деревню, готов из-за общества на всякое, даже очень пакостное дело, – более редкий тип. Второй признает советскую власть и делает карьеру без вреда обществу; третий достигает личного за счет общества. Наш председатель признает советскую власть и делает карьеру без вреда обществу.
Отпустив мельника, я решил не ходить, потому что средние типы меня не интересуют.
К вечеру, однако, является сам председатель вместе со своим кумом, сапожником, он сильно навеселе, сапожник пьян. Плели они ерунду, и долго я не мог отделаться, и, вероятно, так бы и пропал весь вечер, но случилось, что сапожник наступил моему породистому псу на ногу и тот жалобно завыл. Сапожник бросился к собаке и стал целовать ее в нос. Заметив, что Ярику запах самогонки неприятен, я предупредил сапожника, но было уже поздно. Ярик укусил его за нос. От боли сапожник вдруг очувствовался, по-детски обиделся на собаку и подался к выходу. Провожая гостей, я пустил пробный камень, сказав председателю:
– Край-то у вас какой милый, как будто совсем и не было революции!
И человек, делающий свою карьеру на совершившейся революции, желая мне угодить, как жена, назвав барином, сказал:
– И ни ма-лей-шей.
Так показались два мира – усадьбы и деревни, и это было влияние стен дворца, устроенного дворянством для приезда царей.
В лесу бело и черно, пестро, в оврагах шумит вода, и над ней, припекаемый солнцем, выкинул орешник золотые сережки. Ярик сделал на слух свою первую стойку; думал, по токующему тетереву, а оказалось, это почти под его ногами по-тетеревиному журчала вода. Тетерев токовал дальше. Мы подняли токовика, с ним было четыре тетерки. Дерево наше сильно рычит, днем и даже ночью слышно через закрытые окна. Я полюбил его, оно мне родное: ведь это я только не люблю говорить, а весной и у меня в душе тоже что-то рычит…
Закраек льда озера против Ботика подстелен льдом, но по канавке из-подо льда щука все-таки может выйти сюда к берегу. Наш сторож Думнов стоит с острогой, как Нептун, подальше – знаменитые щучьи бойцы братья Комиссаровы, за ними дьякон – и так по всему закрайку, с нашей Веськой стороны в Надгород, по Оной стороне в Зазерье – кругом все Нептуны.
Мне сказали они, что выход щуки бывает от свету до восхода, в девять утра, в полдень, в пять часов вечера и до заката. Я рассказал им, что при чистке Царицынских прудов была поймана щука с золотым кольцом Бориса Годунова, весом была три пуда, и спросил их, может ли быть такая щука и в Плещеевом озере.
– Есть, – сказали они, – только озеро очень глубокое, и та щука из глубины не выходит. А с золотым кольцом есть в озере язь, пустил его Петр Первый.
– Убил ли кто-нибудь щуку за эти дни? – спросил я.
– Щука еще не выходила, – ответили мне, – а молошников бьют.
Молошниками называются самцы, небольшие сравнительно с самкой, щукой.
Мельник приходил звать на охоту с круговой уткой. Не поверилось как-то, что у него утка будет кричать, – отказался. Он был весь в глине. Я ему сказал, что нехорошо бывшему дворянину ходить таким грязным.
– Такое дело, – ответил он.
– Почему же вон тот рабочий, – указал я на его мастера, – чистый?
Молодой человек смешался и, нечего делать, признался, что сегодня он ходил в исполком, и когда он ходит туда, то никогда не моется и даже нарочно грязнится: надо делать рабочую карьеру.
Вечером собрался дождь.
Оттого, что рамы одиночные и лес возле самого дома, установился сон, как в лесном шалаше, отвечающий, как зеркало, внешнему миру. Моим сновидением управляет рычащее дерево, и так выходит, будто это я сам попал в овраг, как это дерево. И вдруг резкий крик утки, и, без всякого перехода от сна к яви, догадываюсь, что это кричит круговая утка у мельника. Потом раздалось ее неистовое «ах, ах!» – это значит, она увидела селезня. Я вскочил, с кровати, и пока бежал к выходной двери, селезень, наверно, подплывал к утке, и только-только я взялся за ручку, раздался выстрел. В полумраке нельзя еще мне было с Гремячей горы разглядеть круговую утку, был виден только шалашик.
Пока согревался самовар, мельник убил еще двух селезней.
После чая, когда, по моему расчету, охота на уток должна была кончиться, я спустился на мельницу и, как увидел жилье, с этого часу стал мельника звать Робинзоном: в избушке было грязно, разломано, разбросано, через потолок виднелось небо; сам Робинзон сидел возле накаленной железки, щипал утку, с ним сидели тут же охотники и чистили картошку. Главный из охотников, Ежка, рассказывал много про тетеревей: что есть тетерева посиней, а есть пожелтей, и что есть вальдшнепы покрупней и помельче, а у крякв явно заметно различие, даже можно сказать, что ни одной кряквы нет похожей одна на другую, совершенно так же, как у людей, и то же зайцы…
Кто эти люди? Какие-то мелкие служащие, техники, считаются в городишке за полудиких людей, но они природные следопыты-краеведы, фенологи, и подлинное – не сентиментально-мещанское и не книжное, не от Руссо и Толстого – чувство природы сохранилось почти только у них. Вот из каких людей и надо искать себе сотрудников по изучению края. Это я им все сказал, и мы заключили союз для фенологических наблюдений, и уговорились вблизи Ботика ничего не стрелять из гнездующих птиц, а по возможности даже и зайцев.
Когда заговорили о зайцах, я сказал, что на Ботике заяц выскочил из подвала.
– Русак? – спросил Ежка. И, узнав, что русак, сказал: – Зайцы постоянно ложатся на Ботике, несколько штук зимой непременно лежат в самом Переславле. Вы знаете дом К.? Не знаете? А М.? Тоже не знаете, что же вы знаете?
Я сказал, что знаю древний Переславль, собор XII века, остаток мельницы, крепости, место скудельницы, где теперь Даниловский монастырь, столб Тохтамыша…
– Столб Тохтамыша знаете, ну вот как раз против есть деревянный домик с большим огородом, и там на огороде русак жил, кочерыжки грыз. По первой пороше мы по нем пустили собак.
Ежка подробно рассказал про весь пробег неутомимого зайца по историческим местам: из города на Ботик и через Переславльское озеро к знаменитой Александровой горе, где раскопки обнаружили славянское языческое капище, потом опять в город на Советскую улицу и через крепость, где-то напоролся правым глазом на железный прут, мальчишки «взяли его в переплет», и, спасаясь от них, он влетел в открытые двери милиции. Между тем охотники, потеряв зайца, созвали собак, привязали, возвращались домой и вдруг, увидев на Советской улице свежий след, обошли его и пустили собак. Им недолго пришлось бежать, след вел в милицию, вся стая с ревом внеслась в учреждение, и за стаей ввалились охотники. В это время милиционеры уже не только поймали зайца, а бросили между собой из-за него жребий, кому достанется.
Охотники – отбивать, милиционеры не дают, дело чуть не до кулаков дошло; в конце концов охотники уступили, но пригрозили милиционерам: «Погодите же, вот вы нам в лесу попадетесь, ноги из брюха вам выдернем».
Дома я решил записать рассказ, интересный потому, что никогда еще в жизни мне не приходилось гонять зверей в городе, и пробег зайца по историческим местам особенно мне казался любопытным. К сожалению, как раз на том месте, где заяц напоролся на прут, память мне изменила, и потому для справки я опять спустился на мельницу. Там был уже один Робинзон.
– Не помните, – спросил я, – где заяц напоролся правым глазом на железный прут?
Робинзон ответил:
– При переходе площадки церкви Святого духа, тут место огорожено железной решеткой.
Мать моей подсадной утки была просто русская, домашняя, но дикий селезень ее потоптал несколько раз, и вышли утята – вылитые кряквы. Из них я выбрал самую голосистую и стал ею приманивать диких селезней к своему шалашу. Нет числа красавцам в брачном наряде, плененным погибельным голосом этой крикуши… Безжалостно сердце охотника, но случилось однажды – дикий селезень взял мою утку, и я не осмелился выстрелить.
Было это на вечерней заре. Я вышел к лесу на пойме, достал из корзинки свою крикушу, привязал к ее ноге длинную веревочку с гирькой на конце, забросил гирьку, пустил утку на плес, и сам напротив сел в шалаше и стал в щелку смотреть на пойму.
Летела пара крякв: впереди серая утка, за ней селезень в брачном наряде. Вдруг навстречу им откуда-то вывернулась другая пара. И вот обеим парам только-только бы встретиться, вдруг ястреб кинулся на утицу из второй пары, и все смешалось. Ястреб промахнулся. Утка бросилась вниз и на пойме скрылась в кустах. Ошеломленный ястреб медленно ушел под синюю тучу. А селезень из разбитой пары, придя в себя после нападения ястреба, сделал маленький круг: нигде в воздухе его утицы не было. Вдали первая пара продолжала свой путь. Одинокий селезень, вероятно, подумал, что это за его потерянной уткой гонится чужой селезень, пустился туда и стал нагонять.
Потерянная утка скоро опомнилась от нападения ястреба, выплыла из кустов на плес и стала кричать. Прилетел новый одинокий селезень. Между уткой дикой и моей подсадной завязалась борьба голосами. Моя утка разрывалась на части от крика, но дикая все-таки ее пересилила. Селезень выбрал дикую и потоптал.
Совершив огромный круг, вернулась первая пара, и за ней мчался селезень, потерявший свою утицу при нападении ястреба. Неужели он все еще воображал, что это не чужая, а его утка летит, и за ней гонится чужой?
Его настоящая утка, довольная, очищала на плесе перышки и молчала. Зато моя подсадная взялась одна без соперницы достигать селезня. И он услышал ее… Так ли верно, что в их любви все равно, какая утка, – была бы утка! А что, если время у них мчится гораздо скорее, чем у нас, и одна минута разлуки с возлюбленной равняется десятку лет нашей безнадежной любви? Что, если в безнадежной погоне за воображаемой уткой он услыхал внизу яркий голос естественной утки, узнал в нем голос утраченной, вся пойма тогда стала ему, как возлюбленная.
Он так стремительно бросился к моей утке, что я не успел в него выстрелить: он ее потоптал. После того он стал делать вокруг нее свой обычный селезневый благодарственный круг на воде. Я бы мог тут спокойно целиться, но вспомнилась своя горячая молодость, когда весь мир явился мне, как возлюбленная, и я не стал стрелять этого селезня.
Я срезал тончайший сучок у березы и сделал прочищалку для трубки. На порезанном месте собралась капля березового сока и засверкала на солнце. В лесу было пестренько: то снег, то голубая лужа, и среди дня тепло. Осмотревшись вокруг, я решил, что сегодня может начаться тяга вальдшнепов, и перед вечером отправился в Соломидино к охотнику Михаилу Ивановичу Минееву просить его показать мне, где у них надо стоять на тяге. Этого Михаилу никто дедом не назовет по виду, хотя он хорошо еще помнит царя Александра II и у его внука, кооператора, недавно родился мальчишка. Нашел я Ми-хайлу не без путаницы, потому что у старика четверо сыновей, а своего дома нет – живет он, этот деревенский король Лир, то у одного сына, то у другого: с двумя теперь уже окончательно разругался и перешел к третьему.
Много мне наговорили про это, пока я разыскивал дом, и потом, в ожидании вечера в избе, много слышал от самого старика, и когда рассказ продолжался и по пути на тягу, я не слушал, думая, как бы мне поскорее отделаться от старика. Слова все-таки долетали до моего слуха, и я из вежливости наугад подавал реплики.
– И суд присудил им ко-ро-ву.
– Неужели, – говорю, – корову?
– Перед истинным говорю: корову.
Старик стоит передо мной, держит меня за рукав, ходу вперед не дает, заполняет собой всю тишину, весь мир и ждет моего мнения. Что же мне делать? Язык мой сам выговаривает:
– Как же быть?
Он бросил мой рукав, двинулся вперед и сказал:
– Тогда бросил я этого сына, как твой рукав, и пошел жить к другому.
В это время над головами у нас раздалось обыкновенное утиное «свись-свись», – из-за болтовни старика я не успел выстрелить.
– Там у вас, – сказал я, – самовар ставят, иди-ка чай пить.
– И то, – говорит, – надо идти, а чай я не пью. Чай! Там бревно, надо пособить бревно поднять.
– Ну, вот, иди-ка.
– А ты говоришь – чай, – бревно-о-о…
Он смеялся и, отойдя немного, не выдержал, остановился, обернулся и повторил:
– Бревно-о-о!
В это время мне подумалось, в какой запряжке, наверно, теперь его сыновья, сколько забот о существовании, а вот старик все-таки находит время ходить на охоту и как радуется оживанию природы и новому человеку! Я сказал:
– А ведь ты хитрый старик.
Он очень обрадовался, шагнул ко мне опять, весело подмигнул:
– И так сказать, ведь продналог-то не с меня берут, а с них, а там штраховка, там…
В это время я думаю о корове, об этой поистине священной крестьянской материальности, представляю себе, что какой-нибудь озорник взял бы да убил корову, и если бы хозяин за это убил озорника, то суд, наверно, оправдал бы крестьянина. Ведь корова – это самость работника земли, это он сам материализованный, и притом общественно: корова своим навозом удобряет землю и молоком кормит человека. Я ищу в своей духовной деятельности паритет этой реальности, мне вдруг является корова как мерило культурных ценностей, созданных писателями, поэтами, учеными, художниками! Я отчетливо разделяю их на две группы: с коровами и пустых, бескоровных.
А старик стоит передо мной, держит меня.
В это мгновение я не пропустил добычу, не целясь, ударил во вторую из двух каких-то быстро мчавшихся птиц, и оказалось – это большой кряковой селезень мчался за уткой по воздушным следам. Он прошумел по березе и упал на уцелевшую еще под ней снежную скатерть.
– Ну, иди, иди, – говорю старику, – иди чай пить.
– И чаю попью, – отвечает, – и на охоту пойду, и не думаю: пойду и пойду, а они – только и слышишь, что продналог да штраховка.
Против всякого моего ожидания и старого опыта, тишина, которая мне досталась после ухода старика, была не та глубокая, исполненная силой новой жизни: эта тишина была мертвая. Сиротливо пел на весь лес только один певчий дрозд, да блестела, тукая о что-то, капля березового сока из порезанного сучка. Я не осилил такую тишину, гармония распалась, и лес стал таким страшным, когда суеверным людям приходит в голову всевозможное, – мне же он страшен в эти минуты потому, что теряю себя самого, тянет орать или стрелять в деревья, куда попало… Вдруг послышался гомон, споры, крики идущих по просеке людей, и, когда они стали близки, я узнал голос Робинзона, Ежки и понял, что это все те же утренние охотники теперь возвращались с тяги.
– О чем вы спорите? – спросил я, когда они со мной поравнялись.
– А спорим, – отвечал Ежка, – что враль этот Робинзон, чего он вам утром набрехал.
– Ничего я не брехал, – говорит Робинзон, – заяц вполне мог напороться на решетку церкви Святого духа.
– Да ты-то сам там не был: ведь там, в решетке-то, прутья в палец толщиной, а он высадил себе глаз просто о колючую проволоку…
О вальдшнепах мнения охотников разделились: одни говорили, что рано, другие – что вальдшнепы здесь, но заря холодная и они не тянули; третьи – что все померзли на юге и вовсе не будут тянуть.
– А бекасы еще не токовали? – спросил я.
– Бекасы прилетели.
– Кроншнепов слышали?
– Свистят.
– Странно, что вальдшнепов нет!
– Скорее всего померзли.
Однажды поздно вечером я возвращался из города пешком к себе в деревню. Всегда в таких случаях меня подсаживают обратные возчики леса. Так случилось и теперь. Меня догнал молодой, выпивший немного после трудной работы возчик и предложил подвезти. Как полагается в таких случаях, я отказался, но возчик настаивал. Я устроился в сани. Возчик назвал себя: Иван Базунов из Веслева.
Я слышал это имя.
– Знаменитый охотник за щуками? – спросил я.
– Спец своего рода, – ответил Базунов. – Разрешите спросить ваше имя? Я назвался.
– Вот, Михаиле Михайлович, – сказал он, – имеете ли в душе какую-нибудь заразу счастья?
– Постоянную, дорогой Базунов. Разве не слыхали вы, что я охотник?
– Так это вы сами! – схватился он, узнавая меня. – Как же не слышать… Очень вам рад! Охотник, ну да! А я вот за щуками, в этом я прошел свой университет. Так ли я выговариваю?
– Правильно.
– Очень приятно. Я вам сейчас все объясню про эти дела, – вы поймете. Я, конечно, охотник за щуками и в этом имею свою заразу счастья. Щука есть моя цель, но возьмите в пример человека. Другой и рад бы среди бела дня сойтись с своей любезной, да ведь никак это недопустимо, люди видят, никак невозможно. Вам-то, Михаиле Михайлович, приходилось этим страдать?
– Кому не случалось!
– Значит, о человеке согласны. И вот я вам скажу – точно так же и живая тварь – щука: и рада бы, икра напирает, а ведь никак нельзя. Так же, как и у человека ночь, так у щук для любовного дела есть тоже свое законное время.
– Знаю, – сказал я. – Нерест щуки бывает при первой воде.
– Совершенно верно. Когда первые потоки пойдут и вольются в озеро, щука идет против струи, и тут я бросаю свое хозяйство и становлюсь на струю…
Долго рассказывал Базунов, как он борется за свое счастье с женой, как он обходится с ней и она его отпускает на щук. Так мы подъехали к моему свороту, но Базунов не отпускал меня и просил выслушать свой рассказ до конца.
– Солнце пригревает, – продолжал он, – человек стремится к семейному положению, так и щука: икра ее одолевает. Щука лезет на мелкое место, на тонкие воды, упирается в дно, выжимает икру, а молочники ее подбеляют. Бывает, до семи молочников кипит над большой щукой, она же всегда внизу, и тут – кто не умеет – ударит непременно в молочников, она же, самая большая, уходит Но я знаю, как надо ударить, и бью острогой ниже молочников, потому что я спец своего рода.
Выслушав этот рассказ, я, в свою очередь, рассказал один непонятный мне случай: в июле в сумерках я увидел однажды на озере, будто из воды показалась темная рука человека и скрылась, потом опять показалась. Было очень похоже, что волны прибивали мертвое тело. Я пошел туда по отмели, и это была не рука человека, а очень большая щука. Я убил ее из ружья, мясо оказалось жесткое: старая щука.
– Вот ты говоришь, – спросил я, – щука так же, как человек, знает свое время и выходит нереститься ранней весной, а ведь это было в конце лета. Что это значит?
– Я отвечу, – сказал Базунов, – В жаркие летние дни щуку тоже, бывает, тянет к берегу, потому что у ней, как у человека, остается воспоминание. Я верно вам говорю, потому что я спец своего рода. Старая баба иногда начинает дурить пуще молодой, потому что у ней остается воспоминание о своей молодой любви.
Установилась погода – днем теплая, почти жаркая, а ночью луна и такой сильный мороз, что забереги намерзают почти на палец толщиной. А эти забереги теперь уже как широкая голубая река. Лед держится только мысами. Но из Усолья в Переславль народ по-прежнему ездит озером на санях в базарные дни.
Щучий бой начался, и у бойцов пропадает только утро, потому что ночью вода замерзает, и если даже и выйдет где щука, то по шороху к ней не подойти с острогой. Бойцы, однако, с утра занимают позиции и стоят по одному со своими острогами, неподвижные. Вечером по забережью всюду огни: сторожат, с лучом идут по воде выше колена между берегом и льдом, один несет козу и светит, два другие – с острогами. С часу на час ожидают выхода самых больших щук.
Я попробовал подходить к бойцам и разговаривать, все очень это не любят и даже, когда заметят подход, отодвигаются. Пробую сам стоять с ружьем, но это невыносимо скучно, не понимаю, откуда у них берется такое терпение. После долгих наблюдений, однако, я понял: когда кто-нибудь заметит щуку и с поднятой острогой начинает к ней подкрадываться, все напряженно следят за ним: вероятно, терпение берется не только от надежды заработать на рыбе, а еще берет и азарт.
Вечером, когда темно и начинают люди сходиться, приготовляться к лучению, круговая почта по озеру от рыбака к рыбаку доносит новости дня.
Сегодня новость: в устье реки Трубежа убита щука в пуд два фунта весом. Рыбак сидел на свае, увидел огромную рыбину и ударил ее, как скопа: убить не убил, а только завязил в теле ее свою острогу, как скопа ноги. Щука метнулась, рыбак свалился в ледяную воду, но не выпустил из рук остроги, скрылся под водой, вынырнул возле льда, вылез и вытянул уморенную щуку.
В самом городе будто бы кто-то с моста метнул острогу в большую щуку, попал и сгоряча бросился в воду, но щука ушла с острогой.
В полумраке Думнов, один из тех, что с Петром думу думали, в сторонке от всех по мелкому месту тащит огромную сваю, рушит ее с воды на край льда и перебирается на лед. Он заметил, что из-подо льда время от времени показывается чудовищная голова…
Видело, как Думнов наметился, да так и остался с поднятой острогой; оказалось, побоялся ударить, – щука могла утащить его под лед.
На берегу и ругались и смеялись, а Думнов требует себе самогонки, выпивает бутылку зараз, ждет…
И вдруг сомнения о думновской щуке окончились, – все видели, как показалась из-подо льда и вернулась назад огромная голова. Думнов требует вторую бутылку.
После второй бутылки показывается та чудовищная голова. Думнов ударил – правильно: пришил щуку ко дну. Но что теперь делать дальше, если от длинной остроги над водой остался только очень маленький кончик? Такую щуку нельзя достать на остроге, а руками не дотянешься, – как быть? Думнов не плохо сделал, что выпил две бутылки самогонки, теперь ему по колено море: спускается в ледяную воду, становится ногами на щуку, скрывается совсем под водой, там впивается пальцами в щучьи глаза, показывается снова из-под воды, волочит к берегу свою добычу. Все видят: огромная щука и с нею молочник фунтов на десять.
Думнов бросает щуку в яму, и тут вдруг она оживает, и вот она какая: метнула хвостом, и молочник фунтов на десять отлетел от нее шагов на пятьдесят.
Думнов кушак продевает под жабры, подвешивает так, что щучья голова у него вровень с затылком, а хвост волочится по земле. Идет в деревню, собираются бабы, вся деревня сбегается, и везде молва: Думнов щуку убил и еле-еле донес.
И пошла молва кругом всего озера, с Веськой стороны в Надгород, с Надгорода по Оной стороне в Зазерье, через Урёв в Усолье, – всюду молва: Думнов из Веськова щуку убил в полтора пуда весом, и с ней молочник был фунтов на десять.
Ночью мы сели в шалаш с круговой уткой. На заре хватил мороз, вода замерзла, я совершенно продрог, день ходил сам не свой, к вечеру стало трепать. И еще день я провел в постели, как бы отсутствуя сам и предоставляя себя делу борьбы живота и смерти. На рассвете третьего дня мне привиделся узорчатый берег Плещеева озера и у частых мысков льда на голубой воде белые чайки. Было и в жизни точно так, как виделось во сне. И до того хороши были эти белые чайки на голубой воде, и так впереди много было всего прекрасного: я увижу еще и все озеро освобожденным от льда, и земля покроется зеленой травой, березы оденутся, услышим первый зеленый шум.
Дерево почему-то перестало рычать. Почему не рычит дерево? Вместо этого кто-то прекрасно поет.
– Это, кажется, зяблик?
Мне ответили, что еще вчера повернуло на тепло и был слышен легкий раскат отдаленного грома.
Я, слабый от борьбы за жизнь, но счастливый победой, встал с постели и увидел в окно, что вся лужайка перед домом покрыта разными мелкими птицами: много было зябликов, все виды певчих дроздов, серых и черных, рябинники, белобровики, – все бегали по лужайке в огромном числе, перепархивали, купались в большой луже. Был валовой прилет певчих птиц.
Собаки наши, привязанные к деревьям, вдруг почему-то залаяли и как-то глупо смотрели на землю.
– Что гром-то наделал, – сказал Думнов и указал нам в то место, куда смотрели собаки.
Сверкая мокрой спиной, лягушка скакала прямо на собак и, вот только бы им хватить, разминулась и направилась к большой луже.
Лягушки ожили, и это как будто наделал гром: жизнь лягушек связана с громом, – ударил гром – и лягушки ожили и уже спаренные прыгали, сверкая на солнце мокрыми спинами, и все туда – в эту большую лужу. Я подошел к ним, все они из воды высунулись посмотреть на меня: страшно любопытно!
На припеке много летает насекомых, и сколько птиц на лужайке! Но сегодня, встав с постели, я не хочу вспоминать их названия. Сегодня я чувствую жизнь природы всю целиком, и мне не нужно отдельных названий. Со всей этой летающей, плавающей, бегающей тварью я чувствовал родственную связь, и для каждой в душе есть образ-памятка, всплывающий теперь в моей крови через миллионы лет: все это было во мне, гляди только и узнавай.
Просто, вырастая из чувства жизни, складываются сегодня мои мысли: на короткое время я расстался по болезни с жизнью, утратил что-то и вот теперь восстанавливаю. Так миллионы лет тому назад нами были утрачены крылья, такие же прекрасные, как у чаек, и оттого, что это было очень давно, мы ими теперь так сильно любуемся.
Мы потеряли способность плавать, как рыба, и качаться на черенке, прикрепленном к могучему стволу дерева, и носиться из края в край семенными летучками, и все это нам нравится, потому что это все наше, только было очень, очень давно.
Мы в родстве со всем миром, мы теперь восстанавливаем связь силой родственного внимания и тем самым открываем свое же личное в людях другого образа жизни, даже в животных, даже в растениях.
Сегодня я отдыхаю от болезни, я не могу работать. Отчего же не позволить еще немного роскоши этой домашней философии? В этом есть грубая правда, что человек творит мир по образу своему и подобию, но, конечно, мир существует и без человека. Больше всех это должен знать художник, и непременное условие его творчества забываться так, чтобы верилось в существование вещей живых и мертвых без себя. Мне кажется, что наука только доделывает уже лично восстановленный художником образ утраты. Так, если художник, сливаясь в существе своем с птицей, окрыляет мечту – и мы с ним мысленно летаем, то скоро является ученый со своими вычислениями – и мы летим на механических крыльях. Искусство и наука, вместе взятые, – силы восстановления утраченного родства.
К полудню, когда, как и вчера, слегка прогремело, полил теплый дождь. В один час лед на озере из белого сделался прозрачным, принял в себя, как вода заберегов, синеву неба, так что все стало похоже на цельное озеро.
В лесу на дорожках после заката поднимался туман, и через каждые десять шагов взлетала пара рябчиков. Тетерева бормотали всей силой, весь лес бормотал и шипел. Потянули и вальдшнепы.
В темноте, в стороне от города, были тройные огни: наверху голубые звезды, на горизонте более крупные желтые жилые городские огни и на озере огромные, почти красные лучи рыбаков. Когда некоторые из этих огней приблизились к нашему берегу, то показался и дым и люди с острогами, напоминающие фигуры с драконами на вазах Оливии и Пантикапеи.
Да, я забыл записать самое главное: после долгих усилий мы сегодня нашли наконец рычащее дерево: это береза терлась от самого легкого ветра с осиной, теперь у березы из растертого места лил обильный сок, и оттого дерево не рычало.
Весна зеленой травы
От прилета зябликов до кукушки проходит вся краса нашей весны, тончайшая и сложная, как причудливое сплетение ветвей неодетой березы. За это время растает снег, умчатся воды, зазеленеет и покроется первыми, самыми нам дорогими цветами земля, потрескаются смолистые почки на тополях, раскроются ароматные клейкие зеленые листики, и тут прилетает кукушка, всего прекрасного, все скажут: «Началась весна! Какая прелесть!»
А нам, охотникам, с прилетом кукушки весна кончается. Какая это весна, если птицы сели на яйца и у них началась страдная пора!
С прилетом кукушки лес наполняется чужими людьми, непричастными к пережитому всей природой в создании роскошного теплого времени года. Чужой выстрел какого-то баловника так действует, что сразу теряешь нить мысли и удираешь как можно дальше, чтобы не привелось слышать другой. И то же бывает, когда ранним утром по росистой траве вышел куда-нибудь и вдруг по следам на траве догадался, что впереди тебя идет кто-то другой. Сразу свертываешь в другую сторону, переменяя весь план только потому, что заметил чей-то след на траве. Бывает, зайдешь в глухое место, сядешь на пень отдохнуть и думаешь: «Лес все-таки очень велик, и, наверное, в нем есть хоть аршин земли, на который не ступала нога человека, и на этом пне, очень может быть, еще никто никогда не сидел…» А глаз, бродя сам по себе, открывает возле пня скорлупку яйца.
Я часто слышал, будто гриб, замеченный человеческим глазом, перестает расти, и много раз проверял: гриб растет. Слышал даже, что птицы переносят яйца, замеченные человеческим глазом, и проверял: птицы наивно доверчивы… Но однажды ребенок посмотрел на меня глазами законченного человека, и мне показалось, что сам грех посмотрел на меня и что от такого глазу перестают расти грибы и птицы переносят свои гнезда. Вот почему, вероятно, и мне бывает не по себе в лесу, когда прилетит кукушка и лес наполнится чужими людьми, непричастными к трудному созданию роскошного теплого времени года. Я люблю от прилета зябликов, когда еще не трогался снег в лесу, ходить на кряж и чего-то ждать. Редко бывает совсем хорошо, все чего-то не хватает, – то слишком морозит, то моросит дождь, то ветер, как осенью, свистит по неодетым деревьям. Но приходит наконец вечер, когда развернется ранняя ива, запахнет зеленой травой, покажутся примулы. Тогда оглянешься назад, вспомнишь, сколько зорь я прождал, сколько надо было пережить, чтобы сотворился прекраснейший вечер. Кажется тогда, будто участвовал в этом творчестве вместе с солнцем, ветром, тучами, и за то получаешь от них в этот вечер ответ:
– Не напрасно ты ждал!
Заметив великий перелет зябликов, я вспомнил о Поповом польце, окруженном мелятником, и пошел посмотреть, не там ли отдыхают прилетающие птицы. Я не ошибся, – вся опушка была усыпана мелкими птицами, в воздухе везде были птицы, иногда такие частые, будто маком посыпано. Взлетело множество витютней с польца, и один уже был растерзан ястребом. Выплыл канюк, откуда-то взялся ворон и стал его донимать. Встретились две пары журавлей и полетели вместе. Потом показался целый караван журавлей и полетел в правильно построенном треугольнике. Иногда показывается птица необычайной формы, и когда рассмотришь в бинокль – это галка или ворона тащит материал для гнезда. Но одну птицу я долго не мог определить, такая была огромная эта белая птица. К счастью моему, загадочная птица приближалась, и наконец я разобрал, что это галка тащила газету; и когда она из-за газеты, не разглядев, нарвалась на меня и я громко крикнул, газета освободилась и упала к подножию холма.
Газета упала титульной стороной вверх, и в бинокль я разобрал: Беднота.
Вскоре после восхода набежала туча и брызнул короткий дождь, потом солнце стало припаривать и вода прибавляться. Поля уже пестрели. Дорога, местами перемытая, оказывалась высоким ледяным слоем до двух аршин. Старик из Дядькова – я хорошо узнал его в бинокль – тот самый дед, у которого на войне побили всех сыновей и он жил теперь в завалюшке со всеми их бабами, – пробирался с возом сена в город, верно берег этот воз до самой высокой цены. Мне ему очень хотелось добра, и я с волнением дожидался, когда он подъедет и увидит промоину. Казалось, что наверху, откуда бежала вода на дорогу, воды было меньше, внизу же по эту сторону была грязь и целая река воды. Но старик почему-то поехал по воде, конечно застрял и, побившись немного, справился и потащился дальше. Вскоре после него ехал молодой парень, тоже с возом сена, и, нисколько не раздумывая, двинул воз по другую сторону дороги, откуда напирала вода. Но только он двинул туда, лошадь погрузилась, и над снегом виднелась только ее голова… По пояс в воде парень отпрягает, крепко ругаясь. Собираются пешеходы, и вес, даже бабы, помогают вытаскивать воз. Кажется, они сделали из оглобель что-то вроде рычага, за концы взялись бабы, мужики принажали сзади, и так мало-помалу поставили воз на дорогу. Тогда парень запряг лошадь, поехал обратно, и кто-то крикнул ему на прощанье: «Благодари бога! На этом самом месте прошлый год мужик совсем утонул».
Обернувшись на полдень, я заметил тетерок, перелетающих в Брусничный овраг. Я стал манить их; они отозвались и побежали ко мне через Попово польце, совершенно как куры. Над польцем пролетел лунь. На елке засел канюк. Большой стаей кормились витютни. Вероятно, всех их спугнул ястреб. И когда я, провожая их глазами, обернулся, – вижу: опять тот, чуть не утонувший парень возвращается с возом назад. Я думаю, что он, с утра настроившись продать сено и выпить в городе, не мог вытерпеть и вернулся снова попробовать счастья; а может быть, кто-нибудь сказал ему, что старик переехал, и он понял дорогу: не верхом, а низом. Теперь он без всякого раздумья пустил лошадей вслед старику, без остановки перебрался и покатил себе рысью.
Поток бежит с шумом в озеро, наливает закрайки. Пролетела скопа, за ней гнались вороны. Показались певчие дрозды, и особняком от них чудесная птица, черный дрозд, очень стройный и с золотым клювом.
На дне оврага бушует поток, на краю сижу я, подсвистываю рябчиков, на тонкой березе токует одинокий тетерев, где-то натуживается витютень. Я никогда не слыхал и не видал такого множества маленьких птиц, – это были целые вихри: вдруг подымутся, частые, как комары, бегают, шныряют по зеленям, спариваются в воздухе, летят все массой на опушку и все поют, и это пение вместе с пением воды, бормотанием тетерева, уркованием лесных голубей, кликом и гомоном журавлей вызывает у человека наверх самые глубокие, залежалые мысли.
Я нашел тропу вниз, нашел кладочку, вырубил себе топором длинный шест и, опираясь на него, перешел на ту сторону и оставил шест на виду, радуясь, что он поможет еще кому-нибудь перейти бурный поток.
Теперь я иду в лесу чутьем, мне нужно угадать, где будут тянуть вальдшнепы. Одна полянка кажется мне краше другой, но, пока есть время, я ищу лучшую, и наконец одна меня приковала на месте. Тут, направо от меня, в болотной воде у ручья лента берез, за ними просвечивает темный бор, налево подымается высоко суходол, покрытый мелкой зарослью; из переузинки суходола и болотного леса буду ждать вальдшнепа.
На моей полянке были разбросаны кусты можжевельника, среди них подымалась очень высокая ель, а на верхушке ее, на этом пальце, сидел певчий дрозд и насвистывал время от времени в свою флейту, как будто управлял множеством лесных звуков наступающей вечерней зари.
Я не очень уверен, что вечерняя заря углубится и я тут же под кустом дождусь и утренней. Пока не совсем стемнело, я высматриваю в лесу знакомую тропинку к землянке, где когда-то изготовляли хлебное вино. Тут я долго работаю, подстилаю себе еловый лапник, зажигаю костер. Я сплю у костра так, что ясно слышу свой храп и отлично знаю, когда нужно его прекратить и поправить костер…
Я пробудился, когда мороз-утренник обдался росой и капли ее повисли, сверкая на солнце. Множество птиц, какое бывает в наших лесах только несколько дней на перелете, пело вокруг меня славу солнцу, земле, уже зеленеющей новыми травами. Долго я слушаю, и, когда захочу, мой великолепный призматический бинокль подает мне певца к самым глазам, так что я могу разглядеть каждое его перышко. Мой бинокль, перебрасывая отражение певца из призмы в призму, из стекла в стекло, выделяя из хаоса форму, сам по себе отличный художник, и к этому еще я прибавляю свое.
Потом я выхожу на опушку и вижу в бинокль, как полевой дорогой, все приближаясь к ручью, где я оставил для перехода свой ольховый шест, идет девушка в оранжевой юбке, завернутой на плечи. В руках у девушки блестят новые галоши, которые она надевает только в церкви, и дождевой зонтик, раскрываемый очень редко, на людях и в самый хороший солнечный день.
Я очень рад, что мой шест помогает девушке перейти на ту сторону потока, но мне больно видеть, что она прячет шест в кусту и засыпает листвой.
На той стороне, однако, кто-то следит за девушкой и, как только она удалилась, разыскивает шест, переносит, прячет в другое место и дожидается в кусту. Я понимаю, что девушка скоро вернется, сажусь на пень и дожидаюсь, когда мой шест вернется сюда.
Вихри зябликов переносятся с опушки на зеленя догоняют друг друга в брачном полете, падают на землю спариваются и возвращаются распевать на опушку.
Вот вижу, идет назад девушка в оранжевой юбке, подходит к ручью, ищет шест, снует там, мечется из стороны в сторону…
Я опускаю бинокль. Простым глазом мне видно, как вышел сатир из куста, вынул шест и помог девушке перейти на ту сторону.
В рыбацкой слободе, где так бедно и тесно, я видел: чайки сидели на столбиках, и тут же дети бегали и их не тревожили. Зная своих более культурных детей и вспоминая, сколько труда надо было положить, чтобы отучить их от жестокости, я думал: «Сколько прошло поколений рыбаков, передающих один другому заповедь охраны прекрасных и бесполезных, кажется, птиц, чтобы полудикие мальчики не швырялись в них камнями, и что одним западает в душу от Рафаэлевой мадонны, то этим бедным досталось от какой-нибудь чайки, и, верно, оттого мы и не кусаемся и кое-как понимаем друг друга».
Сегодня приехали Петя и Лева, бросились к чайкам и дивились им. Потревоженные детьми на местах гнездований, они вдруг все поднялись, закрыли мне небо и поля, потом, рассыпаясь, стали – как снег идет, и когда сели на зеленя, то зеленое поле все стало белым. Мы узнали, что чайки находятся под охраной населения, что стрелять их запрещается и что в народе они до сих пор еще называются витахами (витают).
Пришел к нам Робинзон и сразу сцепился с Левой, доказывая ему, что избираемый им после окончания средней школы путь деятельности – кооперация – есть путь насилия и господства. Лева рассердился и резал ему, что если даже и так. то «господство и насилие теперь необходимы и лучше будем господствовать мы, чем вы, дворяне, и не подумайте, что я комсомолец, я – непартийный».
– Да ведь и я же, – говорил Робинзон, – не дворянин, я мельник, только я имею идеал личной свободы и не хочу никого обижать.
– Да, вы думаете только о личном и не хотите узнать новых обязанностей к обществу: если вы общественный работник, то обижать непременно приходится. Вот папа – пожилой человек и все-таки понимает это, вы же – молодой и не понимаете, потому что вы дворянин, а папа вышел из разночинцев.
– Ну, Лева, – засмеялся я, – как это ты припомнил, а я уже забыл, что я разночинец.
И Робинзон:
– Меня, Лева, так много били за дворянство, – зачем вы еще прибавляете?
– Вы, наверно, и в бога верите? – сказал Лева.
– Верю.
– Каким же вы его себе представляете?
– Могучим, гордым, самолюбивым.
– Дворянский идеал. Неужели и в церковь ходите?
– Нет, церковь, попов не признаю.
– Ну, хоть это-то: это хорошо!
У детей так славно сложилось: двое у Михаила Ивановича, Соня и Сева, оканчивают вторую ступень, у Сергея Сергеича – Галя и приехали три сына, студенты, мои тоже приоделись к празднику, у Левы даже английское пальто, так что его сразу прозвали Керзоном. Даже Петя, вчерашний оборвыш, весь в новом. Все они по случаю праздника выпили на «ты» и захороводились на дворе музея.
И вдруг, как снег на голову, без всякого предупреждения являются трое делегатов от Сокольнической биостанции юных натуралистов; один в австрийской солдатской шинели, другой в английской, третий в русской, а когда сняли шинели, то там оказалось еще хуже: у одного даже штаны далеко не доходили донизу. У всех были сумки, сетки и за поясом наганы. Натуралисты встретились с нашей приодетой молодежью, как люди различных миров, познакомились и разошлись. Даже на Леве, самом передовом, сказалось влияние праздника, и когда он привел молодых людей ко мне на Ботик, то доложил:
– К тебе из Сокольников какие-то бандиты приехали.
Мы познакомились. Ребята знали меня и относились с большим уважением. Подогретый сочувствием, я сел на своего конька и говорил им, что хотел бы устроить биостанцию с краеведческим уклоном и сам бы хотел работать в области сближения науки с искусством.
– Большинство животных и растений, – говорил я, – тесно связаны с жизнью человека, но до сих пор наука очень мало занималась изучением этой связи, и, вероятно, тут должно помочь науке искусство. Возьмите чайку и рыбака, посмотрите, как удивительно сочеталась жизнь этих бедных людей с прекраснейшей птицей…
Старший из натуралистов сказал:
– Это тема!
И записал себе в книжке.
Два других вполголоса:
– Мы обсудим это сегодня же после собрания.
– Вы все обсуждаете? – сказал я.
– Да, – ответил старший, – мы все обсуждаем и потом коллективно действуем, и так у нас ни минуты не пропадает.
– Значит, и ко мне вы не просто пришли побеседовать?
– Мы пришли учесть вашу живую силу.
– И что же вы находите, это не секрет?
– Мы находим, что вы очень можете быть нам полезным для агитационных целей: вы прекрасно говорите и пишете; как натуралист вы, вероятно, поверхностный, но фенологические наблюдения вы можете делать прекрасно, и очень желательно было бы, чтобы вы занялись кольцеванием птиц, потому что вы охотник и птицы часто у вас бывают в руках.
Я пожал им руки с улыбкой, и они охотно стали рассказывать о себе. Старшему двадцать лет, он окончил уже школу второй ступени и состоит лаборантом биостанции и преподавателем физики в школе – высокий молодой человек с приятным лицом, заметно руководящий и вообще председатель. Другой – помоложе, поменьше, потише и углубленный, верно, хорошая рабочая сила: секретарь. Третий – с матросскими знаками на руках, сильный малый, имел замечательную судьбу: сам из беспризорных, воспитался революцией, много набедил и опустился на дно. Но как-то случайно попал на биостанцию, посмотрел, что свои же беспризорные работают с микроскопами, заглянул в стеклышко, и, как в прежнее время кто-нибудь вдруг поверил бы в бога и пошел в монастырь, этот поверил в науку, занялся и теперь тоже окончил школу. У него немного восточное лицо, а по фамилии Палкин.
– Вот вы нас понимаете, – сказали они, – а как трудно с комсомольцами.
– Да вы-то разве не комсомольцы?
– Да, мы комсомольцы и даже коммунисты, но еще и натуралисты, и потому понимаем явления общественной жизни глубже, а они все еще удовлетворяются политграмотой.
Вдруг все они посмотрели на часы: им надо спешить на собрание к местным комсомольцам, где они будут пропагандировать свой новый метод применения биологии для решения вопросов общественной жизни.
На прощанье я спросил:
– Как же вы думаете, возможно нам вместе с вами устроить здесь биостанцию?
Председатель ответил:
– Мы учтем ваши живые силы и потом ответим определенно.
С утра все небо было закрыто. Мелкий теплый дождик. На лужайках показалась первая зелень, начинается весна зеленых покровов. На кухне сказали:
– Овца и сейчас может наесться.
Снег двумя-тремя пятнами остался только в ложбинках на северном склоне Гремячей горы. Стала очень заметна работа кротов.
В пять вечера выглянуло солнце и воздух стал необыкновенно прозрачным. Простым глазом очень ясно можно было разобрать на той стороне и Городище, и Александрову гору с Яриловой плешью. Со стороны деревни был слышен первый хоровод. Очень легкий зюйд-вест незаметно за день отогнал от нашего берега на север лед, и он теперь, желтоватый от вечернего света, сходился с резко синей громадой отработанных туч.
Все коммунары явились ко мне с просьбой дать им ружья и проводить их на тягу. Я дал им ружья, но сам идти не мог и предложил им в проводники Петю. Товарищи переглянулись, и председатель сказал, что он останется со мной побеседовать. Я понял, что председатель жертвует охотой для изучения моей живой силы. Я нисколько не обижаюсь и этому изучению. Я сам изучаю, у меня свой загад, и еще посмотрим, кто кого учтет. Моя молодость тоже прошла в подпольной коммуне, и мое изучение похоже скорее на воспоминание.
– Итак, – говорю я, – вас в коммуне пятнадцать человек – восемь юношей и семь девушек, таким образом один юный натуралист остается без подруги.
– Это у нас исключается.
– Вы меня плохо поняли, я говорю о сочувствии, переходящем постепенно в любовь.
– Такая любовь ничему не мешает, и все выражается только тем, что двое работают с одним микроскопом.
– Но если у вас, например, что-нибудь разорвется в костюме, иголочку вы попросите все-таки у нее?
– Да, вначале это было со мной. Я крикнул: «Катька, почини мне штаны!» И знаете, что она мне ответила?
– Конечно, не стала чинить.
– Мало того, она сказала: «Сережа, я не понимаю такой постановки вопроса».
– Какая милая девушка, я думал – она вам скажет как-нибудь грубо. Мне очень не нравится ваша фраза: «Катька, почини мне штаны».
– Да, эта девушка очень сознательная, она внесла этот инцидент на обсуждение всей коммуны. Постановили: ввиду того, что шить она большая мастерица, то пусть починка нашей одежды будет ее общественной обязанностью. Она согласилась и после того с большой охотой мне починила штаны.
– Починку одежды, – сказал я, – очень понятно, можно сделать общественной обязанностью, но любовь непременно заостряется в личное чувство, и это личное потом закрепляется браком.
– Брак у нас исключается. Пока Россия находится в таком бедственном экономическом состоянии, мы не считаем себя вправе прибавлять едоков. И это у нас третий пункт пропаганды среди комсомольцев: первый пункт – борьба с коммунистическим чванством, – ликвидирован, второй – натуралистически-исследовательский метод для изучения производительных сил, – налаживается, третий – воздержание от производства едоков.
– Позвольте, – говорю, – если удерживаться от любви из-за едоков, то есть множество медицинских способов избавляться от них, не отказываясь от любви.
– Но это опять не выдерживает никакой критики с натуралистически-хозяйственной точки зрения. Как натуралисты, мы знаем хорошо, что наши ткани восстанавливаются исключительно благодаря деятельности секретов, и потому непозволительно расходовать только ради удовольствия драгоценнейшее жизненное вещество.
Мои воспоминания в это время были на том моменте моей юности, когда мы боролись посредством экономической аргументации с излюбленной народниками аргументацией биологической. А вот теперь почему-то эта писаревски-народническая аргументация попадает в руки новой молодежи…
– Все-таки, – спрашиваю, – будет же когда-нибудь конец вашему воздержанию от потомства?
Он отвечает:
– Когда Россия поправится экономически.
– Когда же она поправится?
Подумав, он сказал:
– Мы надеемся, что через год.
– О, – сказал я весело, – тогда ничего.
И, заметив, что он быстро записал себе что-то в книжечку, спросил, не пришла ли ему от нашего разговора, как в тот раз о чайке, какая-нибудь новая тема.
– Да, – ответил он, – мне пришло в голову, что хорошо бы заняться изучением рефлексов спаривания человека.
На березах только что обозначалась молодая зелень, и леса оказались такими большими, такими девственными. Наш поезд в этих лесах не казался чудовищем, – напротив, поезд мне казался очень хорошим удобством. Я радовался, что могу, сидя у окна, любоваться видом непрерывных светящихся березовых лесов. Перед следующим окном стояла девушка, молодая, но не очень красивая: лоб у нее был немного высок и как-то вдруг слишком по-умному неожиданно, почти под прямым углом, завертывался к темени, и от этого приходило в голову, что эта девушка служила в аптеке. Время от времени она откидывала голову назад и озиралась по вагону, как птица: нет ли ястреба, не следит ли за ней кто-нибудь? Потом опять ныряла в окно.
Мне захотелось посмотреть, какая она там про себя, наедине с зеленой массой берез. Тихонечко я приподнялся и осторожно выглянул в окно. Она смотрела в зеленую массу светящейся молодой березовой зелени и улыбалась туда и шептала что-то, и щеки у нее пылали.
Цветут тополя, осины, медуница, волчье лыко и все первые цветы.
Своим пристальным вниманием и душевным участи ем в переменах природы я достигаю того, что многое отгадываю, где что зацвело, закопалось, полетело; иногда удается мне верно угадывать и погоду, но ранней весной столько на дню бывает перемен, что и рыбаки ошибаются.
Сегодня на заре восток открыт, а по всему небу облака довольно серые и как бы сговариваются против солнца. В это время и рыбаки сговаривались для первого выезда в озеро. Первым пришел на берег Иван Иваныч, отец церковного старосты, самый старый и самый опытный, – в озеро уж больше не ездит, а служит для рыбаков, как барометр. Когда собрались рыбаки, Иван Иваныч уже по-своему как-то вывел, что к вечеру ветер погонит лед на полдень и затрет рыбаков и что ездить не надо.
Рыбаки думали.
Я пробовал выспрашивать и старика и рыбаков об их думах, но это были, вероятно, скорее чувства, и их изучать надо так же постепенно, как и природу. Только верно я узнал, что сейчас нершится плотва-ледянка, потом пойдет щука-грязнуха, а дальше, даже о последовательности нереста разных рыб, показания были разные.
Чтобы сгладить противоречие, старик сказал в заключение:
– На озере есть разное прозерство.
Солнце против ожидания взошло победно, и рыбаки не послушав старика, поехали между льдом и южным берегом в Урёв, где озеро посылает от себя реку Вексу.
К семи утра солнце уже смотрит в окошко, и ветер, очень легонький, едва ощущаемый, начинает тянуть с севера.
В полдень поднимается свежий ветер, падает град.
К вечеру – буря, сильный снег, вся наша зеленеющая лужайка стала белой. Лед подался к нам, навалился на берег, и все сбылось, как утром говорил прозер: рыбаки заперты льдами в Урёве.
Первый вечер у нас не лучили щук, весь берег был намертво затерт льдом, и лучи виднелись только на севере, на свободной воде.
Посмотрев на безобразный и мертвый лед, этот все еще неупокоенный труп зимы, щучий боец Думнов сказал:
– Худой зять приехал к теще гостить.
Все обещало ночью сильный мороз. В первом часу при луне я вышел в дубовую рощу, где много маленьких птиц и первых цветов. Так и зову этот уголок страной маленьких птиц и лиловых цветов.
Вскоре на западе стала заниматься заря, и свет пошел на восток, как будто заря утренняя внизу, невидимо за чертой горизонта, взяла вечернюю и потянула к себе. Я шел очень скоро и так согревался, что не заметил даже, как сильный мороз схватил траву и первые цветы. Когда же прошел заутренний час и мороз вступил во всю силу, я взял один лиловый цветок и хотел отогреть его теплой рукой, но цветок был твердый и переломился в руке.
Заведующий музеем определенно недоволен натуралистами, и, показав мне их совершенно неграмотную заметку в музейной книге, он сказал:
– Я не верю в биологию неграмотных людей. Как они будут учителями!
С какой-то точки зрения он прав, но у меня есть своя дикая точка зрения: в школе я тоже плохо писал.
С невероятным трудом я занимался в школе математикой, и наука эта мне казалась необоримой. Но когда через двадцать пять лет пришлось помочь сыну, я в три дня просто прочитал алгебру.
Теперь кто-то понял все это, взвесил, и тот метод обучения, при котором я не мог постигнуть алгебру, называется методом готовых знаний, а то, как я потом, когда мне изнутри понадобилось, и я сам проходил, называется методом исследовательским. Значит, разница в том, что там, в готовом методе, велят, а в исследовательском занимаюсь я сам, и задача педагога состоит в пробуждении у каждого ученика этой самости.
Но это я так понимаю современные задачи, а на стенах даже такого живого учреждения, как Сокольническая биостанция, этот исследовательский метод изображен графически методистами так сложно, с таким множеством стрелок, крючков, лучей, что понять так же трудно, как решить самую сложную задачу по какой-нибудь сферической тригонометрии, и если такой исследовательский метод явится в провинцию, то этот труп творчества ничем не будет отличаться от трупа готовых знаний.
– Вот что плохо, дорогой Михаил Иванович, – сказал я заведующему музеем, – а не то, что ребята неграмотны.
– Но ведь они нас учить хотят!
– Зачем принимать так серьезно: их задача – подсчитать наши живые силы.
Вечером пришел ко мне председатель с пробирками, наполненными разными букашками, и между прочим был сосуд с водой Гремячего ключа. На вопрос мой, для чего ему вода, он ответил, что для анализа. Я сказал, что анализ самый подробный имеется в музее. Он вылил воду. Лишнее действие произошло потому, что при исследовательском методе исключается предварительное знакомство с материалом по книгам: там готовое, а надо увидеть самому. Но в школе учитель незаметно делает так, что ученику только кажется, будто это он сам подошел к предмету, на деле – это его учитель подвел; в жизни же непременно надо ознакомиться самому с предшествовавшими работами других, иначе непременно будет бесконечное множество раз открываться Америка.
При выходе из дома мы услыхали, что, несмотря на зимний пейзаж, все-таки в лесу изредка вечерние птицы пели.
Председатель спросил меня:
– Вы слышите, какая это птица поет?
– Певчий дрозд.
– Да, но из певчих какой?
– Не знаю. Какой же?
– Я не могу вам сказать, у нас в школе правило, если знаешь, не говорить. Убейте его и определите сами.
– Но, дорогой, – прошу я, – сделайте для меня исключение, я терпеть не могу убивать птиц просто из любопытства и особенно во время пения, я понимаю песню природы прежде всего как песню и потом уже исследую как феномен. Помогите мне просто по-приятельски.
Он одумался и сказал:
– Это поет дрозд-белобровик.
Нет, я ничего не вижу худого в ребятах, в их годы я был гораздо хуже, и я был у родителей, и мне, если было плохо, давали иногда для успокоения бром, а эти беспризорные были дети улицы и когда-то, может быть, нюхали кокаин. Палкин нюхал наверное.
После теплой ночи солнце встало сразу жарко и в полной тишине. По-прежнему озеро наше лежит разделенное: на севере – живая вода, у нас – злой зеленый с белыми взрывами лед.
Вскоре после восхода потянул, постепенно усиливаясь, ветер с юга, и к полудню послышался крик:
– Пошел, пошел, поехал!
– Кто поехал? – спросил я в окно.
– Худой зять, – ответил Иван Акимыч.
Мы поняли, что это лед погнало от нашего берега к обрыву Гремячей горы.
В это время «худой зять» был уже далеко, зажатые льдами рыбаки после двух суток жизни на берегу, где-то в Урёве, радостно всем флотом возвращались домой, а у нас плескалась живая голубая вода. К берегу сходились рыбаки с острогами, тысячи чаек слетались на голубое, и все почему-то в одну точку, так что недалеко от нашего берега складывался на голубом белый остров, и как-то это бывает, что голубая вода казалась выше уровня линии города и все-таки не заливала. Вдруг весь белый остров рассыпался чайками, и голубой сказкой через белые крылья из-под воды выглянул бедный русский город.
Глядя на сияющий Китеж, обвеянный крыльями чаек, я вспомнил, что натуралисты сегодня делают в музее свой доклад о чайках, и дети мне говорили, что будто бы они интересовались, сколько стоит выстрел из ружья, и высчитывали, не выгоднее ли будет перестрелять чаек и уничтожить вредную птицу.
В музей соберется вся наша молодежь, охотники, – что, если в самом деле возьмут и уничтожат эту красоту?
Я спустился к самому озеру и спросил одного старого рыбака, правда ли, что рыболовка – вредная птица.
Рыбак ответил:
– Вредная птица… Кто вам сказал? Посмотри, сколько раз она к воде падает и все пустая, у нее это как-то плохо выходит. А подымись на берег и увидишь: вся чайка там ходит за пахарем. Было то же раз на охоте: приехали гости из Москвы, стали разбирать, что полезно, что вредно. Услыхали, дятел долбит, и говорят: «Сколько дятел вреда приносит дереву!» А у нас тут был свой ученый человек, доктор, хороший человек, разыскал то дерево и спрашивает: «Отчего это дерево подсыхает?» Они отвечают: «Червяк точит». – «Ну вот, – говорит наш человек, – а дятел этого червя достает, он не враг дереву, а доктор». Так вот и ты, иди, иди наверх, посмотри, сколько чаек ходит за пахарем.
Сегодня теплое утро с сильной росой. После обеда брызнул дождик «из облака», а потом пролился и сильный, в опровержение распространенного мнения, будто если утром сильная роса, то непременно день сложится ведряный.
Озеро еще не вошло в свои берега. В шоколадных лесах, кажется, зеленеют кроны каких-то деревьев, но это не деревья распустились, а через неодетый лес просвечиваются зеленеющие лужайки. По берегу озера бегает, ноги мочит, в черной косыночке и в черном переднике, белощекая трясогузка. Качается кулик. Из желтой прошлогодней травы торчит хохолок чибиса. Плавают кряковой селезень с утицей.
Тракт, рассекающий лес, погибает, в весеннее время по нему уже больше не ездят. Если так будет дальше оставаться, скоро лес вовсе поглотит дорогу со всеми телеграфными столбами. Некоторые колеи так глубоки, что в дождливые дни обращаются в русла потоков и от этого каждый раз, конечно, еще глубинеют. В другие колеи высокие деревья сверху набросали свои семена, и то, что было раньше следом телеги, теперь превратилось в аллею из самых разнообразных деревьев. Между молодыми деревьями трава, цветы, – нигде я не встречал так много анемон и фиалок. Но чудесна тут белая, выбитая человеческими ногами тропа; теперь она вьется среди бесчисленных раскрывающих почки кустарников черемухи, орешников и молодых берез. Порхает бабочка-лимонница. Сколько великого счастья – пройти по такой тропе! Удивляюсь, что знакомые здоровые люди уехали в Крым.
Сильно парит от земли. Пашут под яровое. Самое время роста сморчков-овсяников. В лесу сыро, идешь – нога чавкает: поцелуи без конца. Выходишь на полянку – поцелуи перестали. Вот старый березовый пень, и на нем растет маленькая бойкая елочка. Возле этого пня желанные сморчки. Берешь их, а зяблик так и рассыпается. Я счастлив исполнением своих желаний. Я не ехал в Крым, я терпеливо пережидал суровое время и вот получаю награду. Крым сам приехал ко мне.
На горе ветерок мотает синей рубахой, и далеко видна рыжая борода пахаря, а за пахарем от начала борозды и до конца в несметном числе идут птицы: белые чайки, черные грачи, в особенности много чаек, но были и серые вороны.
Я дождался, пока пахарь довел свою борозду к дороге, и сказал ему, указывая на птиц:
– Дивлюсь я, брат, сколько около тебя кормится этой публики.
– Неученая публика, – ответил он весело, – глупая, вроде нас, мужиков, а я дивлюсь, сколько возле нас, дураков, ученой-то публики кормится.
Я притворился, что не понимаю.
– Хлеб едят все, – продолжал пахарь, – ученые люди не сеют, не веют, откуда же они берут? Знаю, что и среди ученых есть дураки, да у них должность умная: по должности всякий ученый – умный человек. Я и сам не дурак от природы, да мое дело-то глупое, и я со своим делом дурак. Вы мне объясните, никак я этого понять не могу: все говорят, что мужики темные и дураки, а почему же без дураков не могут обойтись ученые, умнейшие люди.
До революции, наверно, я стал бы развивать с радостью вместе с этим крестьянином план разделения ученых и дураков. Я строго указал ему на плуг и напомнил, что он сделан при помощи ученых людей.
– Те-те-те, – погрозил мне пальцем пахарь, – вижу, ты меня вправду за дурака принимаешь, неужели же я про тех ученых говорю, кто плугами занимается.
И он стал усердно бранить местное начальство, потом дальше, дальше и так дошел до революции.
Критика его была гораздо сильнее обыкновенного интеллигента, и если бы я был таким, то пошел бы от мужика дураком.
– Те-те-те! – погрозил я ему пальцем, совершенно как он мне, – ты что же меня за ученого дурака принимаешь, разве я не понимаю, что крестьянину от революции все-таки стало свободнее. С мест-то ведь все-таки сдвинулись.
Тогда мужик, бросив игру, сказал серьезно:
– С места, конечно, сдвинулись.
В музее натуралисты с первых слов заявили, что едва ли могут к нам приехать из Москвы для руководства вполне обработанные и общественно увязанные сотрудники, но что на месте, по их наблюдениям, вполне достаточно живых сил, чтобы взяться за дело немедленно.
Первым докладывал Палкин о том, что изучать нужно только самое полезное, потому что страна очень бедна, и теперь никак нельзя допустить, например, такую роскошь, как измерение зрачков серой жабы. Натуралисты должны изучать прежде всего народное хозяйство, во-вторых, гигиену, в-третьих, материализм.
Один из лучших наших юных краеведов при слове «материализм» не удержался и выпалил:
– А ежели изучать бескорыстно?
– Елки зеленые! – воскликнул Палкин. – Материализм не есть корысть, материализм, это – откуда что пошло и так далее. Понимаешь?
– Понимаю, но как же нам это изучать без руководителя?
– А разум? Разум – это вам не фунт изюму, возьмитесь разумно работать по нашему исследовательскому методу, и вы увидите, что двадцать юннатов могут заменить одного профессора.
Эта несколько рискованная трактовка общей мысли о количестве, переходящем в качество, вызвала глухой ропот среди юннатов, и был один голос:
– Это смотря какого профессора.
Палкин с этим согласился, считая, что не в этом дело, а, главное, надо бороться с расхлябанностью и помнить, что продуктивность нашей работы зависит от нашей связи с государственными заданиями, и поэтому увязка должна быть поставлена на первом месте.
После общего вступления председатель показал пример, как нужно пользоваться исследовательским методом.
– Возьмем, – сказал он, – тему: чайка. Начинайте исследование чайки, ни в коем случае не читая никакой книги о чайках, пользуйтесь книгой только после, как справочником. И прежде всего сделайте подсчет всех чаек; тут-то вы и увидите выгоду нашего коллективного метода: в одиночку такой подсчет сделать невозможно; если же вы соберете все школы, в определенный день и час распределитесь по всем прудам и берегам озера, то сделаете это очень легко…
После того узнается, сколько рыбы поглощают все чайки на озере, и затем, сколько все чайки могут дать пуха. Польза от чайки – пух; вред – поглощение рыбы, – что же преобладает? А если окажется, что от чайки вред, то нужно побороть предрассудки населения и поголовно истребить всех чаек. Но даже при уничтожении не надо упускать хозяйственного принципа и высчитать, во что обойдется стрельба и стоит ли того пух…
На этом опасном месте я дружески сказал председателю, что, из опасения, как бы охотничий темперамент наших юных краеведов не преодолел в них исследователя чаек, не мешало бы рассказать об относительности понятия хищник, например, лисица…
Председатель с большой охотой рассказал, что лисица, конечно, хищник, уничтожает кур, но в то же время она уничтожает на поле мышей, и польза от этого гораздо большая, чем вред от уничтожения кур, так что лисица хотя и хищник, но полезный.
А чайка тоже уничтожает насекомых, и тоже может оказаться очень полезной.
Сергей Сергеич рассказал о множестве случаев спасения им жаб от истребления деревенскими ребятишками: жаба такое полезное животное, что в Париже и Лондоне даже продается на рынке и охотно за хорошие деньги покупается огородниками.
После такой подготовки сочувствие к чайкам у всех очень возросло, и можно было как-то незаметно ввернуть, что, прежде чем предпринимать сложную работу исследования пользы или вреда от чаек, хорошо бы справиться в научной литературе, – может быть, окажется этот вопрос о чайках давно решенным. Но главное и нужное пришло под самый конец. Оказалось, что натуралисты прекрасно умеют препарировать птиц, и нам было чему от них поучиться. Еще у них были с собой кольца из алюминия для того, чтобы надевать их перелетным птицам на лапки и отпускать лететь, куда им положено, и там, где-нибудь в Новой Гвинее, их ловят, мы же ловим их птиц, и так соединяются в этом деле народы всех стран и узнают воздушные пути птиц, и по этим путям узнают многое из жизни нашей планеты.
Весна леса
В истории земли жизнь озер очень кратковременна: так вот было когда-то прекрасное озеро Берендеево, где родилась сказка о Берендее, а теперь это озеро умерло и стало болотом. Плещееве озеро еще очень молодо и как будто не только не замывается и не зарастает, а все молодеет. В этом озере много сильных родников, много в него вливается из лесов потоков, а по реке Трубежу вместе с остатками воды Берендеева озера перекатывается и сказка о берендеях.
Ученые говорят разное о жизни озер; я не специалист в этом, не могу разобраться в их догадках, но ведь и моя жизнь тоже, как озеро: я непременно умру, и озера, и моря, и планеты – все умрет. Спорить, кажется, не о чем, но откуда же при мысли о смерти встает нелепый вопрос: «Как же быть?»
Думаю, это, наверно, оттого, что жизнь больше науки. Невозможно жить с одной унылой мыслью о смерти, и свое чувство жизни люди выражают только сказкой или смешком: «Все люди смертны, я – человек, но это ничего не значит, все умрут, а я-то как-нибудь проскочу». Эти жалкие смешки отдельных людей перед неизбежностью конца простые берендеи сметают своим великим рабочим законом: помирать собирайся, а рожь сей.
Напор жизни безмерно сильнее логики, а потому науки не надо бояться. Я не молод, вечно занят, чтобы кувшин мой был полон водой, и знаю, что, когда он полон, – все мысли о смерти пусты. Мало ли что будет когда-то, а самовар по утрам все-таки я ставлю с большим удовольствием, мой самовар, отслуживший мне долгое время от первой встречи и до серебряной свадьбы моей с Берендеевной.
Только в самое светлое время утренний свет встает раньше меня, но и то я все-таки встаю непременно до солнца, когда даже обыкновенные полевые и лесные берендеи не встали. Опрокинув самовар над лоханкой, я вытрясаю из него золу вчерашнего дня, наливаю водой из Гремячего ключа, зажигаю лучину и ставлю непременно на воле, прислонив трубу к стене дворца, на черном ходу. Тут на верхней площадке, пока вскипает самовар, я приготовляю на столе два прибора. Когда поспеет, я в последний раз обдуваю частицы угля, завариваю чай, сажусь за стол – и с этого момента не я, обыкновенный озабоченный человек, сижу за столом, а сам Берендеи, оглядывая все свое прекрасное озеро, встречает восход солнца.
Вскоре приходит к чаю Берендеевна и, оглядев, все ли в порядке у самого, велит:
– Опять бородищу запустил, страшно смотреть, оботри усы.
Она пробирает Берендея, и всегда на вы, так равняя его с ребятами, и Берендеи с удовольствием ей подчиняется. Среднее отношение к женщине, называемое словом жена, у Берендея уже прошло, и жена ему стала как мать, и собственные дети – как братья-охотники. Придет, может быть, время, и Берендеевна станет ему женой-бабушкой, внучата – новыми братьями, – младенцем пришел, младенцем уйдешь, как и в озерах; одни потоки вливаются, другие истекают, и если ты бережешь кувшин полным, то жизнь бесконечная…
Мало-помалу сходятся из леса берендеи: кто принес петуха, кто яиц, кто домотканые сукна и кружева, Берендеевна все внимательно осматривает и, бывает, что-нибудь покупает, сам же Берендеи выспрашивает всех, кто где живет, чем занимается, какая у них земля, вода, лес, как гуляют на праздниках, какие поют песенки.
Сегодня был один берендеи из Половецкой, волости и рассказывал, что у них там в болотных лесах есть дорога на три версты, бревнышко к бревнышку, и очень звал к себе в гости посмотреть и подивиться деланной дороге. Другой берендеи, из Ведомши, дегтярник, долго рассказывал, как он огромный пень разбирает на маленькие кусочки, как гонит чистый деготь, варит смолу и скипидар. Третий был из Заладьева.
– Что это значит такое, – спросил Берендеи, – как это понять: за-ладье?
– А у нас там бежит речка, мы за речкой живем, речка же называется Лада.
– Речка Лада, как хорошо! – восхищается сам Берендеи.
– Да, – соглашается довольный гость, – ведь у нас за Ладой пойдут все гладкие роскоси и по Утехину-врагу и все добрые села: Дудень, Перегудка, Хороброво, Щеголеново и Домоседка.
– У нас же, – сказал берендей-залешанин из Ведомши, – только пень, смола, муха разная, комар, и села недобрые: Чортоклыгино, Леший Роскос, Идоловы Порты, Крамолиха, Глумцы.
Реки, речки, потоки, родники, какие-то веточки, лапки и даже просто потные места – все Залесье светится этим капризным узором. И все это загадывает оплавать сам Берендей, когда совершенно освободится от льда Плещееве озеро.
Когда солнце перелиняло всеми своими начальными заревыми красками и стало на свою обычную золотую работу, расходятся берендеи, и сам Берендей исчезает.
Тогда я завешиваю от солнца окна своей рабочей комнаты и принимаюсь за свою работу.
Почему-то сегодня я не могу ничего делать, все как-то путается. Прекрасными умными глазами смотрит на меня из угла рыжий пес Ярик, угадывая, что долго мне не просидеть. Этих взглядов я не могу выдержать и начинаю с ним философский разговор о звере и человеке, что зверь знает все, но не может сказать, а человек может сказать, но не знает всего.
– Милый Ярик, один великий мудрец сказал, что с последним зверем исчезнут на земле все тайны. Вот на улицах в Париже уже исчезли лошади, и говорят, что так скучно стало с одними автомобилями. А посмотри, сколько у нас в Москве лошадей, сколько птиц на бульварах, говорят, нет такого города в мире, где было бы на улицах столько птиц… Ярик, давай с тобой устроим на Ботике Берендееву биостанцию, чтобы вокруг верст на двадцать пять остались бы неприкосновенными все леса, все птицы, все зверье, все родники Берендея. На Гремячей горе пусть будет высшая школа, и в нее будут допускаться только немногие, доказавшие особенную силу своего творчества, и то на короткое время, для подготовки большого праздника жизни, в котором все участники радовались бы, непременно прибавляя от себя что-нибудь к Берендееву миру, а не засоряя его бумажками от бутербродов.
Я бы так еще долго разговаривал с Яриком, но вдруг Берендеевна крикнула:
– Иди, иди скорее, посмотри, какое озеро!
Я выбежал и увидел такое, что второй раз уже невозможно было увидеть, потому что в этот раз озеро отдало мне все свое лучшее и я свое лучшее отдал озеру. Весь небесный свод со своими градами и весями, лугами и пропилеями и простыми белыми барашками почивал там, в зеркальном озере, гостил так близко у нас, у людей…
И я вспомнил то мое весеннее время, когда она мне сказала: «Ты взял мое самое лучшее». Вспомнил и то, что она же сказала мне осенью, когда солнце нас покидало, как тогда я рассердился на солнце, купил самую большую тридцатилинейную лампу-«молнию» и повернул всю жизнь по-своему…
Что вышло из этого?
Мы долго молчали, но один гость наш не осилил молчания и нелепо сказал, только чтобы сказать:
– Видите, там утка чернеется.
Глубоко вздохнула Берендеевна и тоже сказала:
– Если бы я была прежняя, девочкой, да увидела такое озеро, я бы на коленки стала…
То был великий день весны, когда все вдруг объясняется, из-за чего мы переносили столько пасмурных, морозных, ветреных дней: все это было необходимо для творчества этого дня…
Что же другое можно было придумать, увидев открытое озеро: не теряя времени даром, идти краем воды в лес и дальше в глубину леса, в село Усолье, где работают лодочные мастера.
На пути нашем все было так, будто уже и устроился тот заповедник, о котором я разговаривал с Яриком.
Направо от нас у самого озера шумел высокий бор, налево был дикий невылазный болотный лес, переходящий в огромные болотные пространства. В бору на солнечных пятнах по брусничнику нам стали показываться какие-то движущиеся тени, и, подняв голову вверх, я догадался, что это там неслышно от сосны к сосне перелетают коршуны.
– Все как-то холодно было, а вчера вдруг все и пошло, – сказал нам лесник.
– Заря все-таки, – ответил я, – была довольно холодная.
– Зато сегодня утром-то как сильно птица гремела!
В это время раздался крик, и мы едва могли в нем узнать первое кукование: оно гремело и сплывалось в бору. И даже зяблики, маленькие птички, не пели, а гремели. Весь бор гремел, и неслышные, различимые только по теням на солнечных пятнах по брусничнику, перелетали с кроны на крону большие хищники.
К вечеру солнце было чисто на западе, но с другой стороны погромыхивали тучи, сильно парило, и трудно было угадать, обойдется или нет без грозы в эту ночь. На пару во множестве цветут львиные зевы синие, в лесу заячья капуста и душистый горошек. Березовый лист, пропитанный ароматной смолой, сверкал в вечерних лучах. Везде пахло черемухой. Гомонили пастухи и журавли. Лещ и карась подошли к берегу.
Увидев в нашей стороне большое зарево, мы струхнули: «Не у нас ли это пожар?» Но это был не пожар, и мы себя спросили, как всегда спрашиваешь всю жизнь, видя это и не узнавая опять: «А если не пожар, то что же это может быть такое?» Когда наконец ясно обозначилась окружность большого диска, мы догадались: это месяц такой. За озером долго сверкала зарница. В лиственном лесу от легкого ветра впервые был слышен зеленый шум.
При выезде из реки в озеро, в этом урёве, в лозиновых кустах вдруг рявкнул водяной бык, эта большая серая птица выпь, ревущая как животное, с телом по крайней мере гиппопотама. Озеро опять было совершенно тихое и вода чистая – оттого, что за день ветерок успел уже все эти воды умыть. Малейший звук на воде был далеко слышен.
Водяной бык вбирал в себя воду, это было отчетливо слышно, и потом «ух!» на всю тишину ревом, раз, два и три; помолчит минут десять и опять «ух!»; бывает до трех раз, до четырех – больше шести мы не слыхали.
Напуганный рассказом в Усолье, как один рыбак носился по озеру, обняв дно своей перевернутой волнами вверх дном долбленки, я правил вдоль тени берега, и мне казалось – там пел соловей. Где-то далеко, засыпая, прогомонили журавли, и малейший звук на озере был слышен у нас на лодке: там посвистывали свиязи, у чернетей была война, и потом был общий гомон всех утиных пород, где-то совсем близко топтал и душил свою самку кряковой селезень. Там и тут, как обманчивые вехи, вскакивали на воде шеи гагар и нырков. Показалось на розовом всплеске воды белое брюхо малой щуки и черная голова схватившей ее большой.
Потом все небо покрылось облаками, я не находил ни одной точки, чтобы верно держаться, и правил куда-то все влево, едва различая темнеющий берег. Каждый раз, как ухал водяной бык, мы принимались считать, дивясь этому звуку и загадывая, сколько раз ухнет. Было удивительно слышать эти звуки очень отчетливо за две версты, потом за три, и так все время не прекращалось и за семь верст, когда уже слышалось отчетливо пение бесчисленных соловьев Гремячей горы.
Еще не отцвела черемуха и ранние ивы еще не совсем рассеяли свои семена, а уж и рябина цветет, и яблоня, и желтая акация, – все догоняет друг друга, все разом цветет этой весной.
Начался массовый вылет майских жуков.
Тихое озеро по раннему утру все засыпано семенами цветущих деревьев и трав. Я плыву, и след моей лодки далеко виден, как дорога по озеру. Там, где утка сидела, – кружок, где рыба голову показала из воды, – дырочка.
Лес и вода обнялись.
Я вышел на берег насладиться ароматом смолистых листьев. Лежала большая сосна, очищенная от сучьев до самой вершины, и сучья тут же валялись, на них еще лежали сучья осины и ольхи с повялыми листьями, и все это вместе, все эти поврежденные члены деревьев, тлея, издавали приятнейший аромат, на диво животным тварям, не понимающим, как можно жить и даже умирать, благоухая.
Свечи на соснах стали далеко заметны. Рожь в коленах. Роскошно одеты деревья, высокие травы, цветы. Птицы ранней весны замирают: самцы, линяя, забились в крепкие места, самки говеют на гнездах. Звери заняты поиском пищи для молодых. У крестьян всего не хватает: весенняя страда, посев, пахота.
Прилетели иволги, перепела, стрижи, береговые ласточки. После ночного дождя утром был густой туман, потом солнечный день, свежевато. Перед закатом потянуло обратно, с нашей горы на озеро, но рябь по-прежнему долго бежала сюда. Солнце садилось из-за синей тучи в лес большим несветящим лохматым шаром.
Иволги очень любят переменную, неспокойную погоду: им нужно, чтобы солнце то закрывалось, то открывалось и ветер бы играл листвой, как волнами. Иволги, ласточки, чайки, стрижи с ветром в родстве.
Темно было с утра. Потом душно, и сюда пошла на нас большая туча. Поднялся ветер, и под флейту иволги и визг стрижей туча свалилась, казалось, совсем куда-то в Зазерье, в леса, но скоро там усилилась и против нашего ветра пошла сюда, черная, в огромной белой шапке. Смутилось озеро: ветер на ветер, волна на волну, и черные пятна, как тени крыльев, быстро мчались по озеру из конца в конец. Молния распахнула тот берег, гром ударил. Иволга петь перестала, унялись стрижи. А соловей пел до самого конца, пока, наверно, его по затылку не ударила громадная теплая капля. И полилось, как из ведра.
После грозы вдруг стало очень холодно, начался сильный северный ветер. Стрижи и береговые ласточки не летят, а сыплются откуда-то массой.
Этот непрерывный днем и ночью ветер, а сегодня при полном сиянии солнца вечно бегущие волны с белыми гребнями и неустанно снующие тучи стрижей, ласточек береговых, деревенских и городских, а там летят из Гремяча все чайки разом, как в хорошей сказке птицы, только не синие, а белые на синем… Белые птицы, синее небо, белые гребни волн, черные ласточки, – и у всех одно дело, разделенное надвое: самому съесть и претерпеть чужое съедение. Мошки роятся и падают в воду, рыба подымается за мошками, чайки за рыбой, пескарь на червя, окунь на пескаря, на окуня щука и на щуку сверху скопа.
По строгой заре, когда ветер немного поунялся, мы поставили парус и краем ветра пошли по огненному литью волн. Совсем близко от нас скопа бросилась сверху на щуку, но ошиблась; щука была больше, сильнее скопы, после короткой борьбы щука стала опускаться в воду, скопа взмахнула огромными крыльями, но вонзенные в щуку лапы не освободились, и водяной хищник утянул в глубину воздушного. Волны равнодушно понесли перышки птицы и смыли следы борьбы.
На глубине, где волны вздымались очень высоко, плыл челнок без человека, без весел и паруса. Один челнок, без человека, был такой жуткий, как лошадь, когда мчит телегу без хозяина прямо в овраг. Было нам опасно в нашей душегубке, но мы все-таки решили ехать туда, узнать, в чем же дело, не случилась ли какая беда, как вдруг со дна челнока поднялся невидимый нам хозяин, взял весло и повел челнок против волн.
Мы чуть не вскрикнули от радости, что в этом мире появился человек, и хотя мы знали, что это просто изморенный рыбак уснул в челноке, но не все ли равно: нам хотелось видеть, как выступит человек, и мы это видели.
К самому вечеру так стихло, что листок на березе не шевелился. Под Гремячей горой на дороге все куда-то идет и едет народ. На боковой песчаной тропинке я видел следок малюсенькой детской ножки-лапки, такой милый, что не будь смешно на людях – поцеловал бы…
Едут люди внизу по дороге, переговариваются на подводах, и слова их, ударяясь о тихую воду, все ясно летят на Гремячую гору. Почти с каждой подводой бежит жеребенок. Крестьянские слова были о том, что картошку посадили, что у какого-то Дмитрия Павлова померла жена и что ему до шести недель не пришлось дождаться, женился и никак иначе нельзя – шесть человек детей. А Марья вышла за Якова Григорьева, ей сорок, ему шестьдесят, у нее же, у Марьи, телушка… На задней подводе не расслышали, что такое было у Марьи, и через весь обоз полетело: те-луш-ка…
И вот до чего, наконец, стихло, что с урёва за семь верст было явственно слышно, как ревел водяной бык.
А когда потом деревенская женщина с мальчиком вышла к озеру полоскать белье, и мальчик, подняв рубашонку, хотел помочиться в воду, то слова женщины у воды были так отчетливы, будто она сказала возле нас. Она сказала своему мальчику:
– Что ты, бессовестный, делаешь, в глаза матери…
Значит, она думала, что озеро – это глаза матери-земли?
Как всегда в таких случаях, я спросил Берендеевну, что она думает об этом.
– Конечно, земли, – сказала она, – а потом это же и на человека переводят: если у женщины заболят глаза, то в деревне скажут, что, наверно, это ее ребенок помочился в воду.
Так у берендеев распадается древний культ: поэтическое воззрение о глазах матери-земли переходит в культуру всего человечества, а у самих остается лишь суеверие.
Невозможно было этой ароматной ночью уснуть, всю ночь глаза матери-земли не закрывались.
Лучший вид на Плещееве озеро – с высоты Яриловой плеши Александровой горы, вблизи которой некогда стоял город Клещин. В то время и озеро называлось Клещино. Князь Юрий Долгорукий перенес Клещин в болото, в устье реки Трубежа, и этот город перенял славу у старого Клещина. Постройка города началась с церкви, которая до сих пор сохранилась и в истории искусства занимает почетное место как памятник XII века. С тех пор вокруг этого старого собора наросло столько церквей и монастырей, что с небольшими перерывами здесь можно, изучая памятники, век за веком представить себе почти всю русскую историю. Мне теперь, когда озеро открылось, часто приходится ездить с Ботика по озеру в Трубеж рыбацкой слободой, в центр города на базар за провизией. Дети гребут, я правлю и думаю о памятниках старины. Иногда это бывает очень приятно, но я не люблю того маленького насилия над собой, чтобы войти в чужую эпоху, и даже замечал, что иногда с ненавистью смотрю на эти неподвижные памятники, перемешанные с памятниками величайшего безвкусия, и тут, бывает, где-нибудь возле ветхого домишка сидит на лавочке и грызет семечки с матушкой осоловелый от скуки служитель культа. Но я перемогаю капризы настроения и каждый раз при поездке за провизией на базар расспрашиваю рыбаков о той церкви, другой и о попах. Так однажды я беседовал с рыбаками об одной запустелой церкви, потом о лодке усольского типа и купанского, что вот на моей легкой усольской лодке опасно выезжать на середину озера, а хотелось бы поплавать под парусом посередине. Тогда рыбаки вдруг все согласно сказали мне:
– Поезжайте на попе.
И тут оказалось, что та забитая церковь окончилась в своем действии очень недавно: сначала ушел дьякон и служил один поп Филя – и очень даже довольный, что дьякон ушел.
А когда и дьячок ушел и сторож, поп Филя пел за дьячка и за сторожа церковь мел, и сам звонил – и был еще довольнее. Так вел он свое дело весело до самого последнего прихожанина, и только уж когда все прихожане отказались, кончил служить и занялся озерной жизнью – возит из леса в город дрова, людей.
– На попе вам проехаться самое удобное, – сказали рыбаки, – и куда хотите повезет, хоть на Волгу, хоть в Астрахань: сила громадная, и человек очень веселый и хороший.
С тех пор ни одной поездки моей с провизией не проходит, чтобы кто-нибудь не рассказал мне о попе: то, как он раз служил с архиереем за три рубля и, когда проходил с крестным ходом по базару и заметил у торговки каких-то необыкновенно больших окуней, забыл про ход и занялся окунями и базаром до того, что упустил ход из виду и в полном облачении потом, вспомнив, бегом догонял. То рассказывали, как он работает на пожарах и какое множество людей вытащил из огня. Теперь же полюбил озеро и так пристал к этому, что вот недавно давали ему где-то в уезде очень богатый приход, и он отказался, а семья живет в бедности, матушка работает на фабрике.
Мало-помалу я так заинтересовался попом, что всех стал расспрашивать, и один умный юрист сказал, что раз на суде поп защищал рыбаков – и с такой силой и проникновением в рыбацкую душу, как никто бы не мог сделать, и вообще он замечательно интересный человек, но только не признает никаких норм.
– А что он – верующий? – спросил я.
– Скажите, что значит верующий? – ответил историк. – Он очень честный, прямолинейный, как оглобля, упрямый и верный, но у него совсем нет интеллекта. Что делать? Одному дается одно, другому другое, попу дана страшная сила, и ему за шестьдесят лет, а сила не убывает нисколько.
Странно, что я, столько наслышанный о попе, ни разу не вздумал прокатиться с ним по озеру и расспросить его о названиях ручьев, урочищ и связанных с ними легендах. Нужна была целая сложная сеть обстоятельств, чтобы познакомиться с ним и начать на его лодке большое путешествие.
Мы задумали с историком исследовать языческий обряд «крапивное заговенье» в одном довольно отдаленном селе: я мечтал этим языческим обрядом в момент наибольшего развития производительных сил природы закончить фенологические наблюдения этой весны. Идти туда мы хотели пешком большими болотами, и потому я заказал другому бедному попу, добывающему себе средства существования сапожным ремеслом, хорошие непромокаемые сапоги. Он согласился мне сделать сапоги, если только я сам с ним вместе пойду и выберу товар. Мы пошли в одну частную кожевенную лавку, и когда прощупывали разные кожи, в лавку вошла какая-то рыбачка, поклонилась батюшке и спросила торговца, правда ли, что с церкви святой Варвары сняли колокол и продали.
– Вона хватилась, – сказал торговец, – сняли и увезли в Москву.
– В Москве много колоколов, – сказала рыбачка, – куда же он там?
Торговец незаметно подмигнул батюшке и ответил рыбачке:
– В Сандуновские бани.
– Будет брехать, – сказала рыбачка.
– Ну, вот еще, брехать, – ответил торговец.
Тогда рыбачка поверила и спросила, зачем нужен колокол в бане.
– Есть такое постановление, – ответил торговец, – чтобы в Москве в бани непременно по звону ходили.
Я тогда не обратил внимания на шутку торговца, желающего по-своему угодить служителю культа, но когда поехал за готовыми сапогами и побывал на базаре, то слышу – на базаре говорят:
– Варварин-то колокол в баню не пошел. Дроги разломал и сел на дороге: «Зачем, – говорит, – вы меня в баню продали, не пойду». – и не пошел. Стали его осматривать, и оказалось, что висел он на одном ухе, на малом, а большое ухо треснуто и что как на колокольне он висел с испокон веков, так бы все и висел, а в бане на малое ухо повесить невозможно. Московские говорят: «Нам эдакого не надо, берите назад», – а в музее отвечают: «Вы бы в оба глядели, когда покупали, а мы деньги получили и знать ничего не хотим».
Услыхав такую историю, я иду в музей и тут узнаю, что колокол этот, как не имеющий никакой музейной ценности, действительно продан в одно село Московской губернии и правда, что по дороге он рухнул и большое ухо у него действительно оказалось треснутым, но спора никакого не было, и теперь, кажется, его уже везут дальше.
Мы посмеялись над этой чепухой, и я сказал, что недурно бы из этих колокольных средств рублей хотя бы десять взять для нашей экскурсии. Но оказалось, что взять можно другим путем и двадцать, и тогда уж и дальше проехать берегом Кубри: там где-то есть Жданая гора, а, по летописи, на Жданой горе была та самая битва суздальцев с новгородцами, которая вдруг обнаружила силы Суздальской земли, и с этого момента надо считать начало Великороссии. На Жданой горе, наверно, остались следы той битвы, и вот бы хорошо там покопать. Хорошо бы взять с собой для работы юных краеведов и фауниста Сергея Сергеича для исследования природы Кубри, потом есть у нас молодой художник, есть фотограф, есть ботаник, геолог…
Так все стало нарастать, нарастать, получилась экспедиция, одной подводы оказалось мало и двух мало, колокольные расходы выросли до пятидесяти – рублей, и, когда пятидесяти рублей показалось мало, у Михаила Ивановича вдруг блеснула гениальная мысль. Явилась она, впрочем, не совсем из-за сокращения расходов, а потому, что весь этот путь был древнейший водный путь отдаленнейших от наших времен народов, оставивших на берегах рек неолитические стоянки, городища, курганы.
– Мы едем все вместе на большой лодке! – сказал заведующий.
И вслед за этим:
– Едем на попе!
С этого момента мы стали готовиться к экспедиции, и у кого как, а у меня мысль об экспедиции каким-то образом связалась нераздельно с необыкновенным попом.
Назови мы свою поездку в глубину Переславльского уезда просто экскурсией, то едва ли удалось бы заманить с собою молодежь: экскурсия с тех пор, как вошла в курс, перестала иметь обаяние, но мы назвали поездку на попе экспедицией, и к нам примкнули не только младшие следопыты, а еще и несколько студентов, которых мы, в отличие от следопытов, назвали «робинзонами». Следопыты чертят карты, учатся под руководством старших, как измерять высоты барометром, как вычислять скорость течения, набивать чучела птиц, кольцевать. Робинзонов влечет чисто приключенческое чувство, и занимаются они больше хозяйственной частью. Петя отдался влиянию робинзонов и принялся лески сучить. Он задумал снабжать экспедицию рыбой и хочет испробовать незнакомое ему ужение на большой глубине. Сегодня с утра шел дождь, а когда разъяснело, на озере показались четыре лодочки, издали маленькие, как мухи, и стали против Надгорода на якоря. Петя тоже поехал удить и стал недалеко от них, пятой мухой. Скоро солнце скрылось, и в Зазерье вода стала серебряной, а у нас – как сталь. Подул ветер, все почернело. Явилась огромная туча, исчезли все полоски серебра, и везде был чугун с белым взваром. Лодочки в чугунных волнах то покажутся, то спрячутся. Полил дождь как из ведра, и все скрылось.
Я терпеливо стоял на Гремячей горе под деревом в ожидании света, и когда перестал дождь и снова прояснело, одна за одной показались и лодочки. Я успокоился, вернулся домой и сказал: «Целы!» И так за день раз пять принимался дождь, лодочки то исчезали, то показывались. Вечером явился Петя, насквозь мокрый, и мы ели уху из окуней.
Через каждые три дня мы собираемся и обсуждаем будущую нашу экспедицию. У каждого специалиста есть своя тема, у меня одного нет темы. Я пользуюсь для изображения края своей врожденной способностью объединять пережитое, впечатления от жизни, от прочитанного и представлять все в лице, которое в повестях называется героем. В конце концов этот герой берется из самого себя, из своих собственных мыслей и чувств. Но вместо того чтобы отдавать свои мысли и чувства вымышленному лицу, я отдаю их тому краю, который меня интересует, и так получается край, как живое существо. Я полагаю, что этот простой прием не изменит мне и теперь, и, описывая моменты встречи моей с краем, я получу картину, которую невозможно получить, складывая вместе работы ученых, исследующих край в области своей специальности. И потому я свое место в экспедиции занимаю по праву наравне с учеными-специалистами.
Пока мы обсуждаем свои темы, все юные краеведы – и робинзоны и следопыты – молчат, но как только сегодня начал обсуждаться вопрос о снаряжении, робинзоны вдруг взяли решительный верх над старшими. Прежде всего оказалось, что большая озерная лодка отца Филимона, если мы, пятнадцать человек, сядем в нее и нагрузим вещи, не пройдет на мелких местах, и потому вместо нее надо взять четыре легкие речные лодочки. Но тут выходило, что если могучий поп не поедет с нами, то грести придется самим, а тогда едва ли можно будет сделать что-нибудь для науки. После долгих дебатов решаем лодку отца Филимона взять, но посадить в нее не больше семи человек, остальных же распределить на двух легких речных лодках. И тут стал вопрос о веслах: рыбацкими веслами нам без привычки грести долго невозможно, – надо непременно сделать весла размашные. Михаил Иванович предложил для этого колокольные средства, но студенты отвергли этот расход и, с малолетства привыкшие к озерной жизни, решили: доехав до леса, свалить сосну и сделать весла самим. Разговора о палатках, инструментах было мало: барометр, анемометр, термометры, драга, энтомологические приборы, ружья, – все нашлось.
Но вот вопрос: можно ли в закрытое время ловить бреднем рыбу? Ответ студентов: «А кто же нам будет указывать среди безлюдных болот?» Другой вопрос: в закрытое для охоты время можно ли убить для еды линялого селезня или тетерева? Робинзоны ответили, что при нужде можно и деревенского барана убить, а не то что дикого селезня. Под конец решили не тратить средств на котел, а на всю братию взять просто две лошадиных бадьи.
Мы, старшие, переглянулись, и кто-то сказал:
– Весело будет.
Со всеми следопытами и одним робинзоном на своей лодке я выеду прямо с Ботика, и на Урёве мы все съедемся. Поля ходила в рыбацкую слободу за сапогами и рассказывала потом нам ужасную сцену: два делегата от робинзонов приходили к отцу Филимону, чтобы приделать к его лодке кулаки для размашных весел, но отец не только не дал им портить свою лодку, а даже после спора будто бы наотрез отказался ехать с экспедицией.
Мои следопыты заснули в большой тревоге, им представляется, что если не придется ехать на попе, то мало будет занятного. Так поп, еще не виданный нами, вошел в состав экспедиции каким-то сказочным существом.
Пыльца цветущих деревьев, луговых трав и древесного пуха покрыла тонким слоем всю поверхность воды, и от этого ранним утром озеро было как неумытое. Наша лодка оставляет неисчезающий след и – то же птицы, и когда рыба взметнется, даже от нее остается кружок.
Солнце нам посылает на озеро все лучи, и с Александровой горы на озеро смотрится Ярилова плешь: хорошее предзнаменование, ведь, с моей точки зрения, главная цель экспедиции – исследовать остатки еще живого культа древнего бога плодородия Ярилы.
В утренней белой вуали озеро лежит совершенно тихое, и далекая лодочка на нем движется, как муха по простыне. Не это ли едет отец Филимон? Нет: мала лодочка, и главное, что одна, – наших лодок должно быть непременно две.
Мы уже от Ботика проехали Куротень, весь Захап, когда на той стороне против Александровой горы ясно обозначилась на тихой воде большая поповская лодка, и впереди нее с красным флагом шла малая лодка робинзонов. Ехали они самым краем; поп впритычку, робинзоны на размашных, значит – поп на своем настоял и не позволил прибить к лодке своей кулаки. Шли они очень быстро, и пока мы гонялись в тростниках за гагарой, вдруг оказались и мы и они на равном расстоянии от Урёва. Заметив это, наши ребята принялись работать веслами, и очень скоро я наконец увидел знаменитого попа, работающего рулевым веслом своей длинной долбленой пироги. Он – высокий, сухой, в сером полукафтанье и соломенной шляпе. Борода неопределенного цвета, наверно седеющая. Словом, поп – как поп, а впереди красный флаг. На носу поповской лодки была навалена масса вещей, тут примостился фаунист Сергей Сергеич и уже размахивал, ловя насекомых, своим сачком. Михаил Иванович сидел посредине, как пчелиная матка. Впереди него работал усердно веслом, помогая попу, Борис Иванович, молодой художник, а на отдельной лавочке сидел какой-то ясный старичок с белой бородкой.
Мы съехались все на Урёве нос с носом и, выйдя на берег, узнали печальную новость, что геолог обманул нас, не приехал из Москвы и не привез заказанных ему пластинок для фотографии, ботаник тоже отказался, но зато всю ату беду покрыло радостное известие, что внезапно приехал всем известный археолог, академик Спицын, и будет раскапывать с нами курганы и стоянки первобытного человека: ясный старичок, значит, и был сам Спицын.
Я был особенно счастлив, потому что в жизни своей имел два серьезных пробела: не летал по воздуху и не рылся в земле с археологами, а тут вдруг так пришло, что прикоснусь к таинственным недрам земли через самого Спицына и, значит, удовлетворю свое желание сразу все целиком.
Как же назвать нам наши долбленые суда, которым выпала высокая честь совершить по Нерли и Кубре такое исключительно интересное плавание? Само собой определилось название для лодки, на которой поедут наши младшие краеведы, – «Следопыт», а для студенческой – «Робинзон», о третьей же лодке начался спор: одни хотели назвать ее «Попадья», другие «Матушка», третьи «Бадья».
– Бадья-то почему? – спросил поп Филя.
– А как же, – ответил один из робинзонов, – потому что поп попадью переделал на бадью.
Поп Филя стоял, опираясь на весло, высокий, сухой, и улыбался своими резкими, как сабельные удары, морщинами: ему было очень хорошо!
Михаил Иванович, однако, усмотрев в названии «Бадья» дурной намек на действительное положение матушки отца Филимона, предложил назвать его лодку «Фрегатом Палладой». В конце концов решили, что пусть судно будет называться своим естественным именем «Матушка», но мы должны все так дружно работать, сделать все так прекрасно, чтобы после путешествия «Матушка» сама собой сделалась «Фрегатом Палладой».
В это время фаунист уже косил своим белым сачком по прибрежным растениям и, осмотрев попавшее в сачок, весь просиял: укос был необычайный и особенно много было нужных ему радужниц. Тут же он высыпал содержимое сачка в фотоколлектор: жучки поползли на свет, проваливаясь в банку. Часть робинзонов отправилась на охоту, другие, по указанию фауниста, собирали в воде жуков и плавающие семена растений. Следопыты, заметив батометр, пустили на воду свои поплавки для измерения скорости течения, а также мерили ширину озерного устья реки Вексы.
Итак, у нас получалась действительно экспедиция, а не школьная экскурсия, потому что все делалось не для учебы, а взаправду. Каждый зарегистрированный факт: скорость течения, ширина реки, – все было совершенно ново и нужно. А название устья Урёв оказалось не единственным, – так в этом краю вообще называется устье озерных рек. Векса тоже не собственное имя: так называются реки, соединяющие на близком расстоянии два озера, в этом случае Плещеево и Семино.
Сразу же, выйдя из озера, Векса делает крутой поворот, потом еще и еще, так что двум едущим по соседним излучинам почти что можно бы друг другу руки подать. И так вся река, и никто не хочет прорыть канальца из излучины к излучине. Мы решили начать свое путешествие опытом такого серьезного дела и, выйдя на берег, принялись копать. Особенно старался работать батюшка, которому часто приходится тут возить дрова и путаться на быстрых изгибах. Он говорил, что давно бы и сам прокопал, но боится населения: очень подозрительны, суеверны и за доброе дело еще могут шею наколотить. В какие-нибудь двадцать минут, работая железными лопатами и веслами, мы прокопали канал, – вода хлынула. Свободно проплыла сразу без нашей помощи лодка следопытов, робинзоны протолкнули свою, но «Матушка» засела и остановила течение. Мы все поднажались, и, когда прошла эта большая лодка, могучим потоком хлынула вода и отделила землю излучины, как островок. Наш батюшка сказал:
– Если бы кто-нибудь это сделал, я сам бы дал тому пятачок.
И тут же новому острову мы дали название «Пятачок», а новое русло назвали «Каналом краеведения».
В этот торжественный момент открытия канала Сергей Сергеич прочитал свой сочиненный накануне краеведческий марш. Робинзоны переложили его на «Варшавянку» и, плывя под красным флагом, запели:
Вперед, краеведы, до славной победы!
Весело стало. Археолог сказал:
– Ну, и погодка!
Поп ответил:
– А у меня перед чем-то мозжит нога.
Внутри кольца, образуемого Большой Нерлью и Куб-рей, в этой до сих пор болотной лесной пустыне и теперь почти не было селений, как и тысячи лет тому назад, во время неолитического человека, когда он, боясь этих пустынь, пробирался речками, и там, где ловилась рыба и попадался зверь, останавливался на продолжительное время. По болотистым истокам озерных рек и нужно ехать до первой остановки, сухой полянки, где рыбаки разводят теплину, и почти безошибочно можно сказать, что там, на месте нынешних рыбацких костров, и в каменном веке рыбаки собирались на стоянку и оставили нам после себя культурный слой.
На Вексе мы причалили к первому сухому берегу, где можно было ступить твердой ногой, и в светлой воде увидели над песком темный слой, очень возможно, что и культурного происхождения. Польцо – называлась теперь эта расчищенная в лесу полянка, потому что сравнительно в недавнее время здесь кто-то пахал. Наслышанные уже о только что открытой и неразведанной стоянке первобытного человека, наши следопыты и робинзоны, еще не выходя на берег, вытащили из воды кто черепок, кто осколок кремня со следами обделки рукой человека, кто каменное орудие макролит. На самом же Польце нашу первую разведочную работу сделали кроты-археологи. Мы ходили врассыпную, приглядываясь к темным кротовым кучкам, и в каждой непременно находили кто черепок, кто кремневый скребок, наконечник стрелы, долото, топорик.
Увидев такое обилие материалов, вырытых только кротами, археолог сказал:
– Довольно, надо закладывать шурф, такой стоянки я еще не видел в России.
А много ли вообще-то в России открыто стоянок! Какая-нибудь сотня на всю огромную страну.
Шурф делает один человек сначала обыкновенной железной лопатой. Лева копает с упоением и, кажется, приготовился прокопать землю насквозь, но скоро показывается материк и вода.
Археолог велит:
– Теперь срезайте шансовкой, совершенно так же, как если бы вы острым ножом резали сыр.
При такой работе ясно обнажается сверху темный слой, потом следует желтый, песчаный, и опять темный, и за ним снова песчаный. Этот средний слой, темный, называется погребённая почва.
Лева догадывается:
– Погребённая почва – это от более старого каменного века?
– Надо думать, – отвечает археолог.
Он удаляется к реке, находит тут заросшее тростником впадение другой реки, потом ходит по лесу, там все осматривает, думает и, возвратившись к нам, говорит:
– Это место, быть может, в то время было берегом Плещеева озера.
Робинзоны и следопыты впились глазами в своего большого следопыта.
Лева спешит:
– А когда это было, сколько тысяч лет тому назад?
– Не люблю эти тысячи, – ответил старый следопыт, – было очень давно.
– Какая тогда была наша земля?
– До этого были озера, рек же не было. Потом случилось по каким-то причинам увлажнение, озера не выдержали напора воды и прорвались, побежали реки; так началась Волга: это доказано. Вероятно, и это озеро в то время стало переливаться в другое. На берега рек и озер потом стали сходиться первобытные люди ловить рыбу, – это был каменный век постарше, потом берег озера стал берегом реки, и опять место было удобное для рыбаков, и если в новом верхнем слое черепки нам попадутся поновее, мы скажем, что и этот каменный век был поновее. Я, дети, не по тысячам считаю, а что постарей и поновей, и сами находки теперь уже мне дают мало интересного, главное – в каких слоях они распределяются. Ну же, Лева, начинайте срезать на четыре штыка; из первого слоя кладите находки на эту сторону, из второго – сюда и так на четыре стороны, только подложите заранее для находок бумажки.
Сразу же стукнула шансовка, и осторожно, с благоговением, как драгоценную золотую находку скифских курганов, Лева подает профессору небольшой черепок из необожженной глины, совершенно рябой от больших, в горошину, углублений, сделанных на нем рукою первобытного человека.
И я не знаю, что предпочел бы я увидеть: этот черепок или же золото скифов эллинской работы.
Осмотрев, любовно отрогав и даже как будто огладив, ученый с радостью говорит:
– Это старенький.
– А это?
– Это поновей. Видите, сетка – значит, новенький, но и это хорошо, новеньких у нас даже меньше.
Но скоро дети замечают, что хотя новое, может быть, и ценнее для науки, а старому следопыту старые как-то вкуснее, и потому стараются, как бы разыскать больше старого. И не в часы, а даже в какие-то минуты они уже осваиваются с археологическим языком: черепки называют керамикой и разбирают по культурам. Фатьяновская культура, Дьякова типа…
– Значит, – спрашивают, – если название культур происходит от места находок, то возможна и Переславльская культура?
– Конечно, очень возможна, во всяком случае место это прославится.
Верхнем Поволжье и междуречье Волги и Оки. Скотоводы и земледельцы в грунтовые могилы клали каменные и медные орудия, керамику и украшения. Названа по дер. Фатьяново, близ Ярославля.
В те же самые рогульки, в которые рыбаки клали жердь для подвешивания чайника, мы тоже положили свою жердь и подвесили свой чайник и потом пили, разглядывая на земле у костра то рыбью кость, оставленную современным рыбаком, то покрытый точечными углублениями черепок неолитического человека.
А ученый все разбирает и разбирает собранные черепки по культурам, примеривает к работе разные кремни и макролиты, и до того у него все выходит ловко, будто сам был тогда в каменном веке и работал кремневыми орудиями.
– Вот как будто следы ногтя первобытного человека? – спрашивает один следопыт.
– Очень может быть, ведь все руками работали и больше, должно быть, женщины.
– Как же вы это знаете, что именно женщины?
– Догадываемся по этим украшениям: где украшения, там и женщина, а еще некоторые узнают по отпечаткам эпителия пальцев…
– В таком случае на этом черепке, несомненно, следы ногтя.
– Почему же несомненно? Просто скажите: очень может быть.
– Но кто же они были, какой народ?
– Неизвестно, до сих пор мы не знаем не только лица человека, но даже имени народа, делавшего эти стоянки. Но я догадываюсь, что это были арийцы.
И тогда у костра ученый намеками стал говорить о своих догадках, и это была, конечно, мечта всей его жизни, – догадаться хоть немножечко о лице этого таинственного народа.
Все слушают, и только один поп Филя бродит по стоянке, потому что ему непременно нужно самому действовать и, может быть, самому открывать. Вон он, весь просияв, является с необычайной находкой.
– Пожалуйте, – говорит отец Филимон, подавая какой-то небольшой круглый предмет, – носик от чайника, чай пили.
А в то время не только не пили чай, а едва только догадывались подхватывать огонь от зажженного молнией дерева. И эти глиняные сосуды служили не для варки на огне, а только для хранения воды, пищи.
С уважением выслушал это отец Филимон, но все его непокорное существо спрашивало: «А кто же это видел?»
Ему, я так понимаю, как чисто инстинктивному обывателю, непременно нужно видеть самое лицо человека, чтобы о нем говорить, и если видеть нельзя, то он не хочет думать по черепкам, складывая все вместе плюс на плюс, как делают ученые. Он сразу догадывается о первобытном человеке, из себя самого…
Все смеялись над чайником, но мне казалось, что в принципе отец Филимон, быть может, отчасти и прав. Ведь и сам-то ученый, показывая детям способы пользования каменными орудиями, берет пример от современных ремесленников, плотников, каменщиков, кузнецов. Но если быть посмелее, уловить творческий огонь в лице современного человека и перенести это в лицо того, тоже гениального, существа, которому блеснула мысль о пользовании огнем, и так это сделать, чтобы это гениальное волосатое лицо предстало бы еще в большем контрасте с нынешней потухнувшей в творчестве обезьяной…
Увлекательны эти раскопки, хочется думать все дальше и дальше, но дальше я замечаю, – туман поднимается на реке, и предлагаю поскорее ехать, чтобы сегодня же на озере Семине разведать другую стоянку, где, может быть, нам откроется и медный век.
Почти против Польца на другом берегу Вексы растет большой хороший бор, и с береговых круч, иногда подымая верхний слой почвы, клонятся к воде огромные сосны и вот-вот упадут и раздавят плывущую лодочку. Речка и в боровых берегах бежит, перегибаясь почти параллельными излучинами. Так в прежнее время, бывало, едет торговый человек из Новгорода на своей лодке, кружится, минует опасные кручи, снова начинаются жидкие берега, так что выйти нельзя и деваться некуда – вот остров и на острове куст, а из куста выходит Тать… Этот страх перед кустом закрепился в названии всей этой местности – Татьин куст. Мы благополучно миновали опасные нависшие сосны. Никто не вышел из куста. Показалось Усолье, значительное село, известное в истории Великороссии своими соляными варницами. У берега реки остались в виде холмика Козья горка и теперь очевидные следы знаменитых варниц, снабжавших солью Великороссию.
В Усолье была первая мельничная плотина, возле которой пришлось разгружать лодки и перетаскивать их волоком. Во время этого хлопотливого и скучного занятия местные крестьяне, удивленные нашими ружьями, сачками, попом и красным флагом, собрались и спрашивали нас, кто мы такие и что затеваем. Выслушав нас, один туземец спросил:
– А какая в том польза?
Между тем в другой группе крестьян Сергей Сергеич спрашивал о вредителях полей, лесов, эпизоотиях, и его живая, талантливая беседа заразила интересом всех до одного человека, так что когда подошел кто-то новый и спросил об экспедиции, какая в ней польза, то сами же крестьяне насмешливо ответили:
– То полезно, что в карман полезло.
Повиляв по излучинам речки больше часу и все не утратив из виду Усолья, мы наконец въехали в умирающее озеро Семино, длиной версты в полторы, водой мелкое, всего на лопату весла, и страшно глубокое тиной: веслом местами и не дощупаешься. Если же случится несчастие – лодка затонет, то плыть тут нельзя, затянет, – опасное место, утиный рай.
Совершенно так же, как на Вексе, на первом сухом местечке, где отдыхают рыбаки, оказалась неолитическая стоянка, и здесь, в правом углу этого озера-болота, где сухое место возвышалось, как стол с пирогом, было Торговище. Сюда, конечно, плавал из Великого Новгорода и Садко, богатый гость, из бедного хлебом севера в житницу Суздальской земли, в это ополье, и варил тут уху, как и мы, не обращая никакого внимания на вырытые кротами черенки каменного века; в то время и мысль не приходила в голову о древней керамике.
На стоянке наши робинзоны поставили две палатки, батюшка наладил костер, повесил котел для кулеша, и мы сели тут на бревнышко под дым – от комаров. Пока еще не совсем стемнело, фаунист все переносил и переносил умерших в банке жучков на вату. Вдруг он сказал:
– Летучая мышь. У нас нет в музее, убейте!
И началась в полутьме трудная стрельба по летучим мышам.
На озере вспыхнул огонь, загорелось смолье, причалила лодка, и два рыбака с острогами подошли к нашему костру. Всякого рода лов рыбы и также лучение запрещены в этом месяце, но в глухом месте, конечно, не считаются с законом, и только что вот мы под красным флагом, – побаиваются начальства и пришли для разведки.
Мы узнали от них, что в этом зарастающем озере жесткая рыба – щука и окунь – не главная, а самая первая рыба мягкая – линь и карась. Кроме обычных способов ловли, здесь есть еще совершенно особые, возможные только в тинистых зарастающих озерах Один из этих способов называется на вар и состоит в том, что в тину запускают весло, испуганная рыба выплывает из тины, и ход ее на поверхности воды отмечается пузырьками, как бы кипящей водой (варом), а там, где пузырьки прекращаются, – поддевают сачком или бьют острогой. Второй способ – на пыльцу, – то же самое, но вместо пузырьков догадываются о рыбе по пыли или мути, и, наконец, третий способ – на шар, значит просто шарят.
Один из рыбаков, Павел по имени, рассказывает об этом кратко, дельно, выразительно. Так, у другого бы очень длинная фраза, у него же построена так:
– Я ткнул веслом, щучонок дал вар.
Я воспользовался этим ясным рассказом, чтобы поучить молодых краеведов, как нужно пользоваться такими рассказами, чтобы выработать себе краеведческий язык.
Молодые рыбаки были несколько похожи друг на друга, как братья, но у Павла глаза были большие, серые, с какой-то мучительной думой, у Николая – узенькие щелки. Павел почти не улыбался, Николай подхихикивал. Павел все пробовал рукой поймать живьем летучую мышь. Николай вздрагивал каждый раз при ее приближении.
Павел, оказалось, уже читал книгу Михаила Ивановича о Переславльском уезде и еще много другого. Он рассказал нам, что недалеко отсюда, в Бармазове на Стуловой горе, есть целый ряд памятников, похожих на каменные курганы, а около деревни Хмельники – какое-то древнее кладбище и тут же два кургана, один из них раскопал Николай, и оказалось, это действительно курган. Николай не думал о скелете, он искал тайные деньги, и когда увидел в кургане круглое, бросился туда, схватил кубышку, повернул и обмер: клад обернулся мертвой головой. Николай бросил череп и бежать. Павел, узнав это, закопал скелет, кто-то поставил крестик. С этого времени прошел уже год, а Николай все еще боится ходить этим местом.
Не обращая никакого внимания на сидящего рядом Николая, Павел отчетливо сказал в заключение:
– Мы живем в лесу, народ наш суеверный и глупый, как первобытный человек.
При этих словах мне вдруг вспомнились мои догадки на Польце о первобытном человеке, и я спросил:
– Почему вы думаете, Павел, что первобытный человек был непременно суеверен и глуп; те люди были, наверно, тоже, как и мы, очень разные, вы сами происходите почти из первобытной деревни, а не имеете же предрассудков, и суеверие Николая вам кажется глупостью?
– Я как-то вышел отдельным человеком, – ответил Павел, – я стал много читать в школе и потом стал думать, как бы мне так устроиться, чтобы и после хватало времени всегда бы читать. Земля, вот что, главное, держит у нас человека во тьме, и наша земля ничего не дает, кроме хлопот, а живем мы больше от ремесла: мы все – плотники, бондари и дегтярники. Но если земля невыгодна, значит, ее надо бросить, крепче заняться ремеслом, и тогда будет оставаться время для чтения. Подумав так, я решил бросить землю. Все на меня. Но я никого не послушал, и теперь я не беднее их и могу, когда захочу, и читать. Так вот я как-то и живу: все у меня по-своему.
Рассказывая так, Павел сам не догадывался, что это ему все хорошо и что в этом – думать и жить по-своему – есть особая доблесть; он рассказывал о себе, как есть, наверно, не зная, добро это или зло.
Сведения о погребальных памятниках от такого разумного человека нельзя было оставить без внимания, и мы тут же сговорились идти своей археологической группой завтра на исследование. Павел предложил себя как рабочего на раскопки, а за ним и Николай. Мы его предупредили, что не деньги будем искать, а скелеты, но он стоял на своем: и он будет копать вместе с Павлом. Потом, уже в совершенной тьме, мы разместились в двух палатках: в малой старшие краеведы с частью следопытов, в большой все робинзоны с попом. Только у одного Сергея Сергеича был войлочный конверт, в который он залез с головой, мы же улеглись на тонком брезенте, прикрываясь куртками и еще кой-чем; все как-то еще не обзавелись. Жутковато было спать на сырой земле, и ужасной казалась возможность ветра и дождя.
Сергей Сергеич сказал из мешка:
– Сегодня барометр упал на шесть делений.
А поп сказал о ноге:
– Сильно мозжит.
Едва ли мне удалось соснуть часа два, да и в этом полусне мои полумысли и получувства занимал неотступно человек из каменного века. Но явился он мне совсем не таким, как учили нас в школе, не обезьяноподобным существом, а составился из отношения этих двух рыбаков – Павла и Николая. Мне представилось, что в процессе творчества Николай был существом отработанные и брошенным доживать бытие, неизменным, как он есть, а Павел идет вперед, что Павел в своем малом кругу тоже как бы добывает огонь, подобно своему гениальному предку, словом, что один – человек, а другой – обезьяна, не черепа и черепки совершенно одинаковы, и если пройдет время, то и не узнаешь, кто из них двигал жизнь и кто в только жевал пищу. И только затем, казалось мне. нужно собирать черепа и черепки, чтобы приблизить мысль свою к существу первобытного человека. Но чтобы вполне понять его, нужно, изучая остатки первобытной культуры в то же самое время зорко всматриваться в современного человека, своим творчеством устремленного в будущее и очень возможно тогда, что из всех членов нашей экспедиции этот профессор окажется ближе всех к существу первобытного человека.
Череп является как бы комнатой нашего мозга, и мы! привыкая умственно работать в комнате, создаем еще больший череп для всей головы, а когда ночуешь в лесу, то вдруг оказывается, что мысль работает как-то бесконечно широко, но безответственно, как ветер, дождь… Вот является сырой холодный гость, начинает шуметь, – и в мыслях сразу все переменяется.
Я выглянул в щелку палатки. Все небо было затянуто, шел мелкий холодный дождь, и только по свежей зелени деревьев можно было догадаться, что теперь весна, а не осень. Я уже хотел было закрыть глаза и погрузиться в свои полумысли о неолитическом человеке, как вдруг открылся брезент другой палатки и показалась голова с длинными спутанными волосами, с бородой неопределенного цвета, сбитой войлоком, а в складках старого изветренного лица были живые лесные глаза. По моим соображениям, этот вернувшийся в природу поп не должен был начать день свой молитвой, иначе незачем бы было ему уходить. И это оказалось верным: не обращая никакого внимания на дождик, он вылезает на четвереньках из палатки в жилетке и сапогах, потом вытаскивает свое серое поповское полукафтанье, надевает, становится настоящим попом, склоняется к большой головешке вчерашнего костра и начинает долго ее раздувать. Он действует очень ловко, упрямо, изобретательно, прикрывает огонек от дождя сначала ладонью, потом сковородкой, прилаживает как-то сковородку над огнем, чистит картошку, жарит и, пока жарится картошка, чистит плотву, вероятно, добытую вчера у рыбаков. Съедает одну сковородку, съедает другую, потом свертывает себе большую цигарку махорки, закуривает и ложится животом на землю, не обращая никакого внимания, что земля совершенно сырая, что сверху сеет дождь. Глядя на озеро, он курит и наслаждается, курит и счастлив: сыт и совершенно свободен, распределяясь бессмысленно чувствами своими во всей вселенной.
Высунув голову из палатки, я тихонько, чтобы не нарушить его великолепного покоя, позвал:
– Ба-тюш-ка!
Он даже и головы не повернул.
– Ну, што?
– Батюшка, – говорю, – я видел, вы так трудились устроить сковородку на костре, почему вы не сварили уху в котелке, так много проще.
Он ответил охотно:
– В ухе плотва – рыба очень тоскливая.
– Костлявая?
– Тоскливая. Плотву можно только жарить, а если уху поешь, то все как-то думается, не случилось ли дома что, или в будущем… Тоскливая рыба.
– Но, может быть, это не от рыбы тоска?
– А от чего же?
– Мало ли от чего, духовная неудовлетворенность, неудачи…
– А какие же теперь у меня могут быть неудачи: вожу дрова, рыбаков, рублю, пилю, никакой неудачи я теперь не имею: мне хорошо. А спросите рыбаков: и каждый вам скажет то же: из плотвы нельзя варить уху, плотва – рыба тоскливая.
В это время наши старшие краеведы тяжело пробуждались, узнавая по шуму и сырости дождь, но, услыхав разговор о тоскливой рыбе, расхохотались, и беседа наша с отцом Филимоном окончилась.
Стулова гора, куда привели нас Павел и Николай, тонула в Бармазовских лесах, тут невдалеке была деланная дорога из бревен, в сущности мост по жидкому болоту в три версты длиной, начало пути в Половецкую волость. Поправее от деланной дороги копалась в земле, то исчезая, то показываясь, маленькая речка Черторой, направо, в синеющих лесах, текла река Лада, и та вся местность, самая глухая, лесная, называлась Заладъево. Бармазово было одним из населеннейших цветущих уголков этого края, но во времена Грозного от голода и разорения население частью повымерло, частью разбежалось, и с тех пор тут лес. Одну деревянную церковь, рассказывают старики, лес вовсе затер, а колокола утонули, и кто праведный – слышит иногда звон потонувшего колокола.
Каменные курганы на Стуловой горе имели продолговатую форму и по виду, без всякого сомнения, были погребальные памятники, но когда археолог проверил направление по компасу, то оказалось, что могилы расположены не с востока на запад, а с севера на юг. И все-таки дело рук человеческих было так очевидно, что мы решили копать.
На этом памятнике мы учимся правильным раскопкам, и потому сразу же распределяются роли: Михаил Иванович – исследователь, он обмеряет курган рулеткой, делает план, наблюдает за появлением линии, разделяющей насыпь от грунта, которая называется у археологов лентой, потом находит обрез могилы и вообще ведает всей научной стороной дела. Академик берет на себя скромную роль производителя технических работ, становится на курган и велит рабочим вести траншею поперек направления могилы.
Один за одним снимают большие камни и все думают, что вот после такого-то трудного камня начнется самая насыпь; и правда, бывает, показывается песок, но сейчас же лопата снова звенит о камень, и опять все рабочие трудятся над его выкапыванием. А сверху непрерывно сеет дождь, все мокрые, грязные.
– Таких трудных курганов у меня еще не было, – говорит производитель работ.
– А что курган, это уж несомненно? – спрашивает Лева.
– Несомненно, это дело рук человеческих.
И снова рабочие выкатывают камень за камнем. Николай вспомнил, что у него в сенном сарае дырка. Надо скорей идти заделать, а то дождь погубит все его сено. Павел еще держится. Лева верит профессору, что костяк непременно найдется.
– А что, если это ледниковый нанос?
– Едва ли, но надо подумать.
Ученый уходит от нас к другим таким же памятникам и там один соображает, измеряет, рассчитывает. Мы выкатили последний камень, пересекли насыпь, далеко врезались в материк, ленты нет, ничего нет, еловая шишечка попалась величиной в мизинец – и то уж как ее рассматривали! Михаил Иванович стоит весь мокрый, грустный. Я пожалел его и спросил, что он думает делать сегодня с Соней. Сразу он оживился и ответил:
– Сонюшка поехала сдавать экзамен в Вхутемас.
Лева сердито говорит, что раз Александр Андреевич сказал, что это курган, то костяк непременно найдется.
– Нет, Лева, – отвечает ему, появляясь из-за деревьев, археолог, – это не погребальный памятник.
– Значит, мы напрасно копали?
– Нет, не напрасно, мы установили, что это не курган.
– А что же это такое?
– Трудно сказать, что такое, для этого нужно особое исследование, и это надо сделать потом: это – дело рук человеческих.
Так движется наука, где отрицательные результаты тоже необходимы и ценны. Но нам было так, будто мы ехали на Северный полюс, рассчитывая там встретить диво, а там совершенно ничего не было, кроме умственного: показаний секстанта, барометра, термометра…
Тайна Бармазовских лесов осталась нераскрытой, и, пожевав черного хлеба с земляникой, мы стали спускаться в Хмельники, где недалеко от реки Чертороя были курганы и древнее кладбище. По пути, около Желтухинского болота, в глухом черном лесу Павел показал нам землянки, где жили дезертиры; заметно было по древесным остаткам, что они тут проводили время, занимаясь какими-то работами по дереву; после дезертиров землянками пользовались самогонщики, – на берегу ручья остались копии для их котлов.
Картина древнего кладбища нас оживила: это был типичный новгородский жальник, и нахождение его здесь, далеко от Новгорода, но вблизи Торговища, на пути новгородцев за хлебом в Ополье много говорило историку местного края. Вблизи этого жальника зиял своим провалом раскопанный суеверным Николаем курган, рядом высился другой, нераскопанный, через верхушки деревьев внизу виднелась вода Семина-озера.
Теперь все оказалось в полном порядке, курган был типичный и возле него ямка, след выбранной для насыпи земли. Определено направление погребения по компасу с востока на запад, взята траншея поперек – с юга: с юга всегда легче заметить ленту. Но только принялись копать, опять показывается огромный камень, потом другой, третий, и дождь, все дождь без конца…
Следопыты раскапывали жальник, курган – Лева и Павел. И уже начинало смеркаться, а ленты все не было. Нет и нет, – новый огромный камень отрывает руки от работы. Павел уходит к себе в деревню по неотложному делу. Лева копает один; знаю его, – теперь он себя загипнотизировал, и хотя уж давно работает сверх сил, но лопату не бросит: костяк непременно найдется. Вдруг огромный камень обрывается сбоку траншеи, контузит ему правую руку, и последний рабочий выходит из строя. Опять ученый, как и при раскопке первого памятника, удаляется, обходит местность и там думает. Мы, голодные, грязные, совершенно усталые, перестали верить даже, что это – курган. Михаил Иванович, бледный, сидит на пне у сосны.
– О чем вы думаете, Михаил Иванович?
– Я думаю, – отвечает он, – выдержит ли Сонюшка экзамен в Вхутемас?
И мы вместе с ним потихоньку думаем, как бы нам оттянуть неутомимого профессора от кургана, поскорей бы попасть в избу к Павлу, поесть бы, чаю попить и потом бы на сеновал. Есть ли у него сеновал?
В это время приходит археолог и говорит:
– Прыщ!
Значит, курган издали выглядит, как прыщ на земле, и если уж так, то непременно это должен быть курган, погребальный памятник.
Заметно смеркается. Ссылаясь на мрак, мы просим на сегодня кончить работу.
– Хорошо, – говорит ученый, – мы скоро пойдем, только, Лева, дайте мне лопату, я сам попробую.
И погружается в траншею. Седая голова то покажется, то спрячется: копает. Слышится какой-то особенный звук лопаты, голова надолго исчезает в траншее.
– Лева, идите сюда, возьмите лопату и слегка стукните здесь. Слышите? Такой звук может быть только о кость.
– Кость!
Мы вскочили. Как на охоте, вдруг откуда-то при удаче является новый неведомый источник сил, но это было больше охоты: это был момент торжества того последнего усилия ученого сверх охоты в жертву истине, которое отличает натуру ученого от других людей и что именно первобытного ученого, добывшего огонь, выделило из мира обезьян. В этот момент в лице этого современного ученого я увидел настоящее лицо нашего отца, гениального первобытного человека с волосатым телом, железной волей, огнем в глазах, и наверно, где-то глубоко скрытым нежным, любящим сердцем…
Кость ноги, лежавшая поперек траншеи, была большая, черная. Мы затрусили ее землей, и все, счастливые, веселые, бодрые, пошли ужинать в дом Павла. В научной работе для счастья, оказывается, совершенно не нужно великолепия, иногда бывает совершенно достаточно косточки.
Слух о находке быстро обежал деревню, и когда мы пили чай за столом у Павла, на лавках сидели разные деревенские люди. Они слушали, мы говорили.
В этот вечер мы говорили за чаем, как разговаривают между собой образованные люди, совершенно не замечая, какая масса знаний и опыта предшествующих поколений проходит в их простом разговоре. Между тем тут в избе слушали все это дети земли…
Мы разговаривали о севере и юге, бросались тысячелетиями, как днями, иногда и на самую землю смотрели как на игрушку, иногда, напротив, безделица, отрытая в кургане, надолго занимала нас. Наш археолог рассказал нам, что однажды во время раскопок где-то на юге студент с верным глазом разглядел запрятавшуюся в костях крошечную истертую монетку, единственную находку, кроме костей, что эта, с виду ничтожная, монетка перебывала у многих ученых для определения, с риском погубить совершенно монетку и, значит, утерять единственное и драгоценное свидетельство времени; она была, наконец, опущена в едкий натр, и тогда ясно обнаружился десятый век.
– Десятый, – сказал кто-то с лавки, – а у меня есть монета много старше: семьсот двадцать первый год.
– Какая же она? – удивленно спросил археолог.
– Большая, медная, в пятачок.
Смеясь, сказал археолог:
– Если бы такая нашлась монета, то за нее можно бы дать миллион.
После того мы поднялись и пошли ночевать в сенной сарай. Все скоро улеглись; я, курящий, сидел на бревне перед сараем и говорил с Павлом. Мне хотелось узнать у него, что останется у крестьян от нашего большого интересного разговора в избе.
– Вот облачко тает, – сказал Павел, – и у них так же расходится мысль и так все им было, как сказка. Но вон, посмотрите, сосед мажет дегтем телегу, вы его узнаете?
– Это – который сказал о монете.
– У него есть монета, я ее знаю: тысяча семьсот двадцать первый год. И он знает, что тысяча, а не семьсот, но теперь услыхал от профессора, что за семьсот можно получить миллион, сбился и думает: «А может быть, и семьсот, может быть, и получу за нее миллион?» В деревне ему нельзя показать профессору, – вдруг все узнают, что он богач: это надо сделать тайно. Вот он и мажет телегу: за этим и поедет завтра в город. И это я уж знаю верно-преверно – день небазарный, ему больше незачем ехать в город, да и мужик такой…
Когда я вошел в сарай, Лева уже спал и, переутомленный, бормотал во сне – и все одно и то же слово: «норманн», «норманн».
Он мешал спать археологу, я разбудил его и попросил перелечь поближе ко мне.
Археолог спросил:
– Лева, почему вы во сне все повторяли: «норманн», «норманн»?
– Ах, Александр Андреевич, у меня есть догадка, да я не решаюсь вас об этом спросить. Вы сказали, что нога нашего открытого человека очень большая и что это, наверно, мужчина. Вот я хочу вас спросить, что и для мужчины – эта нога большая?
– Да, я думаю, что и для мужчины.
– Так не норманн ли это? Вот о чем я догадываюсь. Как вы думаете, не норманн?
– Нет, Лева, если бы это был норманн, то мы нашли бы только урну с пеплом: у норманнов было сожжение трупов.
После того Лева заснул и больше не бормотал.
Мысль о первобытном человеке больше мне не мешала спать: черты лица его мне теперь были знакомы. И все мы спали отлично и проснулись с радостным ожиданием продолжения раскопки кургана и потом – дальнейшего путешествия.
К нашему счастью, взошло наконец прекрасное солнце, и при этом свете мы сразу заметили исчезнувшую вчера ленту, след сопревшего под насыпью кургана дерна. Отчетливо показался обрез могилы. С востока на запад по компасу через место находки кости мы провели прямую линию и по ней сверху уверенно стали вести приемную траншею, через которую потом вынем костяк. Опять копают Лева и Павел, а мы все сверху, лежа на кургане, напряженно смотрим, и каждый раз, когда кто-нибудь локтем обсыплет землю внутрь траншеи, Лева, окончательно завладевший раскопкой, бранится. Николай тоже смотрит рядом с нами в могилу, он часто обсыпает землю, что-то его изнутри подъярыживает, хотя виду он не показывает…
Вот уже и близко скелет, дальше копать лопатой опасно. Павел выходит, ложится рядом с нами, профессор спускается вниз, учит Леву, как надо выбирать землю руками, передает ему все это дело и присоединяется к нам. Он сказал подпослед:
– Первое покажется череп.
И Николай вслед за этим обсыпал в траншею много земли.
Каждый комочек Лева разминает руками, каждый малейший камешек показывает профессору, при каждом упоре пальца в землю говорит:
– Вот, кажется, и голова.
И в этот момент Николай непременно сыплет локтем землю в траншею.
– Ты, Николай, должно быть, боишься, – говорит ему Лева, – лучше уж уйди.
И вдруг окончательно и уж наверно, правильно вскрикнул.
– Голова, голова!
Профессор спустился, потрогал место и сказал:
– Да, это голова.
Николай побледнел и впился глазами в то место.
Павел тихо сказал:
– Вот но таким-то раскопкам, должно быть, узнают потом происхождение человека.
Никто ему на это ничего не сказал: все с напряжением ожидали увидеть, какой покажется голова человека, пролежавшая в земле, быть может, лет восемьсот. И она показалась гораздо значительнее, чем я представлял, главное, цвет ее был не обыкновенный костяной, а как бы красноватый, почти как красная медь или обожженная глина, так что, не видя лицевой части, можно всякому принять за кубышку с кладом. Но Лева осторожно очистил ее от земли, и вот показался лоб мертвеца и зубы, главное, что зубы-то были совершенно белые…
Когда при нашем общем молчании и напряженном внимании показались зубы, вдруг Николай загоготал, поднимая слог «гэ» все выше и выше, как сирена, или, скорей, жеребец: гэ-тэ-гэ-гэ-з-э… На очень высоком «э» жеребячий звук вдруг оборвался, и все получилось так:
– Гэ-гэ-гэ-э-э… твою мать.
Это был звук человека, оставленного творческим духом, как оставлена им пребывающая вечно сама в себе обезьяна, и звук был всем нам и знаком, и страшен, и противен, и в конце концов смешон; изумленные, мы подняли головы и расхохотались.
Один только Павел не стал смеяться, ему это было слишком близко, чтобы смеяться. Своими большими серыми, с мучительной думой, глазами он строго посмотрел на ржущего человека и приказал, как обезьяне:
– Замолчи, дурак, по таким раскопкам узнается происхождение человека!
Было много странностей в способе погребения этого большого человека с необычайно крепкими свежими зубами, и расположение костей, особенно в шейных позвонках, было неправильное. Но профессор нам ничего об этом не сказал и только, уже когда мы с ним были опять на озере, высказал свои предположения: «Скорее всего это был повешенный».
Весна человека
Две реки, впадающие одна в Оку, другая в Волгу, протекают одна в плодородном Ополье – среди поля, другая в болотистом Залесье – у древлян и почему-то носят одно и то же название Нерль. Большая Нерль, по которой мы из Семина-озера продолжаем свой путь, и другая, Малая Нерль. Между реками был где-то переволок, та и другая река были одним и тем же путем из Залесья в Ополье, и вот почему, может быть, эти совершенно разные реки называются одним именем.
Мы плывем по Большой Нерли среди однообразных болот и по таким излучинам, что церковь села Копнино полдня к нам приближается и полдня удаляется. Где-то на берегу молодой пастух учился играть на трубе, и эти звуки вам тоже были слышны, нарастая и ослабевая, тоже почти весь день.
И анероид Сергея Сергеича, и нога отца Филимона согласно предсказывают ненастье, дождь поливает нас целый день. Но я не знаю, бывает ли такое время хоть один день без красы. Под вечер показалось, в разлуке ставшее особенно прекрасным, солнце, из воды высунулись огромные камни, на высоком берегу стал бор, и отец Филимон попросился у своего сурового начальника хотя бы на пять минут выйти на берег. Мы все догадываемся, зачем просится поп Филя на высокий берег: наши промеры реки, испытание скорости течения, вычисление высот по анероиду, изучение промыслов, цифры населенности, отбираемые нами у председателей сельсоветов, количества земли и лугов, зарисовка покрытий лесных строений, наличников, резьбы, коньков и петушков, – вся эта необходимая краеведческая работа только после когда-то даст черты этой реки, но отцу Филе кажется, что если он залезет наверх и выглянет, то сразу же и откроет новую страну.
Место, где вылез отец, было действительно прекрасное: высокие берега с высоким бором, так что глянешь наверх – и шапка валится с головы, река покрыта белыми лилиями и кувшинками, через зеленые ворота виднеется такая большая заводь, что не знаешь, куда же ехать: заводь значительно шире реки и тянет ехать туда, но вот там, на реке, стоят два зеленых сторожа, две тоненькие тростинки, вечно дрожат и кланяются от шевелящего их внизу течения, значит, это – река и ехать надо туда.
Трудности путешествия всегда искупаются минутами такого душевного равновесия, когда какое-нибудь ничтожное явление вдруг открывает все великолепие мира. В ожидании возвращения батюшки мы все стали дивиться красоте балета бесчисленных ручейников над водой в косых лучах вечернего солнца. Жизнь этих белых существ, имеющих вид бабочек, была всего один только день: но как же они великолепно проводили этот единственный определенный им день! И этот день я узнал в себе, как родной: был тоже один такой единственный день и у меня.
Вдруг сверху, с дороги, из бора к нам долетела песенка, такая же коротенькая, как жизнь поденки, другая, третья в несколько девичьих голосов. Песенки сыпались, и, казалось нам, под них именно и танцевали над водой поденки. Наши робинзоны достали мандолину и балалайку – приготовились. Медленно выезжает навстречу нашей армаде из бора телега, наполненная деревенскими девушками. Увидев молодых людей, девушки запели на горе:
Мои глазки, как салазки,
По горе катаются.
Моими карими глазами
Многи завлекаются.
Выждав, когда девушки на горе поравняются с лодками внизу, робинзоны ударили по струнам и спели в ответ с воды свою импровизацию:
Я на лодочке катался,
А под лодочкой вода
Моя милка в белом платье,
А под платьем… сковрода.
Хохот и визг раздались в бору над рекой, и тут показался из леса сияющий отец Филимон с пучков поспевающей земляники.
– Ну, отец, что ты видел наверху новенького, что у тебя в руке?
– Климат тут много теплее, – сказал отец Филимон. – В Переславле земляника только цветет, а тут поспевает.
Явление нашей армады в пустынных водах было таким дивом, что одна деревня почти в полном составе проводила нас берегом до другой, в этой присоединилось еще множество, и в третьей вся эта масса встретила нас на берегу. После долгого разглядывания в упор оттеснили меня и стали расспрашивать; больше всего, оказалось, их интересовал наш поп.
– Это настоящий священник?
Я сказал, что, конечно, настоящий.
Переглянулись.
– Значит, поп?
– Конечно.
– Красный поп?
Робинзоны запели:
Долой, долой монахов,
Долой, долой попов!..
И вот уж верно не могу сказать, не смотрел в ту сторону, но мне представлялось, будто отец подтягивал басом: «Долой, долой попов!»
Все это было до крайности удивительно туземцам, живущим очень далеко от железной дороги. Вокруг наших палаток народ кипел всю ночь, любопытные приоткрывали нашу палатку, не давали нам спать.
В этом месте на другой день наша этнографическая группа отправилась исследовать в деревню Лихорево праздник «крапивное заговенье», по-видимому, остатки культа древнего бога Ярилы.
Я не очень верил, что мы увидим какое-нибудь действие и что все не кончится записью старинного обряда со слов какой-нибудь лихоревской старухи. Но, конечно, мы в Лихореве все-таки не сразу стали расспрашивать о боге Яриле: мы пришли исследовать гончарные промыслы. Только уж когда сердца этих скудельников были нами совершенно открыты, мы наконец заговорили о празднике наибольшего развития весенних производительных сил и об языческом боге. Тогда из толпы этих скудельников вышел один пожилой, уже за шестьдесят лет, улыбнувшись, как улыбается фавн, обнажил крепкие зубы и сказал:
– Воистину это, стало быть, я сам и есть.
Тогда гончары бросили рассказывать о своих промыслах, и началось веселье вокруг этого жреца бога Ярилы. Все повторяли:
– Власич вам все покажет.
И сам Власич сказал:
– Пойду попытаю.
Скоро мы услышали пение и поспешили на улицу, где теперь бабы и девки чистили поле.
Это известно – бабы, наступая против девиц, поют:
А мы сечу чистили, чистили!
Потом девицы наступают, и так две эти партии, медленно двигаясь по улице, разыгрывают земледельческую драму, как она выходит из слов известной стариннейшей песни: «А мы просо сеяли, сеяли».
Одни сеют, другие коней пускают и топчут, коней ловят хозяева ляды и назначают за них выкуп: девицу. Молодец вступается за девицу, и в ход пускаются ножи…
Все, в общем, представляется, как подготовка к действию, расчистка поля, на котором вот скоро уж теперь и начнется самый посев.
Власич довольно перешептался с бабами-заправилами, согласился и стоит теперь в ожидании, когда расчистят сечу для посева.
Кто-то в толпе говорит о Власиче:
– Это у нас посевком.
И сам Власич, услышав это, объясняет нам, что бабы давно уже его выбрали и он теперь один сеятель, больше уже никто сеять не может. Время от времени он исчезает куда-то и возвращается все веселее и веселее. В последний раз он приходит с огромной жердью, раз в десять больше себя, и к верхнему концу ее прикрепляет пучок крапивы.
Жердь подымается.
Вокруг сеятеля образуется огромный круг зрителей, внутри же в три группы садятся дети, каждая группа на равном друг от друга расстоянии, треугольником.
К дедушке-сеятелю подходит бабушка, второе действующее лицо, всем известная здесь забавница Марфа Баранова. Дедушка и бабушка хозяйствуют в кругу, перемещают ребят, чтобы удобнее было между ними ходить, дают советы руководительницам сложного хождения всей массы баб и девушек в кругу. Наконец все готово, в круг вступают первые звенья бесконечной цепочки разодетых по-праздничному женщин. Идут с песнями змейкой между тремя группами детей. Остальные свиваются спиральными кольцами. Каждая в конце концов пройдет следом другой, но для зрителя скоро скрываются дети, между которыми ходят женщины, линия их хождения исчезает, и кажется даже, они вовсе не ходят, а все волнуется правильно, как спелая нива ржи, и все тянет к высокому шесту с крапивным пучком и к стоящим под ним дедушке и бабушке.
Хор поет:
На rope-те мак, под горою мак,
Мак-маковицы, красные девицы.
Станьте в ряд!
И спрашивают:
Поспел ли горох,
Поспел ли бобун.
Поспел ли цветун?
Хор умолкает, ожидая ответа дедушки и бабушки.
Нет, оказывается, горох не только не поспел, а даже земля не вспахана и нет коня: нужно еще вырастить жеребеночка, да и того еще нет: надо послать за кобылиными яйцами.
Все посмеялись и опять пошли кружить с пением:
На горе-те мак…
Так проходит время, и на вопрос хора, «поспел ли бобун», дедушка отвечает, что жеребенок-то вырос, да вот беда, сошник сломался, надо заказать кузнецу наварить шестивершковый конец.
Проходит еще сколько-то времени, а тут новая неуправка: захворал дедушка, некому пахать и сеять.
Итак, дедушке все неможется, и долго растет горох, а девушкам все не терпится, все они кружат и спрашивают:
Поспел ли горох?
Весело становится, когда дедушка начинает поправляться и пошучивать с бабушкой, да и как еще пошучивать! Сильно растет и горох.
– Ну и хорош же будет бобун! – кричит сеятель. Вот он уже в ленточках, – вот показался спелый стручок в шесть вершков.
Тогда вся масса женщин наступает и в последний раз спрашивает:
Поспел ли горох,
Поспел ли бобун.
Поспел ли цветун?
С громким криком: «Поспел!» – дедушка выпускает жердь с крапивным пучком, женщины расступаются, пучок с шумом падает на землю, дедушка валится на бабушку, молодые люди гонятся за женщинами с крапивой, стегают их по ногам.
Зрители, развеселенные и довольные, повторяют:
– Поспел, поспел.
Когда представление кончилось, мы пошли в дом к Власичу и позвали сюда Марфу Баранову. Тут мы записали обряд со всеми подробностями и множеством таких прибауток и слов, какие не оставляли ни малейшего сомнения, что мы имели дело именно с Ярилой, богом весны человека. Правда, это были довольно жалкие остатки древнего культа, но и то их было довольно, чтобы воскресить утраченное огромным большинством людей чувство благоговения к силе, воспроизводящей на земле человека. Мы даже поняли, каким образом достигалось это: потому что все грубо называлось почти своими именами, но грубость эта была необходима, как грубость земли, производящей тончайшие кружева трав и цветов…
Мы были довольны и счастливы даже этими жалкими остатками весны человека, потому что мы были ученые люди: ученые всегда довольствуются только остатками…
С обратной поездкой вышло, как в крапивном действии: жеребеночек был в поле, и надо было за ним сходить, поймать, привести. Нас ненадолго оставили сидеть в избе одних с Власичем и Марфой Барановой; мало-помалу стали собираться разные любопытные, и вдруг те женщины, которым мы дали немного денег после «крапивного действа», ворвались к нам в избу, как ураган, и все вместе кричали, как стая огромнейших птиц. Стало даже немного жутко от этой вакханалии, казалось, что вот кинутся все и разорвут в клочки. В особенности орала баба, как бы вырубленная из камня и покрашенная, рядом с ней была желтая, и совсем красная, и хорошенькая чернушка, схваченная порывом урагана. У всех до одной были открытые рты и зубы сверкали. С трудом дознались мы, что все они кричали по-разному одни и те же слова: «шестьдесят копеек», и когда мы, наконец догадавшись, в чем дело, всыпали одной бабе в руку эти шестьдесят копеек, то все они бросились вон из дома и вихрем понеслись куда-то по улице, некоторые сильно спотыкаясь.
– Вдовы и бездетные, – сказал нам Власич.
– Вдовы, – сказал я, – это понятно, но у бездетных есть мужья.
– Да разве можно угнаться мужу за бездетной женой, бездетная – женщина вольная.
Несомненно, перед нами прошли те упрямые язычницы, которых отцы нашего христианства называли бабами богомерзкими.
Но не в них было дело, такие бабы есть всюду, а в отношении к ним солидных крестьян, бывших вместе с нами в избе Власича. Один из них даже прямо сказал:
– Мы считаем, что от этих женщин нам большая польза: нужно же, чтобы кто-нибудь давал нам в жизни веселье.
Наступил глубокий красивый вечер. Ржаные поля зацветали. Всюду веяло могучей любовью, исходящей от роста живых существ, рожденных землею. Мы ехали с Власичем на телеге, и он рассказывал нам о себе, что вот какое ему вышло горе с первой женой: ребеночек был разрезан в утробе и после того с ней нельзя было жить супружески, и так он мучился с ней всю жизнь, правда, не говел, но детей все-таки не было, а без детей крестьянину какая жизнь. Ну, вот и умерла та жена, женился на молоденькой, пошли дети все маленькие, ему же теперь уже за шестьдесят, силы начали убывать, а ведь работать-то на семью приходится больше и больше, и, верно, ему уж так и не увидеть в своей семье помощников.
В это время мы проезжали селом, и на пути нашем встретилась необыкновенно длинная и высокая антенна. Власич этим очень заинтересовался, и пришлось ему рассказать о радио.
– А слышали вы, – спросил он, – про обезьяньи семена? Будто вот спрыснут, и сразу помолодеешь лет на пять…
– Что ты говоришь, – сказал мой спутник, – не на пять, а лет на двадцать пять.
– Нет, нет, – сказал Власич, – мне бы только лет на пять надо, ребятишки бы подросли, а больше не надо, зачем…
И стал вполне серьезно упрашивать, как бы так раздобыть этих семян.
Между тем село это, где мы увидели антенну, было бесконечным каким-то; мы ехали – и конца ему не было. селу не хватило горы, спустилось в болото и оттуда опять полезло в гору новыми постройками, – видно, что народ в этой глуши множился с великой силой, распространялся, пер.
Тут открылось нам в оранжевом свете последней зари слияние рек Нерли и Кубри, и за мостом, такое, как Андрианово, напирающее жизнью Григорово, и тут уже была масса народу и на берегу и на улицах, и все это жило, звучало частыми песенками, похожими на поденок. А по реке на своей большой лодке ехал поп Филя, и на лодке у него сидело человек сорок, голова к голове, ребятишек, так что похоже все было на Мазая с зайцами: поп катал детей. Робинзоны катали девиц, и их было на лодке тоже часто и густо, как у Мазая, и тут уже пели все безотрывно под мандолину и балалайку. Увидав нас, весь народ повалил вслед за телегой, и так мы прибыли к своим палаткам на берегу Кубри. Так за один только день нашего отсутствия экспедиция совершенно вышла из своей научной колеи, и когда явился подвыпивший поп Филя, вообще трусивший своего ученого хозяина, то получил от него такое наставление:
– Ты, отец, не очень-то уж увлекайся краеведением.
Лето

Запах цветов возвращает меня к самой первой любви глубочайшего детства, когда половая любовь была невозможна. Есть, конечно, и среди цветов некоторые, возбуждающие животные страсти, но это – уроды и доказывают только общность происхождения животного и растительного мира. Может быть, и люди получили радость аромата цветов от каких-нибудь своих уродов, не способных к производящей любви? У жасмина вовсе порочный запах, и на мое чутье обыкновенная наша лесная ночная красавица скрывает в себе животную сущность, особенно под конец, когда исчезнут все признаки весны и начинается лето. Она как будто и сама знает за собой грех и стыдится пахнуть собой при солнечном свете. Но я не раз замечал: когда ночная красавица потеряет первую свежесть, белый цвет ее потускнеет, становится чуть-чуть даже и желтоватым, то на этих последних днях своей красоты она теряет свой стыд и пахнет даже на солнце. Тогда можно сказать, что весна этого года совсем прошла и такой, как была, никогда не вернется.
Я не плохо себя чувствую, когда проходит последняя тревога весны, страх перед этим концом оказывается совершенно напрасным: мне только хочется остановить свое беспокойное движение, устроиться где-нибудь прочно, не разлучаясь в то же время с природой. Тогда я выбираю себе небольшую деревню в местности, удобной для натаски собак, и селюсь в ней. Иногда и очень далеко отхожу в поисках дичи, но каждый вечер возвращаюсь в ту же избу, ложусь в ту же постель, пишу больше и больше.
Весенний аромат цветов гонял меня из стороны в сторону, он делал меня бродягой. Теперь я свой навоз отдаю хозяину двора вместе с его животными. Точно так же, вероятно, и все люди осели из необходимости сохранить свой навоз, и земля от того потемнела.
Сегодня я вышел для маленькой прогулки с собакой, взял в руку ночную красавицу, понюхал при – солнечном свете. Она сильно пахла. Я сказал: «Довольно бродить, весна прошла».
Мой легавый щенок называется Ромул, но я больше зову его Ромой или просто Ромкой, а изредка величаю его Романом Василичем.
У этого Ромки скорее всего растут лапы и уши. Такие длинные у него выросли уши, что когда вниз посмотрит, так и глаза закрывают, а лапами он часто что-нибудь задевает и сам кувыркается.
Сегодня был такой случай: поднимался он по каменной лестнице из подвала, зацепил своей лапиной полкирпича, и тот покатился вниз, считая ступеньки, Ромушка этому очень удивился и стоял наверху, спустив уши на глаза. Долго он смотрел вниз, повертывая голову то на один бок, то на другой, чтобы ухо отклонилось от глаза и можно было смотреть.
– Вот штука-то, Роман Василич, – сказал я, – кирпич-то вроде как живой, ведь скачет! Рома поглядел на меня умно.
– Не очень-то заглядывайся на меня, – сказал я, – не считай галок, а то он соберется с духом, да вверх поскачет, да тебе даст прямо в нос.
Рома перевел глаза. Ему, наверное, очень хотелось побежать и проверить, отчего это мертвый кирпич вдруг ожил и покатился. Но спуститься туда было очень опасно: что, если там кирпич схватит его и утянет вниз навсегда в темный подвал?
– Что же делать-то, – спросил я, – разве удрать?
Рома взглянул на меня только на одно мгновение, и я хорошо его понял, он хотел мне сказать:
«Я и сам подумываю, как бы удрать, а ну как я повернусь, а он меня схватит за прутик?»[3].
Нет, и это оказывается невозможным, и так Рома долго стоял, и это была его первая стойка по мертвому кирпичу, как большие собаки постоянно делают, когда носом почуют в траве живую дичь.
Чем дольше стоял Ромка, тем ему становилось опасней и страшней: по собачьим чувствам выходит так, что чем мертвее затаится враг, тем ужаснее будет, когда он вдруг оживет и прыгнет.
«Перестою», – твердит про себя Ромка.
И чудится ему, будто кирпич шепчет:
– Перележу.
Но кирпичу можно хоть сто лет лежать, а живому песику трудно, устал и дрожит.
Я спрашиваю:
– Что же делать-то, Роман Василич?
Рома ответил по-своему:
– Разве брехнуть?
– Вали, – говорю, – лай!
Ромка брехнул и отпрыгнул. Верно, со страху ему показалось, будто он разбудил кирпич и тот чуть-чуть шевельнулся. Стоит, смотрит издали, – нет, не вылезает кирпич. Тихонечко подкрадывается, глядит осторожно вниз: лежит.
– Разве еще раз брехнуть!
Брехнул и отпрыгнул.
Тогда на лай прибежала Кэт, Ромина мать, впилась глазами в то место, куда лаял сын, и медленно, с лесенки на лесенку стала спускаться. На это время Ромка, конечно, перестал лаять, доверил это дело матери и сам глядел вниз много смелее.
Кэт узнала по запаху Роминой лапы след на страшном кирпиче, понюхала его: кирпич был совершенно мертвый и безопасный. Потом, на случай, она постепенно обнюхала все, ничего не нашла подозрительного и, повернув голову вверх, глазами сказала сыну:
– Мне кажется, Рома, здесь все благополучно.
После того Ромул успокоился и завилял прутиком. Кэт стала подыматься, он нагнал мать и принялся теребить ее за ухо.
Необходимо научить молодую легавую собаку, чтобы она бегала в поле вокруг охотника не далее ружейного выстрела, на пятьдесят шагов, а в лесу еще ближе, и, главное, всегда бы помнила о хозяине и не увлекалась своими делами. Вот это все вместе – ходить правильными кругами в поле и не терять хозяина в лесу – называется правильным поиском.
Я пошел на холм, покрытый кустарником, и прихватил с собой Ромку. Этот кустарник отводят жителям слободы для вырубки на топливо, и потому он называется отводом. Конечно, тут все поделено на участки, и каждый берет со своей полосы, сколько ему понадобится. Иной вовсе не берет, и его густой участок стоит островком. Иной вырубает что покрупнее, а мелочь продолжает расти. А бывает и всё вырубят дочиста, на такой полосе остается только ворох гниющего хвороста. Вот почему весь этот большой холм похож на голову, остриженную слепым парикмахером.
Трудно было думать, чтобы на таком месте вблизи города могла водиться какая-нибудь дичь, а учителю молодой собаки такое пустое место на первых порах бывает гораздо дороже, чем богатое дичью. На пустом месте собака учится одному делу: правильно бегать, ни на минуту не забывая хозяина.
Я отстегнул поводок, погладил Ромку. Он и не почувствовал, когда я отстегнул, стоял возле меня, как привязанный.
Махнув рукой вперед, я сказал:
– Ищи!
Он понял и рванулся. В один миг он исчез было в кустах, но, потеряв меня из виду, испугался и вернулся. Несколько секунд он стоял и странно смотрел на меня, – казалось, он фотографировал, чтобы унести с собой отпечаток моей фигуры и потом постоянно держать его в памяти среди кустов и пней, не имеющих человеческой формы. Окончив эту свою таинственную работу, он показал мне свой вечно виляющий прут и убежал.
В кустах – не в поле, где всегда видно собаку. Q лесу надо учить, чтобы собака, исчезнув с левой руки, сделала невидимый круг, и показалась на правой руке, вертелась волчком.
И я должен знать, что, если собака не вернулась с правой руки, значит где-нибудь она вблизи почуяла дичь и стала по ней. Особенно хорошо бывает следить за собакой, когда идешь просекой, собака то и дело пересекает тропу.
Вот мой Ромка исчез в кустах и не вернулся. Я очень рад, его чувство свободы оказалось на первых порах сильнее привязанности к хозяину. Пусть будет так, я его понимаю: я охотник и тоже это люблю. Я только научу его пользоваться свободой согласно со мной, так и мне и ему будет лучше. Большими скачками, чтобы не оставлять за собой частых следов, по которым легко было бы ему меня разыскать, я перебегаю через кусты на другую полянку. Там на середине стоит большой куст можжевельника. Я разбежался, сделал огромный скачок в середину куста и затаился.
По мокрой земле не был слышен топот собачьих лап, но зато издали донесся до меня треск кустов и частое хаханье. Я понимаю хорошо это хаханье, он хватился меня, бросился со всех ног искать и сразу от сильного волнения задыхался. Однако он довольно верно рассчитал место моего нахождения: проносится по первой поляне, откуда я начал скакать.
Когда все снова затихло, я даю сигнал своим резким свистком. Очень похоже на игру в жмурки.
Мой свист достиг его слуха, вероятно, как раз в то время, когда он в недоумении стоял где-нибудь на полянке и прислушивался. Он верно определил исходную точку звука, пустился во весь дух с паровозным хаханьем и стал в начале полянки с кустом можжевельника.
Я замер в кусту.
От быстрого бега и ужасного волнения у него висел язык на боку челюсти. В таком состоянии, конечно, он ничего чуять не мог, и расчет его был только на слух: уши не ре поло винил, одна половина стоит, другая, обламываясь, свисает и все-таки закрывает ушное отверстие. Пробует склонить голову на сторону, – не слышно, на другую – тоже не слышно. И наконец понял, в чем дело: он не слышит потому, что заглушает хозяйский звук своим дыханием, исходящим из открытого рта. Закрывает рот, второпях одну губу прихватил и так слушает с подобранной губой.
Чтобы не расхохотаться при виде такой смешной рожи с поджатой губой, я зажимаю себе рот рукой. Но ему не слышно. Природа без хозяина ему кажется теперь как пустыня, где бродят одни только волки, его предки. Они ему не простят за измену волчьему делу, за любовь к человеку, за его теплый угол, за его хлеб-соль. Они его разорвут на клочки и съедят. С волками жить, надо по-волчьи выть.
И он пробует. Он высоко поднимает голову вверх и воет.
Этого звука я у него никогда еще не слыхал. Он действительно почуял волчью пустыню без человека. Совершенно так же воют молодые волки в лесу, когда мать ушла за добычей и долго не возвращается…
Да оно так и бывает. Волчья матка схватила овцу и несет ее к детям. Но охотник проследил ее путь и притаился в засаде. Волчица убита. Человек приходит к волчатам, берет их к себе и кормит. Неизмеримы запасы нежности в природе, свои чувства к матери волчата переносят на человека, лижут ему руки, прыгают на грудь. Молодые не знают, что этот человек застрелил их настоящую мать. Но дикие волки все знают, они смертельные враги человеку и этой изменнице волчьему делу, собаке.
Ромка так жалобно воет, что у меня сжимается сердце. Но жалеть мне нельзя: я учитель.
Я не дышу.
Он повертывается задом ко мне и слушает в другой стороне. Может быть, где-нибудь в поднебесье свистнул пролетающий кулик?
Не туда ли забрался хозяин и не он ли зовет к себе на небеса?
А вот это, наверно, в ближайшем болотце корова спугнула чибиса, и он, взлетая, высвистывал свое обыкновенное: «Чьи вы?» Это уж и не так высоко и не так далеко, очень возможно, это свистнул хозяин.
Ромка со всего маху ринулся на это «Чьи вы?», я вслед ему резко в свисток:
– Вот я!
Он вернулся.
В какие-нибудь пятнадцать минут я измучил его и на всю жизнь напугал лесом пустым, без человека, поселил в нем ужас к жизни его предков, диких волков. И когда наконец-то я нарочно шевельнулся в кусту, и он услыхал это, и я закурил трубку, а он почуял запах табаку и узнал, то уши его опустились, голова стала гладкой, как арбуз. Я встал. Он лег виноватый. Я вышел из куста, погладил его, и он бросился в безумной радости с визгом скакать.
Однажды я лишился своей легавой собаки и охотился по бродкам, значит, росистым утром находил следы птиц на траве и по ним добирал, как собака, и не могу наверно сказать, но мне кажется, я немного и чуял.
В то время верст за тридцать от нас ветеринарному фельдшеру удалось повязать свою замечательную ирландскую суку с кобелем той же породы, та и другая собаки были из одного разгромленного богатого имения. И вот однажды в тот самый момент, когда жить стало особенно трудно, один мой приятель доставил мне шестинедельного щенка-ирландца. Я не отказался от подарка и выходил себе друга. Натаска без ружья мне доставляет иногда наслаждение не меньшее, чем настоящая охота с ружьем. Помню, раз было… На вырубке вокруг старых черных пней было множество высоких, елочкой, красных цветов, и от них вся вырубка казалась красной, хотя гораздо больше тут было Иван-да-Марьи, цветов наполовину синих, наполовину желтых, во множестве тут были тоже и белые ромашки с желтой пуговкой в сердце, звонцы, синие колокольчики, лиловое кукушкино платье, – каких, каких цветов не было, но от красных елочек, казалось, вся вырубка была красная. А возле черных пней еще можно было найти переспелую и очень сладкую землянику. Летним временем дождик совсем не мешает, я пересидел его под елкой, сюда же в сухое место собрались от дождя комары, и как ни дымил я на них из своей трубки – собаку мою, Ярика, они очень мучили. Пришлось развести грудок, как у нас называют костер, дым от еловых шишек повалил очень густой, и скоро мы выжили комаров и выгнали их на дождик. Но не успели мы с комарами расправиться, дождик перестал. Летний дождик – одно только удовольствие.
Пришлось все-таки под елкой просидеть еще с полчаса и дождаться, пока птицы выйдут кормиться и дадут но росе свежие следы. Когда по расчету это время прошло, мы вышли на красную вырубку, и, сказав:
– Ищи, друг! – я пустил своего Ярика.
Ярику теперь пошло третье поле. Он проходит под моим руководством высший курс ирландского сеттера, третье поле – конец ученью, и если все будет благополучно, в конце этого лета у меня будет лучшая в мире охотничья собака, выученный мной ирландский сеттер, неутомимый и с чутьем на громадное расстояние.
Часто я с завистью смотрю на нос своего Ярика и думаю: «Вот если бы мне такой аппарат, вот побежал бы я на ветерок по цветущей красной вырубке и ловил бы и ловил интересные мне запахи».
Но не чуткие мы и лишены громадного удовольствия. Мы постоянно спрашиваем: «Как ваше зрение, хорошо ли вы слышите?» – но никто из нас не спросит: «Как вы чуете, как у вас дела с носом?» Много лет я учу охотничьих собак. Всегда, если собака причует дичь и поведет, испытываю большое радостное волнение и часто думаю: «Что же это было бы, если бы не Ярик, а я сам чуял дичь?»
– Ну, ищи, гражданин! – повторил я своему другу.
И он пустился кругами по красной вырубке.
Скоро на опушке Ярик остановился под деревьями, крепко обнюхал место, искоса, очень серьезно посмотрев на меня, пригласил следовать: мы понимаем друг друга без слов. Он повел меня за собой очень медленно, сам же уменьшился на ногах и очень стал похож на лисицу.
Так мы пришли к густой заросли, в которую пролезть мог только Ярик, но одного его пустить туда я бы не решился: один он мог увлечься птицами, кинуться на них,? мокрых от дождя, и погубить все мои труды по обучению. С сожалением хотел было я его отозвать, но вдруг он вильнул своим великолепным, похожим на крыло, хвостом, взглянул на меня; я понял, он говорил:
– Они тут ночевали, а кормились на поляне с красными цветами.
– Как же быть? – спросил я.
Он понюхал цветы: следов не было. И все стало понятно: дождик смыл все следы, а те, по которым мы шли, сохранились, потому что были под деревьями.
Оставалось сделать новый круг по вырубке до встречи с новыми следами после дождя. Но Ярик и полукруга не сделал, остановился возле небольшого, но очень густого куста. Запах тетеревов пахнул ему на всем ходу, и потому он стал в очень странной позе, весь кольцом изогнулся и, если бы хотел, мог во все удовольствие любоваться своим великолепным хвостом. Я поспешил к нему, огладил и шепотом сказал:
– Иди, если можно!
Он распрямился, попробовал шагнуть вперед, и это оказалось возможно, только очень тихо. Так, обойдя весь куст кругом, он дал мне понять:
– Они тут были во время дождя.
И уже по самому свежему следу, по роске, по-видимому глазом зеленому бродку на седой от капель дождя траве повел, касаясь своим длинным пером на хвосте самой земли.
Вероятно, они услышали нас и тоже пошли вперед, я это понял по Ярику, он мне по-своему доложил:
– Идут впереди нас и очень близко.
Они все вошли в большой куст можжевельника, и тут Ярик сделал свою последнюю мертвую стойку. До сих пор ему еще можно было время от времени раскрывать рот и хахать, выпуская свой длинный розовый язык, теперь же челюсти были крепко стиснуты и только маленький кончик языка, не успевший вовремя вобраться в рот, торчал из-под губы, как розовый лепесток. Комар сел на розовый кончик, впился, стал наливаться, и видно было, как темно-коричневая, словно клеенчатая, тюпка на носу Ярика волновалась от боли и танцевала от запаха, но убрать язык было невозможно: если открыть рот, то оттуда может сильно хахнуть и птиц испугать.
Но я не так волновался, как Ярик, осторожно подошел, ловким щелчком скинул комара и полюбовался на Ярика сбоку: как изваянный стоял он с вытянутым в линию спины хвостом-крылом, а зато в глазах собралась в двух точках вся жизнь.
Тихонько я обошел куст и стал против Ярика, чтобы птицы не улетели за куст невидимо, а поднялись вверх.
Мы так довольно долго стояли, и, конечно, они в кусту хорошо знали, что мы стоим с двух сторон. Я сделал шаг к кусту и услышал голос тетеревиной матки, она квохнула и этим сказала детям:
– Лечу, посмотрю, а вы пока посидите. И со страшным треском вылетела. Если бы на меня она полетела, то Ярик бы не тронулся, и если бы даже просто полетела над ним, он не забыл бы, что главная добыча сидит в кусту и какое это страшное преступление бежать за взлетевшей птицей. Но большая серая, почти в курицу птица вдруг кувыркнулась в воздухе, подлетела почти к самому Ярикову носу и над самой землей тихонько полетела, маня его криком:
– Догоняй же, я летать не умею!
И, как убитая, в десяти шагах упала на траву и по ней побежала, шевеля высокие красные цветы.
Этого Ярик не выдержал и, забыв годы моей науки, ринулся…
Фокус удался, она отманила зверя от выводка и, крикнув в кусты детям:
– Летите, летите все в разные стороны, – сама вдруг взмыла над лесом и была такова.
Молодые тетерева разлетелись в разные стороны, и как будто слышалось издали Ярику:
– Дурак, дурак!
– Назад! – крикнул я своему одураченному другу.
Он опомнился и, виноватый, медленно стал подходить.
Особенным, жалким голосом я спрашиваю:
– Что ты сделал?
Он лег.
– Ну, иди же, иди!
Ползет виноватый, кладет мне на коленку голову, очень просит простить.
– Ладно, – говорю я, усаживаясь в куст, – лезь за мной, смирно сиди, не хахай: мы сейчас с тобой одурачим всю эту публику.
Минут через десять я тихонько свищу, как тетеревята:
– Фиу, фиу!
Значит:
– Где ты, мама?
– Квох, квох, – отвечает она, и это значит: «Иду!»
Тогда с разных сторон засвистело, как я:
– Где ты, мама?
– Иду, иду, – всем отвечает она.
Один цыпленок свистит очень близко от меня, я ему отвечаю, он бежит, и вот я вижу: у меня возле самой коленки шевелится трава.
Посмотрев Ярику в глаза, погрозив ему кулаком, я быстро накрываю ладонью шевелящееся место и вытаскиваю серого, величиною с голубя, цыпленка.
– Ну, понюхай, – тихонько говорю Ярику.
Он отвертывает нос: боится хахнуть.
– Нет, брат, нет, – жалким голосом прошу я, – понюхай-ка!
Нюхает, а сам, как паровоз.
Самое сильное наказание.
Вот теперь я уже смело свищу и знаю, непременно прибежит ко мне матка: всех соберет, одного не хватит – и прибежит за последним.
Их всех, кроме моего, семь; слышу, как один за другим, отыскав мать, смолкают, и когда все семь смолкли, я, восьмой, спрашиваю:
– Где ты, мама?
– Иди к нам, – отвечает она.
– Фиу, фиу: нет, ты веди всех ко мне.
Идет, бежит, вижу, как из травы то тут, то там, как горлышко бутылки, высунется ее шея, а за ней везде шевелит траву и весь ее выводок.
Все они сидят от меня в двух шагах, теперь я говорю Ярику глазами:
– Ну, не будь дураком!
И пускаю своего тетеревенка.
Он хлопает крыльями о куст, и все хлопают, все вздымаются. А мы из куста с Яриком смотрим вслед улетающим, смеемся:
– Вот как мы вас одурачили, граждане!
Мне удалось Ярика очень хорошо натаскать на болоте, но, страстный любитель лесной охоты, я не удержался от искушения: когда пришла пора, я стал охотиться с ним в лесу на тетеревей. В этом была моя ошибка: надо было потерпеть до другого поля. Однако в первые дни Ярик работал в лесу прекрасно, как и на болоте, только приходилось почаще свистеть. Но как-то под вечер, когда я возвращался с охоты, на дорогу выбежала тетеревиная матка очень позднего выводка и стала своими обычными приемами дразнить Ярика. Он бросился, по пути попал на тетеревят, ошалел и долго за ними носился. Сгоряча я так его вздул, что он вдруг вскочил и бежать от меня, я за ним, он дальше, дальше и пропал на всю ночь, а утром мы увидели его рыжие уши в картофельной борозде…
Кому приходилось натаскивать собак, тот поймет всю силу моего отчаяния: теперь исправить собаку можно было только с большим трудом, а об охоте в этом году и думать нечего. Выход был один – найти себе для охоты другую собаку, а Ярика учить снова, чтобы этот случай у него постепенно забылся.
Я стал себе приискивать собаку какую-нибудь, хотя бы даже вроде покойницы Флейты, лишь бы мало-мальски из-под нее можно было стрелять.
И так, расспрашивая всех о собаке, я рассылал своих ребятишек узнавать, проверять слухи. Однажды они рассказали мне, что будто бы, когда они проходили мимо одного хутора с большой пасекой и сели тут отдохнуть, из дома вышел старик с колуном и принялся за дрова. Наколов порядочно дров, этот старичок свистнул, прибежала собака черная с рыжими подпалинами, лохматая и, видно, очень породистая. Подбежав к старику, собака схватила полено в зубы и понесла в дом, потом вернулась, взяла другое и так, пока старичок отдыхал, перетаскала всю поленницу. Потом старик закрыл дом, отворил сарай, стал опять колоть, а собака носила поленья в сарай. И так дети, поспешая домой, ушли, не досмотрев конца работы, только по количеству наколотых дров можно было понять, что старик этим занимался изо дня в день, заготовляя дрова на зиму, может быть и для продажи, а собака ему помогала.
– Верно ли, что собака черная с рыжими подпалинами и шерсть очень густая? – спросил я.
– Ну, как же, – ответили дети, – а лоб у него покруче нашего Ярика и переносица как бы с выломом и такой лохматый, что в общем похож на первобытного человека.
На другой день я пошел искать свое счастье на хутор.
Я застал точно такую картину, как рассказывали дети: старик колол дрова, а прекрасный гордон относил их в сарай. Один раз собака устала, не донесла полено до сарая, бросила и вернулась. Старик взял прут. Гордон, увидев прут, подбежал к старику, лег на бок у самых ног. Старик ударил сильно раз, два и бросил прут. Гордон вскочил, схватил этот прут, весело поскакал с ним возле хозяина, бросился к уроненному полену, донес его до сарая и бодро стал продолжать работу.
Редкостная голова была у гордона, пышность убранства ее можно было только сравнить с париками Людовика XIV, только зад был как бы деревянный, то ли от перенесенных побоев, то ли от чумы. После стороной я узнал, сколько побоев вынес гордон на лесной службе у крестьянина: очень возможно, что пострадал от побоев.
– Что же вы, – говорю крестьянину, – охотничью собаку и заставляете нести такую службу?
– Какую там охотничью, – пробормотал старик, – вот никак не могу научить складывать, накидать-то накидает, а нет того, чтобы сложить.
Наш разговор услышал сын старика, вышел познакомиться. Поставили самовар. Сели за чай. Я рассказывал им о беде с Яриком и что я не прочь бы купить Верного, если бы у него оказалось хоть мало-мальски чутье. Мне же они рассказывали, что собаку в голодное время купили больше из жалости к Бендрышеву, и тот собаку хвалил. Я хорошо знал Бендрышева, это был у нас первый охотник, стрелок и дрессировщик. У меня мелькнула надежда, что, может быть, эти мужички просто не понимают, как надо обращаться с охотничьей собакой, и зря мучат ее на дровяной работе и что ее надо купить сразу на счастье, пока простецы не расчухали. Я приценился, спросили двадцать рублей, совсем пустяки. Но у крестьян никак нельзя показывать виду, что дешево, я стал торговаться. Пил чай с медом, очень потел и торговался, хотя готов был и не двадцать, а даже тридцать и больше отдать. Хозяева тоже усердно пили чай, потели и торговались, и, такие чудаки, хвалили не собаку, а Бендрышева, повторяя, что Бендрышев охоту знает, как поп Егор «Отче наш». В конце концов я выторговал себе целых пятнадцать фунтов меду и с собакой и с медом, получив еще сверх всего свисток, побежал скорее домой.
Я двое суток ласкал Верного и не водил на охоту, и он так скоро привязался ко мне, что, если только я переходил в другую комнату, принимался выть и скулить. Это было добрейшее, переполненное сиротскими чувствами существо. На третий день я совершенно уверился, что Верный никуда от меня не уйдет, взял с собой ребят и пошел на охоту.
Для болота мне хорош был Ярик. Верного мы повели на веревочке в лес. Там на поляне, вблизи которой можно было ожидать тетеревиных выводков, я отпустил Верного. Он сначала ринулся в кусты, но, словно что-то забыв, вернулся и стал против нас на поляне, смотрел долго и, лохматый, то покосит голову на один бок, то на другой, и так все было похоже, будто он нас фотографирует. Сделав это, очевидно, ему очень нужное, он исчез, показался, опять исчез, и все пошло как с отлично дрессированной собакой с коротким лесным поиском. Очень скоро там, где большая посеча переходит в болото, разделенная с ним густой зарослью, Верный прихватил и очень осторожно повел. В нем не было той страсти, как у Ярика, и того огненного глаза, отчего сам в себе вдруг узнаешь какую-то внутреннюю собаку и совершенно забываешься как человек. Верный вел крайне осторожно, как бы не для себя это делал, а только для нас. Слишком долго он вел, очевидно птицы удирали, и это наконец он понял, остановился, посмотрел туда-сюда, не торопясь сделал круг и так отрезал отступление птиц у самой крепи в отдельно стоящем кусту. После того он стал хозяйственно, без всякого волнения: пришил. Мы расставились в линию, я посередине, ребята по бокам. И так мы стояли, пока я наконец решился сказать: «Вперед…» Верный сделал шаг, другой, и один вылетел, – выстрел, другой, – еще выстрел. Мы их стреляли над крепью все трое, и они падали в топь, заросшую тростниками в рост человека и выше. Отстояв выстрелы, Верный спросился глазами и сам пошел в топь выносить одного, другого, третьего…
Дичи было много в этом краю. В несколько дней мы настреляли почти что на стоимость новой собаки, и вот как бывает, забудешься в своем счастье: я написал бывшим хозяевам Верного, что очень доволен и не знаю, как их благодарить и соглашаюсь вполне, что Бендрышев действительно знает охоту, как поп Егор «Отче наш». После я узнал стороной, что вот как я огорчил их этим письмом, они думали, что собака никуда не годится и Бендрышев их обманул.
В первые же дни появления Верного на моем дворе характер Ярика очень переменился. По гордости своей он решил не показывать виду, что ему неприятно общество Верного. Даже когда я беру ружье и Верный скачет вокруг меня, Ярик лежит жерновком и вида не показывает, что ему хочется на охоту. А между тем сам очень страдает, и стоит только мне позвать его, как бросается со всех ног и оттирает Верного. Раньше он был большой неряха, и когда ему дашь кость, то хорошенько ее выгрызет, а что потверже, похуже, бросит. Теперь из опасения, что остаток достанется Верному, лежит возле пищи и, если Верный близко подходит, рычит. Позовешь к себе, идет с костью в зубах, нужно выйти до ветру – все с костью идет и делает. С тревогой наблюдал я, как изо дня в день Ярик искал повода сцепиться с Верным, и я очень боялся этого, потому что по старому опыту знал характер таких сиротливых и добрых собак, как Верный: терпит, терпит, зато уж как возьмется, так доведет войну до конца.
Однажды у нас на дворе полоскали белье и оставили корыто с подсинькой. Ярик глодал кость возле самого корыта, и когда оказалось, что одну пластинку ему не разгрызть, подсунул ее под корыто, чтобы Верный не заметил. В это время я кликнул Верного на охоту. Ярика это, конечно, больно укололо, но вида он не подал и затаил злобу на Верного. И уж само собой, такой умница и хитрец, Ярик отлично знал, что, когда зовут на охоту, тут не до кости. Между тем Верный побежал именно по тому самому месту, где была запрятана кость, и Ярику был отличный повод, не обнаруживая ревности, броситься на Верного будто бы из-за кости. Он сделал это с такой силой и ловкостью, что Верный, вообще плохо владеющий своим деревянным задом, грохнулся спиной в корыто с подсинькой, ногами вверх, будто опрокинулась деревянная лошадка. Я понял так Верного, что ему, претерпевшему испытание дровами и страшные побои поленьями, вовсе не так уж зазорно было полежать секунду в подсиньке вверх ногами или показаться хозяину мокрым, и боли он тоже не чувствовал, но ведь он же совсем не был виноват, он не за костью бежал: из-за чего же этот рыжий барин бросился, и не пора ли наконец с этим покончить, и раз навсегда. И вот он, выскочив из корыта, во много раз сильнейший, бросился на Ярика.
Обыкновенно, когда силы очень неравны, слабейший при бурном натиске ложится на землю и перевертывается ногами вверх, сильнейший тогда наседает, но не грызет, а только рычит и, подержав порядочное время побежденного в таком положении, отпускает и где-нибудь поблизости у столбика или у дерева оставляет заметку, вернее всего с какими-нибудь условиями сожительства на будущее время. Побежденный, понюхав заметку, оставляет на том же месте свою: вероятно, просто расписывается. Редко я наблюдал, чтобы слабейший в своей расписке делал какие-нибудь оговорки, но когда это все-таки бывает, то сильнейший делает новую заметку, и слабейший потом расписывается окончательно.
Но можно ли себе представить, чтобы такой гордец, Ярик, вдруг взял бы и перевернулся вверх брюхом, – конечно, он бросился в бой и первое время грызся с большим успехом.
Не помня себя от страха за Ярика, я бросился сначала к корыту и вылил всю синюю жидкость на сцепленные разъяренные морды, – ничего это не помогло. Тогда я схватил Верного за хвост и, дав ногой Ярику в грудь, отволок черного, но тем сильней рванулся рыжий и вцепился в него. Я схватил за хвост Ярика, оттащил его, еще хуже. Верный впился в Ярика, и еще бы немного ближе к горлу, и Ярику был бы конец. Но как раз в эту роковую минуту прибежали мои ребята и растащили противников за хвосты.
Верный по своему характеру не помнил зла, но Ярик пошел теперь в открытую вражду, и на дворе нашем жизнь стала совсем невозможная. Пришлось собак разделить, но ведь как усмотришь; стало на душе беспокойно.
Однажды в сентябре, когда можно было быть совершенно уверенным, что в лесу не найдешь тетеревиной матки с молоденькими, я попробовал поохотиться в лесу с Яриком, и мне это удалось хорошо. Ярик работал прекрасно. Обрадованный успехом моего приема исправить собаку спокойной работой из-под другой собаки, а может быть, просто потому, что было жарко и я устал, только, придя домой, я забыл про Верного и оставил Ярика на том же дворе.
Во время обеда вдруг мы услыхали ужасное рычание под окном и, глянув туда, увидели, как оба врага медленно подступают с поднятой шерстью.
Тут малейшее движение с нашей стороны, крик, и оба непременно бросятся в бой: мы сидим, затаив дыхание, в надежде, что как-нибудь обойдется, рассчитываем, что Ярик сегодня удовлетворен охотой, а Верный вообще добрейший пес.
С грозно поднятой шерстью Ярик подошел к Верному вплотную: тот не рычал, но мрачно ждал, что будет дальше. Ярик делает вокруг Верного медленный обход, подходит! к стене и оставляет на ней свою первую заметку, вероятно, условие договора. В это время крайне осторожно подходит к Ярику Верный и, пока тот пишет заявление, обнюхивает у него основание хвоста. Потом, прочитав написанное на стене, Верный делает какие-то свои поправки, а Ярик нюхает основание хвоста Верного. Ярик согласен, расписывается, после чего Верный, сделав полукруг, в последний раз окончательно подписывает бумагу, что, в сущности, у них, вероятно, означает ратификацию мирного договора.
С тех пор у нас мир на дворе и на охоте строгое разделение обязанностей. Верный больше по лесу и в лесу по крепким местам с колокольчиком на тетеревов, белых куропаток и на осенних жирных вальдшнепов, Ярик по болоту на бекасов, дупелей, в поле на серых куропаток; в лесу же я спокоен с ним только на видных местах, в редких кустарниках, на опушках и полянках.
Кэт – собака от премированных родителей, хорошо известных всем знатокам собак. Порода ее современная легавая континенталь. Рубашка у Кэт двухцветная, на спине два седла, остальное все – по белому как бы кофейные зерна рассыпаны.
Это я переименовал ее в Кэт, а у хозяев она звалась Китти. Владельцы собаки были интеллигентные молодожены. Первые два года у них не было детей, и Китти заменяла им ребеночка. Все два года она лежала у них на диване в Москве. Еще бы немного, и охотничья собака прекрасной породы превратилась бы в бесполезную изнеженную фаворитку. Но к концу второго года молодой женщине стало трудно спускаться и подниматься с собакой на пятый этаж, а муж весь день был на службе. В это время у меня случилось несчастье с Верным – его искусала бешеная собака, и мне было бы теперь слишком тяжело рассказывать, как пришлось с ним расстаться. Узнав о легавой, я, все-таки недовольный своим слишком горячим Яриком, решил заняться этой собакой, уговорил хозяев, они недорого мне ее продали и, всплакнув, просили никогда не бить.
Я слышал от опытных дрессировщиков, что двухлетний возраст для натаски не беда, лишь бы только собака была не тронута неумелой рукой. А Кэт была до того не испорчена, что даже за птичками не гонялась, охотилась вначале только за цветами: на ходу очень любила скусить и высоко подбросить венчик ромашки. Свойство ее породы – исключительная вежливость и понятливость, и хорошо было, что она самка: сучка всегда умней. Все, что называется комнатной дрессировкой, я проделал с ней почти что в один день. Я положил на пол белого хлеба, и, когда собака сунулась было к нему, я с громким криком «тубо» угостил ее щелчком.
– Это тебе, – говорю, – не в Москве на диване лежать.
В четверть часа я не только научил ее не хватать пищи без позволения, а даже не трогать кусочек, если он лежал на носу.
Потом я выучил ее вперед и назад, действуя исключительно только повышением голоса, ищи, сюда, тише, к ноге. На другой день я учил собаку в густом орешнике, где не было никакой дичи: я прятался в кустах, она меня разыскивала, и так в один день я научил ее короткому лесному поиску. В поле, конечно, не сразу далось: я ходил, как яхта против ветра, галсами, движением руки или легким посвистыванием заставлял ее делать то же самое. Дня три я так ходил, и наконец все необходимое для начала натаски по живой дичи было сделано.
Я повел Кэт в натаску на болото, когда бекасы и дупеля еще не высыпали из крепких мест в открытые, и там были только молодые чибисы. Написано совершенно неверно в охотничьих руководствах, что будто бы чибис плохой материал для натаски: я не знаю лучшего. Правда, горячих собак старые чибисы несколько волнуют, но их легко разогнать выстрелами, зато уж молодой лежит рыжей лепешкой до того крепко, что очень легко ногой наступить.
Кэт поначалу не чуяла этих лепешек, я нашел сам, сковырнул, лепешка сделалась чибисом, и он, не умея еще летать, заковылял между кочками. Сказав умри, я уложил собаку, но позволил ей провожать глазами чибиса, пока он опять не залег между кочками лепешкой.
– Тихо, вперед!
И Кэт пошла, ужимаясь. Стойки не сделала, а только понюхала, и тот опять тронулся в ход. Я повернул голову собаки в другую сторону, чтобы она не видела, где снова заляжет чибис, сам же заметил и пустил искать против ветра галсами.
Ветру она не взяла, но нижним чутьем прихватила и принялась строчить, как на швейной машинке, пока не нашла. Стойки опять не было, опять она спихнула чибиса носом. Я проделал то же сто раз и ничего не добился: причуять по воздуху и остановиться собака не могла. Я ушел с болота в раздумье: очень может быть, что собака за два года комнатной жизни в Москве потеряла природное чутье. Но, может быть, в новых условиях чутье возродится.
Ляхово болото, где я проделывал опыты с чибисами, от меня восемь верст. Мне невозможно было ходить туда часто и следить, когда появятся на чистых местах бекасы и дупеля. Но зато у себя, возле озера, в болотных зарослях, я нашел болотнику десятины в две, и Кэт сковырнула тут двух старых бекасов. По этим двум бекасам я и стал ежедневно натаскивать собаку. Все-таки и эта прогулка у меня отнимала утром часа два, и притом каждый раз необходимо было переодеваться, потому что пролезать на болотнику надо было по очень топким местам. И досадно же было возвращаться всегда с одним и тем же результатом: Кэт, ковыряя в болоте, спугивала бекасов без всякой для себя пользы.
Однажды я взял с собой на болото ружье и убил одного из бекасов. Он свалился в крепь. Кэт его там разыскала, но совершенно так же, как молодого чибиса: крутилась до тех пор, пока уставилась в него носом в упор. Все-таки польза была от этого, что она познакомилась с запахом птицы, так что на другой день я мог рассчитывать на какое-нибудь новое достижение.
Муки творчества, я думаю, переживают не только поэты, в собачьих делах муки не меньше, и тоже вдруг ночью приходит в голову иногда ясная мысль, от которой потом начинаются новые пути в исканиях. Мне вспомнился ночью спор в журнале «Охотник» о жизни бекасов: одни писали, что самец-бекас после оплодотворения самки не участвует в дальнейшей жизни семьи, другие, напротив, говорили, что бекас-самец часто держится возле гнезда. И вот я подумал о своих двух бекасах, что один был самец, а другая – самка, и что тут вблизи должно быть у них непременно гнездо. Утром я с большим интересом иду на болотце. Кэт ковыряется, бекас вылетает, она добирает и торчит в одной точке. Раздвигаю болотную траву и нахожу на кочке четыре бекасиных яйца, поражающих своей величиной относительно тела самого бекаса.
Хорошо, как хорошо. Я теперь буду ежедневно приучать собаку к стойке, буду непременно подводить на веревочке, разовью постепенно чутье, потом выведутся молодые бекасы, буду их ловить, прятать…
Как интересно было на другой день прийти на это болото, но того, что случилось, я не ожидал. Всего от входа в болотце и до гнезда, я думаю, шагов двести, и вот как только вышла Кэт из кустов, самое большее, может быть, прошла шагов пятьдесят, значит, уже наверно на полтораста шагов, делает стойку, ведет, ближе, ближе, да как ведет-то: тяп, тяп своими тонкими ножками, как балерина. Сапожищи у меня конские, огромные, их сделал один безработный поп, и так хозяйственно, что нужно на ногу целый дом тряпья навернуть. Она ступит, и слышно разве только, что капелька стукнет о воду. Я иду, как мамонт. Из-за моего шума она останавливается, смотрит на меня страшно строго и только не говорит:
– Тише, тише, хозяин!
Шагов за пять она остановилась окончательно, я оглаживал ее, поощрял двинуться еще хоть немножечко, но дальше двинуться было невозможно: как только я хляпнул одним поповским сапогом, бекасиха вылетела.
Кэт взволновалась, казалось, говорила:
– Ах, ах, что такое случилось?
Но с места не двинулась. Я позволил ей осторожно подойти и понюхать гнездо.
Я был счастлив, но когда выходил с болота, то заметил начало болотного сенокоса, и мне сказали, что это болотце тоже будут косить сегодня же вечером. Нельзя было попросить крестьян не трогать гнезда, их было много, и один непременно нашелся бы такой, который нарочно бы и разорил, если бы я попросил. Я вернулся на болото, срезал несколько ивовых веток, воткнул их возле гнезда, и получился кустик. Я боялся только одного, что бекасиха испугается веток и бросит гнездо. Нет, на другой день Кэт повела меня по скошенному болоту совершенно так же, как и вчера, и остановилась возле окошенного кустика опять на пять шагов, и опять бекасиха вылетела.
Одновременно со мной, конечно, где-то в других местах, натаскивали своих собак художник Борис Иванович и один доктор. У Бориса Ивановича был французский пойнтер, у Михаила Ивановича ирландская сука. Вот я позвал их к себе, будто бы просто чаю попить, побеседовать, а потом завел их в болотце и показал…
Словом, я затрубил в трубу, счастье мое было так велико, что даже неловко было, и я говорил художнику:
– Вы очень умно сделали, Борис Иванович, что для натаски взяли пойнтера, видите, мой в три недели готов.
Доктору я говорил:
– Вы очень умно сделали, Михаил Иванович, что выбрали ирландского сеттера, поработаете, но зато потом уж собаку получите незаменимую.
Конечно, они мгновенно разнесли слух о моих необыкновенных способностях натаскивать собак, и в своем месте я стал знаменитостью.
Нет, молодые собачники, охотники, молодожены, поэты, не верьте никогда внезапному счастью, знайте, напротив, что иллюзия эта на самом деле есть величайший барьер на вашем пути, и вы должны не сидеть на нем, а перескочить. Неделю, не больше, я наслаждался идеальными стойками замечательно породистой Кэт…
Болотце, когда сено убрали и прошло еще с неделю времени, еще лучше позеленело, чем было, и раз, когда я пришел на него в чудесный серенький день, выглядело страшно аппетитно, казалось, вот-вот должен вылететь бекас. И он, правда, как только ступила Кэт, вылетел. Она на него не обратила никакого внимания. Потом вылетел у нее прямо из-под ноги совсем еще молодой бекасенок. Собака, не обращая внимания, вела к гнезду, как безумная. И другой молодой вылетел, и третий, и четвертый, пятый… Она все вела и вела. И так же, как раньше, стала мертво в пяти шагах от гнезда, а когда я посмотрел, в гнезде были только скорлупки.
Я подумал, что гнездо пахнет сильнее самих бекасов, и выбросил скорлупки.
На другой день собака вела по кочке.
Уничтожаю кочку, складываю на месте гнезда сушь, зажигаю костер.
Собака сталкивает ногой молодых бекасов и ведет по кострищу.
Значит, все время с самого начала она работала только по памяти.
Значит, все было только представление.
Значат, собака не чует самую жизнь, а только ее представляет. Это не собака – друг и помощник охотника, не производительница живых чутьистых щенков, – это собака-актриса.
Многие охотники в таких случаях выстрелом кончают с такой собакой. Я же решил попробовать уговорить ее прежних хозяев взять ее обратно, намекнув на обычный конец таких собак у охотников.
В день разрешения охоты я позабавился с ребятами стрельбою уток: это не моя охота. Через неделю ходил по тетеревиным выводкам – люблю, но не совсем. Я люблю стрелять самых поздних тетеревов, и когда собака останавливается на громадном от них расстоянии, сам соображаешь, как бы так зайти, чтобы их встретить, и когда это удастся, то каждый убитый за десять летних считается.
Рябина все краснеет и краснеет. Стрижи давно улетели. Табунятся и ласточки. Скосили овсы. Пожелтели сверху донизу липы, а в болотах осины и березы. Было уже два легких морозца. Почернела ботва картофеля, и начался разрыв души у охотника: в лесу – интересные черные тетерева, в болоте – жировые бекасы, в поле – серые куропатки.
Стараюсь все захватить, но сказали:
– Вчера Борис Иванович убил пролетного дупеля.
Тогда тетерева, куропатки – все брошено, и я за восемь верст в Ляховом болоте стерегу валовой пролет, и если сегодня два убито, а завтра три, говорю: подсыпают.
Вот однажды в самый разгар дупелиных высопок мои ужасные сапоги поповской работы наконец-то растерли так мою ногу, что идти в болото было уже невозможно. Нанять лошадь во время рабочей поры и дорого и, главное, мне стыдно: такой уж я уродился, не могу ехать на охоту.
Денек задумался. В больших березах золотые гнезда. Такая грустная, такая жалкая подходит ко мне Кэт. Как она похудела!
Мне стало жалко хорошенькую собачку. Серые куропатки у нас прямо за двором на жнивье, и потому, что это так близко, я их за дичь не считаю, берегу, не стреляю. Но почему же не попробовать на них собаку и парочку не убить на жаркое?
Выхожу в поле в сандалиях. Ветерок дует как раз на меня. Пускаю Кэт, как яхту, галсами против ветра. На одном из первых галсов она схватила воздух, прыгнула в сторону и стала. Она постояла немного и грациозно, как балерина, прыгнула в другую сторону, опять стала и глядела все в одну точку. Потом она постояла и начала все это пространство между мной и невидимой целью, бегая из стороны в сторону, срезать, как сыр, тонкими ломтиками. Когда, обнюхав, она поняла, что уже недалеко, вдруг повела совершенно так же, как тогда по пустому бекасиному гнезду.
Стала она, как мотор, вся дрожала, удерживаясь с трудом от искушения прыгнуть в самую точку запаха.
И вдруг! Знаете, с каким треском вылетает громадный, штук в тридцать, табунок серых куропаток? Я выстрелил и раз и два. Обе куропатки упали недалеко.
И она это видела.
Тогда-то, наконец, мне все стало ясно. Я натаскивал собаку в лесном болотце, окруженном кустами, где не было движения воздуха. Там она не могла понять, что от нее требуют, и тыкалась носом в землю. Тут от сильного ветра у нее сразу пробудилось забитое Москвой уменье пользоваться чутьем.
Но раз она поняла по куропаткам, то непременно должна в открытом болоте взять бекасов и дупелей. Я совсем и забыл, что вышел в сандалиях, что с собой у меня нет и корочки хлеба. Да разве можно тут помнить! Прямо, как есть, я спешу, почти что бегу в Ляхово болото за восемь верст.
Первое испытание было в очень топком месте, так что собаке было по брюхо. Она повела верхом к темнеющей кругловинке. Это оказалось прошлогодней остожиной. Там поднялись сразу дупель и бекас. Я успел убить только дупеля. Но она разыскала и перемещенного бекаса. Я убил и бекаса. А потом все пошло и пошло.
Ляхово болото тянется на пять верст, а солнце спешит. Я до того дохожу, что прошу солнце хоть немножечко постоять, но бесчеловечное светило садится. Темнеет. Я уже и мушки не вижу, стреляю в наброс.
Потом я выхожу из болота на жнивье и чувствую страшную боль в ноге: жнивье впилось в мои раны, а сандалии давно и совершенно нечувствительно для меня утонули в болоте.
После больших и прекрасных охот в Ляхове мне случилось однажды зайти на ту болотинку-сцену, где Кэт когда-то давала свое, чуть не погубившее ее жизнь, представление. И вот какая у них, оказывается, память: ведь опять подобралась и повела было по пустому месту, Но запах настоящего живого бекаса перебил у нее актерскую страсть, и, бросив фигурничать, она повела в сторону по живому. Я не успел убить его на взлете, стал вилять за ним стволом до тех пор, пока в воздухе от этих виляний мне не представилась как бы трубочка, я ударил в эту трубочку, и бекас упал в крепь. В этот раз я наконец решился послать собаку принести, и скоро она явилась из заросли с бекасом во рту.
Иногда я, отправляясь в лес с собакой, зарекаюсь не говорить с ней ничего человеческими словами и объясняться только глазами, движением руки да в крайнем случае нечленораздельными звуками. Это не очень легко, но зато объяснение с животным в молчании заставляет напрягать внимание, и начинаешь понимать его душу, как бы из себя самого. Так, мне кажется, я понял любовь Ярика и Кэт в их молчании больше, чем если бы они разговаривали, а я бы подслушивал.
Они встретились неважно. Он ее немного понюхал, ей не понравилось, он отошел и залег в углу. С этого часа у него переменился характер: рыжий красавец с шестинедельного возраста привык получать от нас неразделенные ласки. Я не очеловечиваю животных, не идеализирую, у меня есть доказательства, что у охотничьих собак высшей породы связь с человеком в охоте сильнее голода: как бы ни был голоден Ярик, он бросает еду, если только завидит меня с ружьем. Нашу связь в охоте не может нарушить даже любовь в момент ее самого сильного животного напряжения. Было это вскоре после того, как мне доставили Кэт, у нее началась пустовка, и потому пришлось Ярика отправить в сарай к гончему Соловью. Не обращая внимания на болезнь Кэт, я продолжал ее натаскивать в лесу и болоте, потому что я жил вдали от деревни и мало было опасности встречи с другими собаками. Однажды, раздумывая о силе охотничьего инстинкта у собак, я решился на рискованный опыт и захватил с собой вместе с Кэт и Ярика. Это было опасно не только потому, что немецкая легавая могла в кустах повязаться с ирландским сеттером и дать ненужное мне потомство ублюдков, но главное, что Кэт уже второе поле проводила без натаски, и если пропустить еще одно, то собака уже наверное останется неученой. И все-таки, в задоре своих психологических раскопок в собачьей душе, я решился на опыт и пустил Ярика и Кэт сначала в поле, а потом в кустарники. В этот день я пережил несколько минут большого волнения, когда обе собаки, исчезнув в кустах, не вернулись. Я бросился вслед за ними, но не нашел их в том направлении, обежал весь предполагаемый круг, – их не было, свистел, – не приходили. Тогда, потеряв равновесие, я носился по кустам без всякого расчета, проклиная свою рискованную затею. К счастью, пестрая, кофейно-белая рубашка немецкой легавой мелькнула наконец перед моими бегающими в волнении глазами, и по ней уже я открыл и Ярика. С безумно устремленными на невидимых в траве птиц глазами Ярик стоял, как бронзовый, а за ним, еще ничего не понимая в охоте, в полном недоумении стояла Кэт и роняла на траву и лесные цветы алые густые капельки крови. А ведь у них было довольно времени, чтобы подготовить мне встречу совершенно другую. Значит, моя правда: охотничьи собаки потому и охотничьи, что искусство, от которого они ничего себе не получают, им дороже самой могучей, приводящей весь мир в движение страсти.
После этого опыта я возвращался домой счастливый, и он дает мне смелость признаться: я тоже раз в жизни упустил свою Кэт, устремленный страстью своей к какой-то невидимой цели. Теперь я счастлив узнать, что так бывает не только у людей, но и у животных высшей породы; значит, в мире я не совсем одинок, и – вот в этом, я так теперь понимаю, и состоит наше счастье, когда-нибудь, в какую-нибудь благословенную минуту почувствовать себя в мире не совсем одиноким.
Мне пришлось потом еще несколько дней продержать Ярика вместе с гончим в сарае, но я часто заходил к нему и ласкал, называя совсем другим, человеческим, именем, и Кэт ласкал, называя просто Катюшей. Это мое собственное изобретение – двойные собачьи имена: одно на работе, другое дома, одно для безусловного повиновения, другое, позволяющее иногда быть собаке деспотом своего господина. Да, попробуйте-ка удержаться в роли строгого дрессировщика, когда Ярик сфинксом, сложив крестиком передние лапы, разляжется на окне и в солнечных лучах его красная шерсть светится не передаваемыми нынешними художниками какими-то тициановскими тонами. В эту минуту я говорю ему почему-то:
– Кирюша, дорогой мой!
Он и не тронется, напротив, отлично понимая, что я наслаждаюсь его красотой, еще крепче застынет в своей гордой позе.
А если я скажу даже совсем тихо:
– Ярик! – он делает что-то с ушами, умиляется, разрушает великолепные крестики своих лап и, постукивая, начинает своим волосатым хвостом подметать пол.
После опыта в лесу во время пустовки Кэт у нас с Яриком было большое человеческое объяснение в сарае, но я заметил по его гордой манере как бы некоторый налет отчужденности. И потом, когда пустовка окончилась и я ввел его опять в дом, он стал держаться иначе. Вот наливается в собачью чашку суп. Этот знакомый звук привлекает Кэт, и она стоит в ожидании, мелькая своим обрубком. Раньше, бывало, и Ярик спешил, а теперь он лежит в углу, не обращая на звук никакого внимания: он очень горд и не хочет соваться. В этом он доходит до того, что неохотно и подымается, когда его прямо зовешь обедать. И когда мы обедаем, бывало, прежде Ярик дежурил в ожидании лакомого кусочка, теперь он лежит под столом, а Кэт дежурит и так напряженно следит за всем, что даже противно, возьмешь и прогонишь. Но Ярик и в отсутствие Кэт никогда уж не займет прежнего своего положения возле стола. И мы понимаем дома все, что Ярик не прежний Ярик, что он никогда не простит нам появления Кэт.
Когда наступило время охоты, у меня явилась заминка в отношении Кэт, я не понял ее способностей и охотился с Яриком. Снова Ярик занял прежнее положение, являлся первый по звуку наливаемой пищи, сидел у стола во время обеда, а Кэт сзади его мотала обрубком и так неприятно-умно глядела, что часто получала от нас: «На место!» К концу охоты вдруг Кэт на охоте взяла такое первенство, что с Яриком ходить мне стало неинтересно. Меня очаровала спокойная, умная работа немецкой легавой. Я решил перейти вообще на легавых и непременно получить от Кэт щенков. В этой местности для моей Кэт подходящим супругом мог быть только Джек, принадлежащий одному художнику. Во время дупелиного пролета мы решили познакомить собак, попробовать, как они будут ходить. И все вышло прекрасно. Мы часто, забывая готовить ружья для выстрела, любовались, как расходились умные собаки для поиска, сходились, опять расходились и останавливались на следах, потом подводили, стояли неподвижно и оглядывались на нас, торопя, когда, любуясь, мы не спешили. После охоты мы варили себе на берегу болота чай и беседовали о будущем потомстве немецких легавых континенталь. Собаки, уморенные, свернулись калачиками. Они могли спокойно спать и не волновались, как люди, вопросами о бытии божием: мы были их боги, и судьба их была в наших руках.
Раз мы с ребятами в доме остались одни, и, когда Кэт начала свою игру с Яриком, мы разрешили собакам бегать вокруг стола, валять стулья, вскакивать на диван, не пожалели скатерть, сдернутую со стола вместе с чашками, не удержали собак, даже когда они, разгоряченные, принялись лакать воду из чистого ведра. Безумие собак и нас увлекло, и мы решили досмотреть игру до конца. Первое время Ярик, когда страсть его переходила законные границы, бросался на пол и ложился вверх брюхом. Кэт ложится на него и до того его наломает, натормошит, что он, совсем обессиленный, лежит, свесив язык, и хахает. Но вот ловкая, тонкая, как змея, неистощимая в придумках Кэт выводит его совсем из себя, он вдруг вскакивает, бросается к ней, крепко охватывает ее шею лапами, а сам перемещается. На мгновенье она задумывается и вдруг, оскалив зубы, с рычанием кидается на него и больно кусает. Опустив хвост, Ярик, весь какой-то жалкий, помятый, ложится на свой матрасик и с темными пятнами вокруг своих человеческих глаз долго, не отрываясь, глядит на ножку стула.
На следующий день он ей не отвечает на ласки, она пристает, он глухо рычит, она не обращает внимания на рык, – прыгает через него, хватает за уши, за хвост, теребит его лапами так, что летит рыжая шерсть. У Ярика есть такой затаенный прием ловить кусочек, когда мы, балуясь, подвешиваем его на нитку и делаем в воздухе недалеко от его пасти разные фигуры: он как будто не обращает внимания, а сам долго вымеряет, рассчитывает и, внезапно бросаясь, всегда безошибочно ловит. Так и в игре с Кэт он вдруг бросился, все рассчитав верно и упустив только одно, что никогда он не может получить, если время еще не пришло. Он получил хороший укус. И какое унижение для такой гордой собаки: лезет, несмотря на острые зубы, еще получает и опять лезет. Но, конечно, она заставила его вернуться в свой угол, и тут он опомнился и увидел, наверно, сам себя простым кобелем, жалким, искусанным, обиженным. До вечера он зализывает свои раны, а ночью ходит из угла в угол. Просыпаясь, я думаю, что ему надо выйти, выпускаю, он возвращается и опять начинает ходить. Сквозь тонкий сон я до утра слышу, как по сухому гулкому полу стучат его коготки.
Утром я замечаю у Кэт известные признаки, записываю число и увожу Ярика в сарай к гончей. Потом все совершается точно по рациональному руководству ухода за породистыми собаками. На одиннадцатый день явился ко мне Борис Иванович с Джеком, и мы повязали его с Кэт.
Эта любовь, как мы заметили по часам, продолжалась пятнадцать минут.
Зима держалась утренними и вечерними морозами. Ночью все подваливал снег, – но с нашей горы ветер сдувал снежную пыль, и на солнце гора наша сверкала ослепительно чистым серебром. Громоздились новые летние облака над снегами, в лесах просвечивает голубое небо, вороны орут, не помня себя, синички все до одной поют брачным голосом, на лисьих следах показалась менструальная кровь.
Из шестидесяти трех дней собачьего плодоношения приходят последние. Даже самые маленькие верхние сосцы Кэт заметно набухли и все вместе стали грядочками, мало-помалу принимая чудесный вид сосцов сказочной волчицы, вспоившей Ромула и Рема. Кэт не становилась безобразной, как люди, даже в самые последние свои дни/ потому что все ее тяжелое было внизу, и там, у земли, это было на месте и хорошо. Мы накупили много говяжьих костей, варили прекрасный бульон и, смешивая с овсянкой, давали ей, сколько она пожелает. Но всего поесть она никогда не могла. После нее из-под лавки появляется Ярик, очень осторожно подходит и доедает: он вообще как-то стушевался, осмирнел. Весь день он в львиной позе, сложив передние лапы крестиком, лежит на окне в лучах весеннего солнца и мечтает, вероятно, о близких уже днях весеннего перелета птиц. Я тоже много сижу у окна и очень часто, совсем не думая о Ярике, вместе с ним одинаково повертываю голову в ту и другую сторону, смотря по событиям в снегах за окном. Я задумываю новый план дрессировки собак, чтобы вся учеба проходила в полном молчании, чтобы все объяснения были бы только глазами и движениями рук. Вот если этого достигнуть, то можно приблизиться к совершенному пониманию их души прямо из себя самого. Тогда, может быть, научусь и любовь их понимать и буду рассказывать о чувствах Ярика во время беременности Кэт так же, как Толстой рассказывал о Китти и Левине.
Пока я такое разное и множество еще всего думал, повертывая голову вместе с Яриком за переходящими голубыми тенями кучевых облаков на снегах, Кэт разыскивала меня по комнатам и, увидав у окна, подбежала и легла. Она что-то просит. Я иду, она вскакивает и бежит к двери. Выпускаю, она быстро оправляется и назад. Я не догадываюсь и остаюсь несколько времени один на дворе, а когда возвращаюсь домой, то сразу же обращаю внимание на какие-то особенные звуки в комнате Кэт: она там громко беспрерывно лакает и лижет. А когда я вошел к ней, то увидел возле нее маленькую, новую, слепую собаку с совершенно такими же, как у нее, по белому кофейными пятнами. Нам не нужно было ей помогать, она делала все сама языком, откусывала, проглатывала и так хорошо вычищала, что щенятки в белых местах сияли, как самый первый снег. Все шло так благополучно, только на пятом белки ее глаз стали голубыми, она обессилела и повалилась. Но мы дали ей немного вина, и она родила последнего – шестого, и это был, к счастью, ожидаемый Рем. Нам особенно нужны были кобельки, и их родилось только два – Ромул и Рем.
Проходит несколько минут самоакушерства, мытья, и вот все готово, нигде нет ни малейшего пятнышка, чисто вымытые слепые дети друг через друга с писком ползут, знают куда, находят, присасываются. Теперь, друзья жизни, идите, смотрите молча в эти глаза матери, об этом нельзя говорить…
Так мы смотрели, и вдруг все изменилось: мать дрогнула, лютой злобой загорелись глаза, ощетинилась шерсть от шеи до хвоста. Мы оглянулись и увидели в дверях рыжую голову Ярика: он тоже захотел посмотреть. Еще хорошо, что он успел повернуться, и она впилась ему не в горло, а в зад. Он бежал с визгом, она преследовала его до кухни. Потом вернулась, легла и мелко, мелко дрожала до самого вечера.
К нам приехали гости, за чаем я рассказывал о собачьей любви, как Ярик тогда, в первую пустовку, стоял по невидимой дичи, не обращая внимания, что Кэт роняла на траву густые капельки крови, как зимой они целый месяц играли, и о Джеке рассказал, и об этой непонятной злобе Кэт, когда Ярик тоже захотел посмотреть и просунул в дверь свою рыжую голову.
– Почему непонятной? – сказала одна дама, очень опытная в любви. – Будь у меня такой Ярик, я бы его в клочки разорвала.
– Но ведь он же не виноват, – ответил я, – ведь это мы, боги собачьи, дали иной ход любви и заменили Ярика Джеком.
– Боги тоже ошибаются, – сказала дама, – у него был такой прекрасный случай в кустах, а он дураком простоял по невидимой дели.
Знаю, мало кто сиживал раннею весной на болотах в ожидании тетеревиного тока, и мало слов у меня, чтобы хоть намекнуть на все великолепие птичьего концерта в болотах перед восходом солнца. Часто я замечал, что первую ноту в этом концерте, далеко еще до самого первого намека на свет, берет кроншнеп. Это очень тонкая трель, совершенно не похожая на всем известный свист. После, когда закричат белые куропатки, зачуфыкают тетерева и токовик, иногда возле самого шалаша, заведет свое бормотанье, тут уж бывает не до кроншнепа, но потом при восходе солнца в самый торжественный момент непременно обратишь внимание на новую песню кроншнепа, очень веселую и похожую на плясовую: эта плясовая так же необходима для встречи солнца, как журавлиный крик.
Раз я видел из шалаша, как среди черной петушиной массы устроился на кочке серый кроншнеп, самка; к ней прилетел самец и, поддерживая себя в воздухе взмахами своих больших крыльев, ногами касался спины самки и пел свою плясовую. Тут, конечно, весь воздух дрожал от пения всех болотных птиц, и, помню, лужа при полном безветрии вся волновалась от множества пробудившихся в ней насекомых.
Вид очень длинного и кривого клюва кроншнепа всегда переносит мое воображение в давно прошедшее время, когда не было еще на земле человека… Да и все в болотах так странно, болота мало изучены, совсем не тронуты художниками, в них всегда себя чувствуешь так, будто человек на земле еще и не начинался.
Как-то вечером я вышел в болота промять собак. Очень парило после дождя перед новым дождем. Собаки, высунув языки, бегали и время от времени ложились, как свиньи, брюхом в болотные лужи. Видно, молодежь еще не вывелась и не выбиралась из крепей на открытое место, и в наших местах, переполненных болотной дичью, теперь собаки не могли ничего причуять и на безделье волновались даже от пролетающих ворон. Вдруг показалась большая птица, стала тревожно кричать и описывать вокруг нас большие круги. Прилетел и другой кроншнеп и тоже стал с криком кружиться, третий, очевидно, из другой семьи, пересек круг этих двух, успокоился и скрылся. Мне нужно было в свою коллекцию достать яйцо кроншнепа, и, рассчитывая, что круги птиц непременно будут уменьшаться, если я буду приближаться к гнезду, и увеличиваться, если удаляться, я стал, как в игре с завязанными глазами, по звукам бродить по болоту. Так мало-помалу, когда низкое солнце стало огромным и красным в теплых, обильных болотных испарениях, я почувствовал близость гнезда: птицы нестерпимо кричали и носились так близко от меня, что на красном солнце я видел ясно их длинные, кривые, раскрытые для постоянного тревожного крика носы. Наконец обе собаки, схватив верхним чутьем, сделали стойку. Я зашел в направлении их глаз и носов и увидел прямо на желтой сухой полоске мха, возле крошечного кустика, без всяких приспособлений и прикрытия лежащие два большие яйца. Велев собакам лежать, я с радостью оглянулся вокруг себя: комарики сильно покусывали, но я к ним привык и даже благодарил этих стражей болот, этих поющих демонов, что не пускают дачников и всяких гуляющих людей; благодаря им болота остаются единственно вполне девственной землей, принимающей к себе только тех, кто может много терпеть, не теряя радостного духа.
Как хорошо мне было в неприступных болотах и какими далекими сроками земли веяло от этих больших птиц с длинными кривыми носами, на гнутых крыльях пересекающих диск красного солнца!
Я уже хотел было наклониться к земле, чтобы взять себе одно из этих больших прекрасных яиц, как вдруг заметил, что вдали по болоту прямо на меня шел человек. У него не было ни ружья, ни собаки и даже палки в руке; никому никуда отсюда пути не было, и людей таких я не знал, чтобы тоже, как я, могли под роем комаров с наслаждением бродить по болоту. Мне было так же неприятно, как если бы, причесываясь перед зеркалом и сделав при этом какую-нибудь особенную рожу, вдруг заметил бы в зеркале чей-то чужой изучающий глаз. Я даже отошел от гнезда в сторону и не взял яйца, чтобы человек этот своими расспросами не спугнул бы мне, я это чувствовал, дорогую минуту бытия. Я велел собакам встать и повел их на горбинку. Там я сел на серый, до того сверху покрытый желтыми лишайниками камень, что и селось нехолодно. Птицы, как только я отошел, увеличили свои круги, но следить за ними с радостью больше я не мог. В душе родилась тревога от приближения незнакомого человека. Я уже мог разглядеть его: пожилой, очень худощавый, шел медленно, наблюдая внимательно полет птиц. Мне стало легче, когда я заметил, что он изменил направление и пошел к другой горушке, где и сел на камень, и тоже окаменел. Мне даже стало приятно, что там сидит такой же, как я, человек, благоговейно внимающий вечеру. Казалось, мы без всяких слов отлично понимали друг друга, и для этого не было слов. С удвоенным вниманием смотрел я, как птицы пересекают красный солнечный диск; странно располагались при этом мои мысли о сроках земли и о такой коротенькой истории человечества: как, правда, все скоро прошло.
Солнце закатилось. Я оглянулся на своего товарища, но его уже не было. Птицы успокоились, очевидно сели на гнезда. Тогда, велев собакам крадучись идти назад, я стал неслышными шагами подходить к гнезду: не удастся ли, думал я, увидеть вплотную интересных птиц. По кустику я точно знал, где гнездо, и очень удивлялся, как близко подпускают меня птицы. Наконец я подобрался к самому кустику и замер от удивления: за кустиком все было пусто. Я тронул мох ладонью: он был еще теплый от лежавших на нем теплых яиц.
Я только посмотрел на яйца, и птицы, боясь человеческого глаза, поспешили их спрятать подальше.
А на краю болот жили люди, и они тоже боялись «глазу». Во мраке наступившей ночи в глазах моих не потухал диск красного солнца, и я понимал, что люди страх свой перед «глазом» сохранили в себе еще с тех далеких времен, когда сами жили, как птицы.
Ребята весь день у нас в сенном сарае дулись в карты и напевали:
Во субботу, день ненастный…
А была, и вправду, суббота, и дождик шел. Очень люблю эту уютную песенку. Слушаю ее вместе с дождиком и занимаюсь у окна своими тетрадками. Песня прекратилась. Глянул, и не верю глазам: все картежники валят в лес, и с ними девица под зонтиком, в короткой городской юбке и в белых чулках. Все они смеялись, острили; похоже было, как если бы вся деревня в Троицу собралась в лес на гулянье. Хозяин мой, по своему обыкновению, что-то забормотал, и я ничего у него не мог разобрать: у него от рождения потревожен язык. Понять его можно, только если закричит на всю улицу, и это выходит совершенно как в радио, за что мы все и зовем его Громкоговорителем. Другой крестьянин, сидевший на лавочке, был Абрам Иванович, бывший кулак. Он моргнул мне в сторону леса значительно, поднялся и шепнул:
– Это гулянье и эта девица только для видимости, – пошли человека ловить.
Из рассказа, очень неясно, выходило, что в малиннике бабам показался медведь, а это был не зверь: человек неизвестный, и у него вроде как бы мерлога сделана, тоже мохом обложено, огонь разведен. Неизвестный человек ножиком пишет палочки, проволока у него тоже там, наденет на проволоку гриб, погреет на огне и съест, тоже ягодка собрана – черника, и ягоду ест…
– Видел! – вспомнил я. – Вчера проходил там, собака залаяла. Поглядел, а он сидит. Я даже внимания не обратил: я хожу, почему же ему не сидеть?
– Напрасно не обратили внимания, – человек неизвестный, это серьезное дело.
Вскоре послышался шум, гам: из деревни с криком: «Поймали, ведут!» – бросилось все остальное население, потом тронулся Громкоговоритель и степенно зашагал Абрам Иваныч.
Я остался. Мне из окна было видно, как все пошли в прогон и потом завернули к избе председателя. Старушка, тетка Громкоговорителя, скоро пришла оттуда, сказала, что бандит настоящий и даже с наганом.
Большая толпа перед избой председателя гудела, и только изредка вырывались отдельные голоса Абрама Иваныча и Громкоговорителя. Конечно, разные приятели время от времени прибегали к моему окну и докладывали о ходе событий. Моя позиция в стороне казалась мне выгодной: в случае перехода толпы к самосуду внезапное мое появление могло человека спасти.
– Значит, – спрашивал я, – главная вина в том, что наган оказался?
– Это Мишкин наган, – ответили мне, – когда с песнями гуляли в лесу, Мишка прокрался к берлоге и прямо приставил ему к виску наган. Так и взяли.
– В чем винят?
– Паспорта нет и плетет ни на что не похожее, что будто бы он беспризорный, кончил школу в колонии столяром и даже на фабрику был определен, да там ему не понравилось: ушел в лес и делает палочки, по гривеннику за штуку продает, и этого ему хватает на жизнь.
– А отчего бы ему так и не жить? – спросил я. – Грибы есть и ягоды, никого не беспокоит…
– А паспорт?
– Разве что паспорт…
Мало-помалу стемнело, и вдруг толпа с бандитом двинулась к нашему дому. Оказалось, наш дом был на череду для ночлега. Я было обрадовался познакомиться с интересным человеком, но тетка Громкоговорителя взвыла и с рублем в руках бросилась к бедному соседу. Там привыкли ко всему и, увидев рубль в руках у старухи, с большой радостью согласились пустить к себе ночевать разбойника. Было уже почти совсем темно, не очень ясно удалось мне разглядеть бандита, но все-таки лицо безбородого юноши – круглое, наивное, с большими светлыми глазами – показалось приятным. Впрочем, конечно, есть очень много бандитов и с приятными лицами.
Постепенно толпа расходилась, но Абрам Иваныч продолжал выговаривать председателю:
– Надо бы ехать за милицией и стражу поставить.
Председатель колебался. Охранитель деревенского стада непрерывно точил:
– А если окажется настоящий, ценный бандит и ночью сбежит?
Председатель молчал.
– Тебе отвечать.
Дождик снова забарабанил по крыше, нехороший, чеховский, как в ноябре. Я в природе боюсь одного ноября с холодными забойными дождями, когда старики простужаются.
Чуя приближение к себе тоски, от которой, если распустишь себя, и на другой день не оправишься, я крикнул собаку, взял ружье и пошел в тьму морить себя на грязной лесной дороге.
Не прошел я в лесу и версты, как мне послышалось, будто впереди навстречу едет телега. Бывает в лесу такая мертвая тишина, когда людям одинаково с животными становится жутко и от мельчайшего пустяка охватывает ужас. Я, конечно, справляюсь со всем и в действиях своих не теряюсь, но внутри меня все происходит, как у последнего труса и суеверного дикаря. На войне я долго стыдился в себе этого тайного труса, пока один признанно храбрый начальник не объявил мне, что то же постоянно бывает и с ним. Вот и теперь в этой лесной тьме и жуткой тишине слышу я приближение телеги и чую: «За мной это, за мной!» Я бы, конечно, прыгнул в лесную чащу и пропустил бы эту страшную телегу, но дорога была обрыта канавами, и по небывало мочливому лету канавы стали как реки, и в тьме рассчитать прыжок было невозможно. Оставалось идти назад, но тут была черта, отделяющая меня от настоящего труса: стыдно человеку с ружьем и собакой отдаваться неопределенному страху.
– Вперед, мой друг! – сказал я собаке.
Она прижалась к ноге.
– Вперед! – повторил я.
Она пробежала несколько шагов и стала.
Показалась белая голова лошади и тоже на мгновение остановилась и как бы повисла во тьме. Лошади, наверное, показалась моя собака.
Белая собака!
– Вперед!
Собака тихонечко двинулась.
Белая собака!
И в один миг на пути у меня ни лошади, ни телеги, ни сидящего в ней человека: все это трещало, ломалось и бултыхалось в канаве.
Чем виноват тысячелетний белый камень на перекрестке или столетний черный выворотень, а сколько проклятий от людей выслушали они, когда пугливые лошади ночью бросались от них круто в сторону и ломали оглобли! Всякий бывалый человек, будь это велосипедист, при появлении которого опрокинулся воз с огурцами, или охотник с белой собакой в ночной темноте, не подойдет помогать: тут предельная злоба и непобедимая потребность хотя бы даже из черного пня или белого камня сделать врага.
Я долго шел вперед, не оглядываясь, и повернул назад, когда при всяком расчете встреченный мной на пути человек должен был оправиться от беды и успокоиться. На месте аварии я зажег спичку: ни лошади, ни человека на дороге не было, в канаве лежала телега без оглобель.
В деревне меня встретили страшной новостью:
– Бандиты в лесу!
Второпях рассказали мне, что вооруженные люди напали в лесу на женщину, но, к счастью, лошадь от них бросилась в сторону, вывернула оглобли, и женщина сумела верхом ускакать и спастись.
Зачем было мне говорить о белой собаке?
Возле избы с арестованным теперь дежурила стража. Староста с вооруженной охраной поскакал за милицией.
На рассвете прибыл милиционер Харитоныч, которому не раз давал я советы о натаске собак. Большой любитель охоты, Харитоныч, конечно, ввалился прямо ко мне, и я прямо ему рассказал потихоньку все свое ночное о белой собаке и потом о симпатичных глазах пойманного бандита. Впрочем, утренний свет лучше всех нас делает. Когда мы явились к арестованному, увидели щупленького, улыбающегося и совершенно спокойного юношу, потом услышали его рассказ о жизни в лесу и о торговле писаными палочками, – не только у нас не было никакого сомнения в правде его слов, но даже и все мужики мало-помалу стали смеяться. Харитоныч сразу же хотел было отпустить беспризорника, но беспокойный Абрам Иваныч опять напомнил о паспорте.
Каждый дорожит своим положением, и Харитонычу непременно пришлось бы везти с собой беспризорника, но тут помогла его природная любовь к следопытству. Он увидел на одной из писаных палочек какие-то буквы, разобрал их, показал нам. и все мы прочли:
– «Егор Семеныч Ершов».
– Кто это Егор Семеныч? – спросил он арестованного.
– Ершов, – ответил юноша.
– А Ершов кто?
– Я сам.
И на всех шестнадцати палочках было одинаково написано: «Егор Семеныч Ершов».
– Ну вот вам и паспорт! – сказал Харитоныч, отпуская беспризорника.
После не раз мужики мне говорили о Харитоныче, что так мудро мог только царь Соломон рассудить.
Когда мокрая, холодная Нерль возвращается с болотной охоты, мать ее Кента вперед покрикивает, зная, что она, мокрая, непременно приблизится к ней погреться на теплом матрасике. А когда разлежится Нерль и мокрой возвращается Кента, молодая, любопытная Нерль, желая поскорее узнать, что я убил, вскакивает, и Кента занимает ее теплое место. Случается, я не иду на охоту, а только проведываю собак. Обе они тогда вскакивают, навязываясь.
– Меня возьми, меня возьми!
Поглажу одну, другую. Каждая думает от этого, что я ее возьму, а не другую, и от волнения лезут на грудь с лапами. Но это им строго запрещается. Я приказываю:
– Охоты не будет. Ложитесь на место!
И они ложатся на матрасики, но непременно Кента ложится на место Нерли, а Нерль на матрасик своей матери. Каждой собаке кажется, что место, занятое ее соседкой, теплее.
Случается иногда – заметишь внизу болотной кочки дырочку. Если туда побольше напустить дыма от папироски, то, бывает, в другое отверстие из кочки выползает ядовитая змея, гадюка. В солнечный день она забирается на верх кочки и там, свернувшись колечками, часами принимает свою любимую солнечную ванну. Крестьяне работают в болотах большей частью босые, потому случаи укуса ядовитой змеей бывают в каждой деревне. Тоже достается от змей и скотине. И за то крестьяне приговорили змей безоговорочно к смерти. Убивают все, глупый издевается, приговаривая: «Вот тебе! вот тебе!» – и бросает ее часто даже на дороге. Умный делает скоро, стиснув зубы, молчит и непременно зароет, полагая, что мухи и комары могут перенести змеиный яд на человека или скотину.
Мне встретились раз на болоте мужчина и женщина. он шел с косой, а она с граблями. Он со мной разговорился, она пошла к своей полосе и оттуда нам крикнула:
– Я вижу три змеи.
Мужик выломал палку, пошел к жене, повозился там в кусту:
– Одну прижал, большую.
Помолотил колом. Потом спокойно взял топор и, как будто делал это сотню раз, срубил кочку, бросил туда змею и кочкой прикрыл. После того он сказал как-то мрачно:
– Первый раз в жизни я убил змею.
Очень я удивился, – до того он спокойно и дельно расправился с гадюкой, что трудно было поверить его словам. Верно, был умный мужик и на всякий случай был готов.
Муж и жена принялись за работу, а по болотной тропе ко мне подошел один мой знакомый, звать его Николаем Василичем, считается самым умным и хорошим человеком в волости, три года подряд был даже председателем вика.
Я рассказал Николаю Василичу, что сейчас тут были три змеи, большую убили, а две маленькие увернулись и уползли.
– Пусть поживут, – ответил Николай Василич, – я всегда их жалею, когда убивают, змея человека не хочет жалить и от скотины бежит, она даже предупреждает шипением, но что же ей делать, если наступят на хвост?
Первый раз в жизни я встретил защитника змей и со смехом сказал:
– Вы как будто змеям сочувствуете.
– Совершенно верно, – серьезно ответил он, – я змеям сочувствую: змеи неповинны и очень умны, а нам приходится их убивать.
Какой-то особенный случай хотел было мне рассказать Николай Василич, но собака моя почуяла дичь, и мы расстались.
Однажды в праздник деревенские ребята играли в футбол, старшие сидели на лавочках, глядели и тихо между собой беседовали.
– Погодите, – остановил меня Николай Василич, – присядьте, я вам расскажу, какие умные змеи.
И вот что он мне рассказал:
– Когда я был председателем вика, мне каждый день приходилось ходить в волость по болотной тропе. Раз я так шел и увидел на кочке змею, лежит колечком и греется на солнце. Я подошел. Она подняла голову и на меня поглядела. Потом опять опустила голову. Я отошел и скоро оглянулся: она подняла голову и меня провожает глазами. Видите, какой ум?
– Не вижу, – ответил я.
– Ну, погодите, – послушайте дальше. Я на другой день прихожу в тот же час, поглядел, – она на своем месте лежит. Опять подняла голову, и я отошел. Так целую неделю: как я подойду, она голову подымает. Понимаете?
Я догадался.
– Вам показалось, она вас признала?
– Так именно: признала. Вот послушайте. Иду я из вика с одним мужиком, шел он в лес корову искать. Проходим мимо того куста. Мужик лезет прямо на куст и притом босой. «Обойди, – говорю, – тут змея». – «Как ты можешь знать?» – «Погляди». Оказалось – змея. Мужик был не очень умный, испугался меня, оторопел: «Как, – спрашивает, – ты мог узнать?» Я ему все рассказал, а он мне на это: «Чего же ты ее не убил?» – «Это у баранов, – сказал я мужику, – так постоянно, как один, так и другой, мне эта змея знакомая: вот взял, да и не убил». Мужик посмеялся. Ему некогда было, посмеялся и бросился в лес корову искать. На другой день заглянул я под куст, – нет моей змеи, кочка пустая.
Мне показалось, Николай Василич окончил рассказ, и я поспешил высказать о нем свое мнение:
– Рассказ ваш мне нравится, он правдивый: за неделю змея могла вас признать и, когда явился бестолковый шумный человек, ушла.
– Погодите, не кончилось, – сказал Николай Василич. – Когда мужик ушел, я подумал: «Не может змея от своего места далеко отползти, где-нибудь она тут». Обошел я куст, и действительно: она лежит на другой стороне. Подняла голову, узнала. В этот день шел я из вика с народом. После дождика показались грибы. Один молодой парень заметил:
– Вон красноголовик стоит, дай-ка я его возьму.
– Погоди, – говорю, – там змея лежит.
– Ты как знаешь?
И засмеялся, а сам лезет. Я его за рукав. И показал. Тут весь народ подивился, но я все объяснил: старик один белый тогда строго так спрашивает:
– Чего же ты ее не убил?
Я ему все по порядку, что хожу каждый день, она голову подымает, показал другому, перешла в иное место: признала меня.
Старик на это мне строго:
– Змея скотину нам портит, а он балуется, а еще председатель вика! Ребята, стой!
А ребята уж и палки взяли – змею убить.
– Стой, ребята, – велел старик, – дайте ему.
И скажи я тут на грех себе в глупое оправдание, как маленький:
– Дедушка, мне в жизни своей не приходилось змей убивать.
– Стой, ребята! – остановил старик. А они уж и палки приготовили.
– Погодите, ребята, – велит старик, – вот нашему председателю змей не приходилось убивать, пускай его поучится.
Что же делать было? Убил. Заставят, и еще убью, а сам от себя пальцем не трону, потому умная она: шипит, предупреждает, а скотина не слышит и прет. Да и наши мужики тоже хороши: калошкам грош цена, каждый умеет их сделать себе из старого голенища, нет, дурьи головы, лезут в болото босые.
В лесу много было тетеревов: все муравейники были расчесаны их лапами. Но одна кочка выглядела по-иному, в ней было значительное углубление; так тетерева не раскапывают, и я не мог догадаться, какое лесное существо пробило такую глубокую брешь в муравьиной республике.
Очень досадно бывает уходить, не решив лесной загадки, и так это часто бывает: тысячи вопросов ставит природа, а справиться негде, кроме как только в своей собственной голове. Обыкновенно я так и оставляю вопрос без ответа, но запоминаю его и верю, что дождусь когда-нибудь в том же лесу и ответа. Помню, раз стал передо мною в юности вопрос: отчего начинаются болотные кочки? Читал дома книги, и все ответы мне не нравились: причин указывалось множество, а все как-то неясно и предположительно. Раз я сел отдохнуть на лесной вырубке. Вокруг были пни на сыром месте, и между пнями на большом пространстве начался свежий моховой покров, так было красиво: эта моховая зелень была такой, как будто не солнце, а луна ее освещала. И везде весь этот лунно-зеленый покров был небольшими бугорками. Я подумал: «Вот первое начало кочек!» Вслед за этим, однако, опять стало непонятно: конечно, но этим началам легко можно было представить себе дальнейшее нарастание кочек, но где же причина этому началу? Тут сама рука помогла: взял я один бугорок, снял с него моховой покров, а под ним оказалось старое гнилое березовое полено, то полено и было причиной мохового бугорка.
На ходу у меня как-то все больше являются вопросы, а решения приходят на отдыхе. Так случилось и с этой, непонятным образом взрытой муравьиной кочкой. Мне захотелось тут чаю напиться. Отвинтив стаканчик термоса, я сел под сосной на мягкую моховую кочку, налил чаю, стал потихоньку пить, мало-помалу забылся и слился с природой. Темные, теплые дождевые облака закрыли солнце, и тогда вместе со мной все задумалось, и вот какая тишина наступила перед дождем: я услышал очень издалека порхание дятла, звук этот все нарастал, нарастал и вот… здравствуйте! – появляется и садится на вершине моей сосны. Подумал он там о чем-то немного, оглянулся во все стороны, и так смешно: на меня-то, на такого страшного великана, вниз и не посмотрел. Это я много замечал у птиц, – вертит головой, а под собой не видит. Не только дятлы, а и глухари, случалось, сидели долго так над головой во время моих лесных чаепитий. Так дятел не обратил на меня внимания и спустился на тот самый муравейник, о котором был поставлен вопрос, и ответ был у меня на виду: дятел забрался в отверстие муравейника и принялся там воевать, добывая себе какое-то пропитание.
А то был у меня один день этим летом, вот так денек, – столько загадок сразу, что согрешил: обругал одну ни в чем не повинную бабушку. Вышла у меня в этот день из рук на болоте первопольная моя собака Нерль. Не слушает свистка. Потяжка кончается взлетом бекаса без стойки. Я разгорячился, потерял себя, потому что мне надо было охотиться, а приходилось собаку учить. Делаю промах за промахом и опять спешу к наседающей на бекаса собаке, не успевая даже вынуть из волос своих вечно жужжащую пчелу. Наконец кое-как овладеваю собой, беру собаку к ноге, снимаю шляпу, взъерошиваю волосы, встряхиваю, и неприятнейший звук прекращается.
Так освободился от пчелы, стало полегче, и опять захотелось пострелять. Пускаю Нерль в карьер и вижу, шагах в пятидесяти от меня она опять начинает, переступая с лапки на лапку, подбираться к бекасу. Хотел поспешить к ней, чтобы задержать наступление, но сразу обеими ногами попал в коровий растоп. Выбираюсь из грязи, и слышу, опять эта же самая надоедливая пчела жужжит у меня в волосах во всю мочь.
«Чирк!» – взлетел бекас без стойки.
Не успел вскинуть ружье. А какой был хороший… И вдруг мне послышалось, опять чиркнул бекас, но не взлетел. Так, однако, не бывает. «Чирк!» – сзади другой. Обертываюсь, нет никого. Прислушиваюсь. Жужжит пчела в волосах, стрекочет сорока в кустах. Сделал предположение, что от волнения на ходу мне так по-бекасиному сорочий крик переиначивается. Но вдруг – «чирк!» – а сорока сама собой. Вот тут-то я и дошел до того, что обругал одну бабушку, которая при встрече вместо обычного «ни пера ни пуха» от всего своего чистого сердца пожелала: «Пошли тебе, господи, полную сумку набить!»
Измученный вошел я в лес на суходол, сел на заготовленные кем-то жерди, снял шляпу, хорошо перебрал свои волосы, пчелы не было, звук перестал. Мало-помалу силы мои стали возвращаться, и вместе с тем явилась моя обычная уверенность, что догадкой можно преодолеть всякую неприятность с собакой. Необходимость таких догадок вытекает, как я думаю, из неповторимости в природе индивидуумов; каждый человек, каждое животное хоть чем-нибудь да отличается между собой, а значит, невозможно для всех случаев найти общее правило и приходится непременно догадываться самому.
Пока я предавался таким размышлениям, Нерль тихонько встала, что-то причуяла на земле, робко взглянула на меня, сделала небольшой кружок, потом побольше. Я сказал ей тихонько, намекая на приказание лежать:
– Что сказано?
Она стала приближаться, но не сразу, а тоже кругами, не дошла, опять удалилась, и опять я сказал:
– Что сказано?
При этом я заметил, что Нерль, сдержанная в поиске, старалась как можно выше задрать нос и так заменяла невозможное для нее теперь копоройство потяжкой по воздуху. В этот момент у меня мелькнула догадка. Я встаю, иду вперед, и как только Нерль отходит от меня дальше десяти шагов, говорю ей тихонько:
– Что сказано?
Так мы подходим к кусту. Она останавливается. Я повторяю:
– Что сказано? – и держу ее долго на стойке. Потом вылетает черныш.
Конечно, я спешу опять на болото и сдерживаю поиск, дальше десяти шагов ей идти не разрешается, а потому она и поднимает голову вверх, чтобы причуять по воздуху. Вот прихватила, подбирается.
– Что сказано?
Останавливается, выше, выше поднимает нос, втягивает воздух, замирает, по ошибке лапу поджала сначала заднюю – не понравилось, поджала переднюю, и с этой лапы стала капать в лужу вода…
Я убил этого бекаса, потом убил другого и третьего, догадкой и упрямством мало-помалу снимая «колдовство» столь незаслуженно обруганной мной бабушки. И когда дошло до пчелы, которая продолжала жужжать, я догадался: пчела не в волосах была, а попала в шляпу за ленту. И последнее, – бекасиное «чирк», это было у меня что-то в носу, как в топком болоте, сильно потянешь в себя дыхание, так и чиркнет в носу совершенно по-бекасиному.
Наш пастух в Переславищах давно пасет, и все немой, только свистит. А в Заболотье по росам играют и пастух на трубе, и подпасок на жалейке, что я за грех считаю, если случится проспать и не слыхать его мелодии на дудочке, сделанной из волчьего дерева с пищиком из тростника и резонатором из коровьего рога. Наконец однажды я не выдержал и решил сам заняться болотной музыкой. Заказал жалейку. Мне принесли.
Слушок у меня есть, попробовал высвистывать даже романсы Чайковского, а вот чтобы как у пастуха – нет, ничего не выходит. Забросил я дудочку.
Однажды был дождь на весь день. Я сидел дома и занимался бумагами. Под вечер дождь перестал. Заря была желтая и холодная. Вышел я на крыльцо, лицом к вечерней заре, о стал насвистывать в свою дудочку. Не знаю, заря ли мне подсказала или дерево – у нас есть одна большая ива при дороге, когда вечереет или на утренней темнозорьке, очень оно бывает похоже на мужика с носом и с вихрами… смотрел я на эту голову, и вдруг так все просто оказалось, не нужно думать об операх и Чайковском, а только перебирать пальцами, и дудочка из волчьего дерева, тростника и коровьего рога сама свое дело делает.
Пришли женщины, сели на лавочку. Я им говорю:
– А что, бабочки, у меня как будто не хуже заболотского пастуха?
– Лучше! – ответили женщины.
Я долго играл. Заря догорела. Показалась на дороге телега, и в ней много мужиков, один к одному. Я подумал, вот сейчас все кончится, мужики, наверно, смеяться будут. Но, к моему удивлению, мужики лошадь остановили и долго слушали вместе с бабами.
Окончив игру, я быстро повернулся и вошел в дом. Окно в избе было открыто. Трогая лошадь, один мужик – мне было слышно – сказал:
– Вот каши наелся! Вслед за ним другой:
– На голодное брюхо не заиграешь! Из этого я понял, что мужики приняли меня за пастуха на череду в хорошем доме: каши наелся и заиграл.
Мы очень устали в лесу и мучились жаждой. В полдень лес поредел, просветлилось. Мы вышли на опушку, и там в поле под горой показалась труба какой-то хижины. Тогда Петя занялся костром, а я спустился к жилью за водой. В тот самый момент, когда я опускал чайник в речку, – и бывает же так! – мне пришло в голову, что чайник-то мы взяли, а чашки забыли. Недалеко от меня возле избушки человек копал канаву. Я подошел к нему, поздоровался и только хотел было у него попросить чашки, он первый попросил у меня покурить. После того вопрос о чашках решился скоро: он крикнул в окно хозяйке, и та подала мне через окно две маленькие фарфоровые чашки с цветочками. Мы разговорились все трое. Оказалось, что копавший канаву был не хозяин, а нанятой грабарь из одного села, где родился мой хороший знакомый, ученый человек.
– Отец его, – сказал грабарь, – был в нашем селе попом, пил горькую и помер не в своем уме.
– А мать? – спросил я.
– Попадья была очень даже красивая. Детей у них было пять человек, всем дали образование, все в люди вышли.
– Значит, богатый был поп?
– Нет, какой тут! Им бы детей нипочем не выучить, да вот вышло какое дело. Рядом, в другом приходе был вдовый пои и такой гладкий: три раза воры церковь ломали, думали – он там свои деньги прячет, богатейший поп. Наша матушка, говорят, и сошлась с ним потихоньку. Через это детям и дало образование.
Я спросил:
– Не через это ли ваш поп пил горькую?
Грабарь повеселел:
– Какой вы угадчивый! Собственно, через бабу свою пропадал поп Иван и помер не в своем уме.
Хозяйка высунулась из окна и с любопытством спросила:
– А дети-то были от какого попа?
– Собственные свои, нашего попа дети. Затем же матушка и сходилась с другим попом, чтобы детям дать образование.
– Значит, умная была женщина, – ответила хозяйка. – Что же ты сказал, ваш поп от нее пропадал?
– Прост был: обидно за попадью и жалко.
– Ваш пои был дурак, – сказала хозяйка. – Чего же тут жалеть? Другая мать жизнь отдает за детей, а это… Тьфу! – плюнула хозяйка. – Слушать не хочется.
И сердито закрыла окно.
Осень
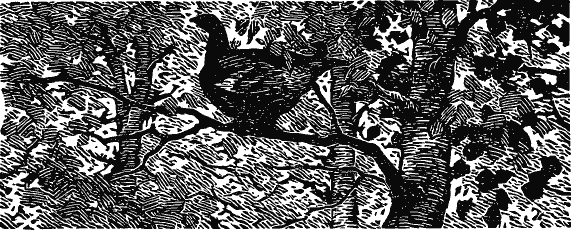
С утра до вечера дождь, ветер, холод. Слышал не раз от женщин, потерявших любимых людей, что глаза у человека будто умирают иногда раньше сознания, случается, умирающий даже и скажет: «что-то, милые мои, не вижу вас» – это значит, глаза умерли и в следующее мгновение, может быть, откажется повиноваться язык. Вот так и озеро у моих ног, в народных поверьях озера – это глаза земли, и тут вот уж я знаю там наверное – эти глаза раньше всего умирают и чувствуют умирание света, и в то время, когда в лесу только-только начинается красивая борьба за свет, когда кроны иных деревьев вспыхивают пламенем и, кажется, сами собою светятся, вода лежит как бы мертвая и веет от нее могилой с холодными рыбами.
Дожди вовсе замучили хозяев. Стрижи давно улетели. Ласточки табунятся в полях. Было уже два мороза. Липы все пожелтели сверху и донизу. Картофель тоже почернел. Всюду постелили лен. Показался дупель. Начались вечера…
Тихо в золоте, и везде на траве, как холсты, мороз настоящий, видимый, не тот, о котором хозяева говорят – морос, значит, холодная роса. Только в восемь утра этот настоящий видимый мороз обдался росой, и холсты под березами исчезли. Лист везде потек. Вдали ели и сосны прощаются с березами, а высокие осины – красной шапкой над лесом, и мне почему-то из далекого детства вспоминается тогда совсем непонятная поговорка: «На воре шапка горит».
А ласточки все еще здесь.
Замерли от холода все пауки. Сети их сбило ветром и дождями. Но самые лучшие сети, на которые пауки не пожалели лучшего своего материала, остались невредимы в дни осеннего ненастья и продолжали ловить все, что только способно было двигаться в воздухе. Летали теперь только листья, и так попался в паутину очень нарядный, багровый, с каплями росы осиновый лист. Ветер качал его в невидимом гамаке. На мгновение выглянуло солнце, сверкнули алмазами капли росы на листе. Это мне бросилось в глаза и напомнило, что в эту осень мне, старому охотнику, непременно нужно познакомиться с жизнью глухарей в то время, как им самым большим лакомством становится осиновый лист, и как не раз приходилось слышать и читать, будто бы приблизительно за час до заката они прилетают на осины, клюют дотемна, засыпают на дереве и утром тоже немного клюют.
Я нашел их неожиданно возле маленькой вырубки в большом лесу. При переходе через ручей у меня чавкнул сапог, и оттого с осины над самой моей головой слетела глухарка. Эта высокая осина стояла на самом краю вырубки среди бора, и их тут было немало вместе с березами. Спор с соснами и елями за свет заставил подняться их очень высоко. В нескольких шагах от края вырубки была лесная дорожка, разъезженная, черная, но там, где стояла осина, листва ее ложилась на черное ярким, далеко видным бледно-желтым пятном; по этим пятнам было очень неудобно скрадывать, потому что глухари ведь должны быть теперь только на осинах. Вырубка была совсем свежая, последней зимы; поленницы дров, оставленные для вывоза следующей зимой, за лето потемнели и погрузились в молодую осиновую поросль с обычной яркой и очень крупной листвой. На старых же осинах листья почти совсем пожелтели. Я крался очень осторожно по дорожке от осины к осине. Шел мелкий дождь, и дул легкий ветер, листья осины трепетали, шелестели, капли тоже всюду тукали, и оттого невозможно было расслышать звук срываемых глухарями листов. Вдруг на вырубке из молодого осинника поднялся глухарь и сел на крайнюю осину по ту сторону вырубки, в двухстах шагах от меня. Я долго следил за ним, как он часто щиплет листья и быстро их проглатывает. Случалось, когда ветер дунет порывом и вдруг все смолкнет, до меня долетал звук отрыва или разрыва листа глухарем. Я познакомился с этим звуком в лесу. Когда глухарь ощипал сук настолько, что ему нельзя было дотянуться до хороших листьев, он попробовал спрыгнуть на ветку пониже, но она была слишком тонка и согнулась, и глухарь поехал ниже, крыльями удерживая себя от падения. Вскоре я услышал такой же сильный треск и шум на моей стороне, а потом еще и понял, что везде вокруг меня наверху в осинах, спрятанных в хвойном лесу, сидят глухари. Я понял также, что днем все они гуляли по вырубке, может быть, ловили каких-нибудь насекомых, глотали необходимые им камешки, а на ночь поднялись на осины, чтобы перед сном полакомиться своим любимым листом.
Мало-помалу, как почти всегда у нас, западный ветер перед закатом стал затихать. Солнце вдруг все со всеми своими лучами бросилось в лес. Я продолжил ладонями свои ушные раковины и среди легкого трепета осиновых листьев расслышал звук отрыва листа, более глухой и резкий, чем гулкое падение капель. Тогда я осторожно поднялся и начал скрадывать. Это было не под весеннюю песню скакать, когда глухарь ничего не слышит, поручая всего себя песне, направляемой куда-то в зенит. Особенно же трудно было перейти одну большую лужу, подостланную как будто густо осиновым листом, на самом же деле очень тинистую и топкую. Ступню нужно было выпрямлять в одну линию с ногой, как это у балерин, чтобы при вынимании грязь не чавкнула. И когда вынешь тихо ногу из грязи и капнет с нее в воду, кажется ужасно как громко. Между тем вот мышонок бежит под листвой, и она разваливается после него, как борозда, с таким шумом, что если бы мне так, глухарь давно бы улетел. Верно, звук этот ему привычный, он знает, что мышь бежит, и не обращает внимания. И если сучок треснет под ногой у лисицы, то, наверное, он будет знать наверху, что это по своим делам крадется безопасная ему лисица. В лесу ведь все определено и связано ритмически между собой. Но мало ли что не придет в голову человеку, чего-чего ему только не вздумается, и оттого все его шумы резко врываются в общую жизнь.
Однако страсть рождает неслыханное терпение, и будь бы время, вполне бы возможным было достигнуть кошачьих движений, но срок поставлен, солнце село, еще немного, и стрелять нельзя. У меня сомнения не оставалось нисколько в том, что мой глухарь сидит с той стороны стоящей передо мной осины. Но обойти ее я бы не решился и все равно не успел бы. Что же делать? Было во всей желтой кроне осины только одно узенькое окошечко на ту сторону в светлое небо, и вот ото окошечко теперь то закроется, то откроется. Я понял, – это глухарь клюет, и это его голова закрывает, видна даже бородка этой глухариной головы. Мало кто умеет, как я, стрельнуть в самое мгновение первого понимания дела. Но как раз в это мгновение произошла перегрузка на невидимый сучок под ногой, он треснул, окошко открылось… И потом еще хуже – почуяв опасность, глухарь стал хрюкать, вроде как бы ругаться на меня. А еще было: другой ближайший глухарь как раз в это время съехал с ветки и открылся мне совершенно. По дальности расстояния не мог я стрельнуть в него, но также не мог и сдвинуться с места: он бы непременно увидел. Я замер на одной ноге, другая, ступившая на сучок, осталась почти без опоры. А тут какие-то другие глухари прилетели ночевать и стали рассаживаться вокруг. Один из них стал цокать и ронять с высокой осины веточки, те самые, наискось срезанные, по которым мы безошибочно узнаем ночевку глухарей. Мало-помалу мой глухарь, однако, успокоился. По всей вероятности, он сидел с вытянутой шеей и посматривал в разные стороны. Скоро внизу у нас с мышонком, который все еще шелестел, стало совершенно темно. Исчез во мраке видимый мне глухарь. Полагаю, что все глухари уснули, спрятав под крылья свои бородатые головы. Тогда я поднял онемелую ногу, повернулся и с блаженством прислонил усталую спину к тому самому дереву, на котором спал теперь безмятежно потревоженный мною глухарь.
Нет слов передать, каким становится бор в темноте, когда знаешь, что у тебя над головой сидят, спят громадные птицы, последние реликты эпохи крупных существ. И спят-то не совсем даже спокойно, там шевельнулся, там почесался, там цокнул… Одному мне ночью не только не было страшно и жутко, напротив, как будто к годовому празднику в гости приехал к родне. Только вот что: очень сыро было и холодно, а то бы тут же вместе с глухарями блаженно уснул. Вблизи где-то была лужа, и, вероятно, это туда с высоты огромных деревьев поочередно сучья роняли капли, высокие сучья были и низкие, большие капли были и малые. Когда я проникся этими звуками и понял их, то все стало музыкой прекраснейшей взамен той хорошей обыкновенной, которой когда-то я наслаждался. И вот, когда в диком лесу все ночное расположилось по мелодии капель, вдруг послышался ни с чем не сообразный храп…
Это вышло не из страха, что-то ни с чем не сообразное ворвалось в мой великий концерт, и я поспешил уйти из дикого леса, где кто-то безобразно храпит.
Когда я проходил по деревне, то везде храпели люди, животные, все было слышно на улице, на все это я обращал внимание после того лесного храпа. Дома у нас в кладовке диким храпом заливался Сережа, хозяйский сын, в чулане же Домна Ивановна со всей семьей. Но самое странное: я услышал среди храпа крупных животных на дворе тончайший храп еще каких-то существ и открыл ори свете электрического фонарика, что это гуси и куры храпели…
И даже во сне я не избавился от храпа. Мне, как это бывает иногда во сне, вспомнилось такое, что, казалось бы, никогда не вернется на свет. В эту ночь вернулись все мои старые птичьи сны…
И вдруг понял, что ведь это в лесу не кто другой, а глухарь храпел, и непременно же он! Я вскочил, поставил себе самовар, напился чаю, взял ружье и отправился в лес на старое место. К тому же самому дереву я прислонился спиной и замер в ожидании рассвета. Теперь, после кур, гусей, мой слух разбирал отчетливо не только храп сидящего надо мной глухаря, но даже и соседнего.
Когда известная вестница зари пикнула и стало белеть, храп прекратился. Открылось и окошечко в моей осинке, но голова не показывалась. Вставало безоблачное утро, и очень быстро светлело. Соседний глухарь шевельнулся и тем открыл себя: я видел его всего хорошо. Он, проснувшись, голову свою на длинной шее бросил, как кулак, в одну сторону, в другую, потом вдруг раскрыл весь хвост веером, как на току. Я слыхал от людей об осенних токах и подумал, не запоет ли он. Но нет, хвост собрался, опустился, и глухарь очень часто стал доставать листы. В это самое время, вероятно, мой глухарь начал рвать, потому что вдруг я увидел в окошке его голову с бородкой. Он был так отлично убит, что внизу совсем даже и не шевельнулся, только лапами мог впиться крепко в кору осины, – вот и все! А стронутые им листья еще долго слетали. Теперь, раздумывая о храпе, я полагаю, что это дыхание большой птицы, выходящее из-под крыла, треплет звучно каким-нибудь перышком. А впрочем, верно я даже не знаю, спят ли действительно глухари непременно с запрятанной под крылом головой. Я это с домашних птиц беру. Догадок и басен много, а действительная жизнь леса так еще мало понятна.
Тихо в золотистых лесах, тепло, как летом, паутина легла на поля, сухая листва громко шумит под ногами, птицы далеко взлетают вне выстрела, русак пустил столб пыли на дороге. Я вышел рано из дому и головную боль свою уходил до того, что лишился способности думать. Мог я только следить за движениями собаки, держать ружье наготове да иногда поглядывать еще на стрелку компаса. Мало-помалу я захожу так далеко, что стрелка компаса смотрит не через мой дом, и так я вступаю в совершенно мне неведомый край. Долго я продирался через густейшую заросль, и вдруг мне открылось в больших дремучих золотых лесах совершенно круглое умершее озеро. Я долго сидел и смотрел в эти закрытые глаза земли.
Вечером почти вдруг перемена погоды: в лесу за стеной будто огромный самовар закипел, это дождь и ветер раздевают деревья. В эту ночь, согласно всем моим приметам и записям, должен лететь гусь.
Ночь тихая, лунная, прихватил мороз, и на первом рассвете выпал зазимок. По голым деревьям бегали белки. Вдали как будто токовал тетерев, я уже хотел было его скрадывать, как вдруг разобрал: не тетерев это токовал, а по ветру с далекого шоссе так доносился ко мне тележный кат.
День пестрый, то ярко солнце светит, то снег летит. В десятом часу утра на болотах еще оставался тонкий слой льда, на пнях самые белые скатерти и на белом красные листики осины лежат, как кровавые блюдца. Поднялся гаршнеп в болоте и скрылся в метели.
Гуси пасутся. В полумраке стою неподвижно лицом к вечерней заре. Были слышны крики пролетающих гусей, мелькнула стайка чирков и еще каких-то больших уток. Каждый раз явление птиц так волновало меня, что я бросал свою мысль и потом с трудом опять находил ее. Эта мысль была о том, что вот как отлично это придумано – устроить нам жизнь каждому из нас так, чтобы не очень долго жилось, и нельзя никак успеть все захватить самому, все без остатка, отчего каждому из нас и представляется мир бесконечным в своем разнообразии.
Ночь была ясная, звездно-лунная. Сильный мороз. Утром все белое. Гуси пасутся на своих местах. Прибавился новый караван, и всего стало летать с озера на поле штук двести. Тетерева до полудня были все на деревьях и бормотали. Потом небо закрылось, стало мозгло и холодно.
После обеда опять явилось солнце, и до вечера было прекрасно. Мы радовались нашим уцелевшим от общего разгрома двум золотым березкам. Ветер был, однако, северный, озеро лежало черное и свирепое. Прилетел целый караван лебедей. Слышал, что лебеди очень долго держатся у нас, и когда уже так замерзнет, что останется только небольшая середка и уже обозы зимней дорогой едут прямой дорогой по льду, слышно бывает ночью во тьме в тишине, как там на середине где-то густо разговаривают, думаешь – люди, а то лебеди на незамерзшей середочке между собой.
Вечером из оврага я подобрался к гусям очень близко и мог бы из дробовика произвести у них настоящий разгром, но, пока лез по круче, приустал, сердце слишком сильно билось, а может быть, просто хотелось поозорничать. Был пень у самого верха оврага, и я сел на него так, что поднять только голову и покажется ржанище с гусями, ближайшее от меня – в десяти шагах. Ружье было приготовлено, мне казалось, что даже при внезапном взлете им без больших потерь нельзя от меня улететь, и я закурил папироску, очень осторожно выпуская дым, рассеивая его ладонью у самых губ. Между тем за этим маленьким польцем была другая балка, и оттуда совершенно так же, как и я, пользуясь сумерками, к гусям подползала лисица. Я не успел ружья поднять, как целая огромная стая гусей снялась и стала вне выстрела. Еще хорошо, что я догадался о лисице и не сразу высунул голову. Она ходила, как собака, по гусиным следам, заметно все ближе и ближе подвигаясь ко мне. Я устроился, утвердил локти, примерился глазом, тихонечко свистнул мышкой – она посмотрела сюда, свистнул другой раз, она пошла на меня…
Утренняя луна. Восток закрыт. Все-таки наконец из-под одеяла показывается полоска зари, а возле луны остаются голубые поляны.
Озеро как будто было покрыто льдинами, так странно и сердито разрушались туманы. Кричали деревенские петухи и лебеди.
Я плохой музыкант, но мне думается, у лебедей верхняя октава журавлиная – тот самый их крик, которым они по утрам на болотах как будто вызывают свет, а нижняя октава гусиная, баском-говорком.
Не знаю, наверно, от луны или от зари на голубых полянках вверху я наконец заметил грачей, и потом скоро оказалось, все небо было ими покрыто – грачами и галками: грачи маневрировали перед отлетом, галки, по своему обыкновению, их провожали. Где бы это узнать, почему галки всегда провожают грачей? Было время, когда я думал, что все на свете известно и только я, горемыка, ничего не знаю, а потом оказалось, что в живой природе ученые часто не знают даже самого простого.
Поняв это, я стал в таких случаях всегда сам что-нибудь сочинять. Так вот о галках думаю, что птичья душа, как волна: в их быту какой-нибудь толчок передается из рода в род, как волна волне передает удар камня, брошенного в воду. Вот, может быть, при первом толчке грачи и галки собирались было вместе лететь, но грачи улетели, а галки раздумали. И так до сих пор из рода в род они повторяют одно и то же: соберутся вместе лететь и вернутся назад, когда проводят грачей.
Но может быть и еще проще: так недавно еще мы узнали, что некоторые из наших ворон являются перелетными. Почему же и некоторые из галок не могут улетать вместе с грачами?
Подул утренний ветер и свалил мою елочку, поставленную среди поля, чтобы можно было из-за нее подползти к гусям. Я пошел ее ставить, но как раз в тот момент, когда я поставил ее, показались гуси. Добросовестно я ползал вокруг елочки, прячась от гусей, но они сделали несколько кругов, елочка все казалась им подозрительной, да так и улетели подальше и расселись возле Дубовиц. Я стал к ним подползать из-за большого куста ивы посредине поля. На жнивье лежал белый мороз, и тень моя на белом выползала раньше меня, долго я не замечал ее, но вдруг в ужасе заметил, что она, огромная, страшная, подбирается к самым гусям. Страшная тень человека на белом морозе дрогнула, начался переполох у гусей, и вдруг все они с криком в двести голосов, из которых каждый был не слабее человеческого «ура!» при атаке, бросились прямо на мой куст. Я успел прыгнуть внутрь куста и в прогалочек навстречу длинным шеям высунуть двойной ствол.
При первом рассвете выходим по одному в разные стороны в ельник за белками. Небо тяжелое и такое низкое, что, кажется, вот только на елках и держится. Многие зеленые верхушки совсем рыжие от множества шишек, а если урожай их велик, значит, и белок много.
В той группе елей, куда я смотрю, есть такие, что вот как будто кто их гребешком расчесал сверху донизу, а есть кудрявые, есть молодые со смолкой, а то старые с серо-зелеными бородками (лишайники). Одно старое дерево снизу почти умерло, и на каждой веточке висит длинная серо-зеленая борода, но на вершине плодов можно собрать целый амбар. Вот одна веточка на нем дрогнула. Белка, однако, заметила меня и замерла. Старое дерево, под которым мне пришлось дожидаться, с одной стороны внизу обгорело и стоит в широкой круглой яме, как в блюде.
Я раскопал прелые листья, напавшие в блюдо с соседних берез, и открылась черная, покрытая пеплом земля. По этому признаку и по тому, что нижняя часть ствола обгорела, я разгадал происхождение блюда. Прошлый год в этом лесу охотник шел зимой по следу куницы. Вероятно, она шла верхом, прыгая с дерева на дерево, оставляя на снежных ветках следы, роняя посорку. Преследование дорогого зверька увлекло, сумерки застали охотника в лесу, пришлось ночевать. Под тем деревом, где я теперь стою, жил огромный муравейник, быть может самое большое муравьиное государство в этом лесу. Охотник очистил его от снега, поджег, все государство сгорело, и остался горячий пепел. Человек улегся на теплое место, закрылся курткой, поверх завалил себя пеплом, уснул, а на рассвете дальше пошел за куницей. Весной в то блюдо, где был муравейник, налилась вода. Осенью лист соседних берез завалил его, сверху белка насыпала много шелухи от шишек, и вот теперь я пришел за пушниной.
Мне очень захотелось использовать время, ожидая белку, и написать себе что-нибудь в книжечку об этом муравейнике. Совершенно тихо, очень медленным движением руки я вынимаю из сумки книжку и карандаш. Пишу я, что муравейник этот был огромным государством, как в нашем человеческом мире Китай. И только написалось «Китай», прямо как раз в книжку падает сверху шелушка от шишки. Догадываюсь, что наверху как раз надо мной сидит белка с еловой шишкой. Она затаилась, когда я пришел, но теперь ее мучит любопытство, живой я или совсем остановился, как дерево, и ей уже не опасен. Быть может, даже она нарочно для пробы пустила на меня шелушку, подождала немного и другую пустила и третью. Ее мучит любопытство, она больше теперь, пока не выяснит, никуда не уйдет. Я продолжаю писать о великом государстве муравьев, созданном великим муравьиным трудом: что вот пришел великан и, чтобы переночевать, истратил все государство. В это время белка бросила целую шишку и чуть не выбила у меня книжку из рук. Уголком глаза я вижу, как она осторожно спускается с сучка на сучок, ближе, ближе и вот прямо из-за спины поверх плеча моего смотрит, дурочка, в мои строки о великане, истратившем для ночевки в лесу муравьиное государство.
Вот раз тоже было, я выстрелил по белке, и сразу с трех соседних елей упало по шишке. Нетрудно было догадаться, что на каждой из этих елей сидело по белке и, когда я выстрелил, все выпустили из лапок своих по шишке и тем себя выдали. Так мы в «подмосковной тайге» ходим за белками в ноябре до одиннадцати дня и от двух до вечера: в эти часы белки шелушат шишки на елках, качают веточки, роняют посорку, в поисках лучшей нищи перебегают от дерева к дереву. С одиннадцати до двух мы не ходим, в это время белка сидит на сучке в большой густоте и умывается лапками.
Прошлый год в это время земля была уже белая, теперь осень перестоялась, и по черной земле далеко заметные ходят и ложатся белые зайцы: вот кому теперь плохо! Но чего бояться серому барсуку? Мне кажется, барсуки еще ходят. Какие теперь они жирные! Пробую постеречь у норы. В это мрачное время в еловом лесу не сразу доберешься до той тишины, где нет нашей комнатной расценки мрачных и веселых сезонов, а неизменно движется все и в этом неустанном движении находит свой смысл и отраду. Этот яр, где живут барсуки, до того крут, что, взбираясь туда, часто приходится на песке оставлять свою пятерню рядом с барсучьей. У ствола старой ели я сажусь и сквозь нижнюю еловую лапину слежу за главной норой. Белочка, обкладывая мохом на зиму свое гайно, обронила посорку, и вот тут началась та самая тишина, слушая которую охотник может, не скучая, часами сидеть у норы барсука.
Под этим тяжелым небом, подпертым частыми елками, нет ни малейших намеков на движение солнца, но когда солнце садится, барсук это знает в своей темной норе и немного спустя с большой осторожностью пробует выйти на свою ночную охоту. Не раз, высунув нос, он фыркнет и спрячется и вдруг с необычайной живостью выскочит, и охотник не успеет моргнуть. Гораздо лучше садиться перед рассветом, когда барсук возвращается, – тогда он просто идет и далеко шелестит. Но теперь по времени надо бы лежать барсуку в зимней спячке, теперь не каждый день он выходит, и жалко ночь напрасно сидеть и потом днем отсыпаться.
Не в кресле сидишь, ноги стали как неживые, но барсук вдруг высунул нос, и все стало лучше, чем в кресле. Чуть показал нос и в тот же миг спрятался. Через полчаса еще показал, подумал и скрылся вовсе в норе…
Да так вот и не вышел. А я еще не успел дойти к леснику, полетели белые мухи. Неужели барсук, только высунув нос из норы, это почуял?
Прямой мокрый снег всю ночь в лесу наседал на сучки, обрывался, падал, шелестел. Шорох выгнал белого зайца из леса, и он, наверно, смекнул, что к утру черное поле сделается белым и ему, совершенно белому, можно спокойно лежать. И он лег на поле недалеко от леса, а недалеко от него, тоже как заяц, лежал выветренный за лето и побеленный солнечными лучами череп лошади. К рассвету все поле было покрыто, и в белой безмерности исчезли и белый заяц, и белый череп.
Мы чуть-чуть запоздали, и, когда пустили гончую, следы уже начали расплываться. Когда Осман начал разбирать жировку, все-таки можно было с трудом отличать форму лапы русака от беляка: он шел по русаку. Но не успел Осман выпрямить след, как все совершенно растаяло на белой тропе, а на черной потом не оставалось ни вида, ни запаха. Мы махнули рукой на охоту и стали опушкой леса возвращаться домой.
– Посмотри в бинокль, – сказал я товарищу, – что это белеется там на черном поле и так ярко.
– Череп лошади, голова, – ответил он.
Я взял у него бинокль и тоже увидел череп.
– Там что-то еще белеет, – сказал товарищ, – смотри полевей.
Я посмотрел туда, и там, тоже как череп, ярко-белый, лежал заяц, и в призматический бинокль можно даже было видеть на белом черные глазки. Он был в отчаянном положении: лежать – это быть всем на виду, бежать – оставлять на мягкой мокрой земле печатный след для собаки. Мы прекратили его колебание: подняли, и в тот же момент Осман, перевидев, с диким ревом пустился по зрячему…
Художник Борис Иванович в тумане подкрался к лебедям близко, стал целиться, но, подумав, что мелкой дробью по головам больше убьешь, раскрыл ружье, вынул картечь, вложил утиную дробь. И только бы стрельнуть, стало казаться, что не в лебедя, а в человека стреляешь. Опустив ружье, он долго любовался, потом тихонечко пятился, пятился и отошел так, что лебеди вовсе и не знали о страшной опасности.
Приходилось слышать, будто лебедь не добрая птица, не терпит возле себя гусей, уток, часто их убивает. Правда ли? Впрочем, если и правда, это ничему не мешает в нашем поэтическом представлении девушки, обращенной в лебедя: это власть красоты.
Звездная и на редкость теплая ночь. В предрассветный час я вышел на крыльцо, и слышно мне было – только одна капля упала с крыши на землю. При первом свете заворошились туманы, и мы очутились на берегу бескрайнего моря.
Драгоценное и самое таинственное время от первого света до восхода, когда только обозначаются узоры совершенно безлиственных деревьев: березки были расчесаны вниз, клен и осина – вверх. Я был свидетелем рождения мороза, как он подсушил и подбелил старую, рыжую траву, позатянул лужицы тончайшим стеклышком.
При восходе солнца в облаках показалось строение того берега и повисло высоко в воздухе. В солнечных лучах явилось наконец из тумана и озеро. В просвеченном тумане все казалось сильно увеличенным, длинный ряд крякв был фронтом наступающей армии, а группа лебедей была как сказочный, выходящий из воды, белокаменный город.
Показался один летящий с ночевки тетерев, и несомненно по важному делу и не случайно, потому что с другой стороны тоже летел и в том же направлении, и еще, и еще… Когда я пришел туда, к озерному болоту, там собралась уже большая стая, немногие сидели на дереве, большинство бегало по кочкам, подпрыгивало, токовало совершенно так же, как и весной.
Только по очень ярко зеленеющей озими можно было различить такой день от ранне-весеннего, а еще, может быть, и по себе, что не бродит внутри тебя весеннее вино и радость не колет: радость теперь спокойная, как бывает, когда что-нибудь отболит, радуешься, что отболело, и грустно одумаешься: да ведь это же не боль, это сама жизнь прошла…
Во время этого большого зазимка озеро было совершенно черное в ледяном кольце, и каждый день кольцо сжимало все сильней и сильней черную воду в белых берегах. Теперь распалось кольцо, освобожденная вода сверкала, радовалась. С гор неслись потоки, шумели, как весной. Но когда солнце закрылось облаками, то оказалось, что только благодаря его лучам видима была и вода, и фронт крякв, и город лебедей. Туман все снова закрыл, исчезло даже самое озеро, и почему-то осталось лишь высоко висящее в воздухе строение другого берега.
Поздней осенью бывает иногда совсем как ранней весной: там белый снег, там черная земля. Только весной из проталин пахнет землей, а осенью снегом. Так непременно бывает: мы привыкаем к снегу зимой, и весной нам пахнет земля, а летом принюхаемся к земле, и поздней осенью пахнет нам снегом.
Редко бывает, проглянет солнце на какой-нибудь час, но зато какая же это радость! Тогда большое удовольствие доставляет нам какой-нибудь десяток уже замерзших, но уцелевших от бурь листьев на иве или очень маленький голубой цветок под ногой.
Наклоняюсь к голубому цветку и с удивлением узнаю в нем Ивана: это один Иван остался от прежнего двойного цветка, всем известного Ивана-да-Марьи.
По правде говоря, Иван не настоящий цветок. Он сложен из очень мелких кудрявых листков, и только цвет его фиолетовый, за то его и называют цветком. Настоящий цветок с пестиками и тычинками только желтая Марья. Это от Марьи упали на эту осеннюю землю семена, чтобы в новом году опять покрыть землю Иванами и Марьями. Дело Марьи много труднее, вот, верно, потому она и опала раньше Ивана.
Но мне нравится, что Иван перенес морозы и даже заголубел. Провожая глазами голубой цветок поздней осени, я говорю потихоньку:
– Иван, Иван, где теперь твоя Марья?
Пришел ко мне Федор из Раменья, промысловый охотник. Раменье недалеко от Москвы, всего несколько часов, и все-таки сохранились тут настоящие промышленники, всю зиму только и занимающиеся охотой на лисиц, зайцев, белок и куниц. Занятые люди, и среди них этот Федор, по мастерству своему – башмачник, ему охота, конечно, невыгодна, да вот поди рассуди людей.
Федор прослышал, будто у нас лисиц много развелось, пришел ко мне проведать, привел своих собак, известных в нашем краю, один Соловей, другой называется вроде как бы по-французски – Рестон.
Соловей – великан смешанной породы: костромича, борзой, дворняжки – все спуталось, и получилась безобманная промысловая собака: лисиц с ним хочешь стреляй, а хочешь – так бери, если только не успеет занориться, непременно загоняет и не изорвет, а сядет против нее и бумкнет, охотник приходит и добивает.
От Соловья выходят щенки, с виду совершенно дворные, но в работе прекрасные, ходят и по зайцам, и по лисицам, и по куницам, забираются в барсучьи ходы и там, под землей глубоко, гонят, как на земле, еле слышно, и кто этого не знает, очень удивительно и почему-то даже смешно.
Федоровская порода известная.
Последний сын Соловья, кобель по второму полю, особенно умен, но вид… бери и на цепь сажай двор караулить.
Московские охотники только головами качают:
– Это не собака!
Да так и зовут:
– Шарик.
Я сам зову этого лохматого, рыжего, совершенно дверного кобеля Шариком, но не потому, что презираю, как москвичи, федоровскую породу, а просто язык не повертывается назвать такого демократического кобеля Аристоном.
Какие-нибудь тертые егеря барских времен, наверно, сбили Федора на древнегреческое имя, но мужицкий язык оживил мертвое слово, стало что-то вроде ренессанса. Рестон, и дальше рациональное объяснение. Рестон – значит, резкий тон, с советским упрощением – рез-тон.
Ну, вот, под седьмое число октября месяца приходит ко мне Федор, а с ним Соловей и этот рыжий Шарик. Наши деревенские охотники все, у кого есть хоть какое-нибудь ружьишко, с вечера объявились и назвались вместе идти. А не охотники всю затею всерьез приняли и просили:
– Волка убейте!
Всем этим охотникам родоначальник сосед мой слесарь Томилин, человек лет за сорок, семья – девять человек, не прокормишь же всех лужением самоваров да починкой ведер, вот он и занялся еще и ружьями, собирает из всякого лома и особенно хвалится своими пружинами.
Изредка я очень люблю эти деревенские охоты, но держусь всегда в стороне, потому что каждую охоту непременно у кого-нибудь разрывает ружье. Да немудрено, простым глазом издали видишь, как сверкают там и тут на стволах заплаты на медном припое. У одного даже и курок на веревочке: взлетает вверх после выстрелов и потом висит. Но это им нипочем, и что ружья в цель не попадают – тоже ничего, только бы ахали…
В особенности страшны мне шомнолки, заряженные с прошлого года, в начале охоты их обыкновенно всем миром разряжают в воздух и потом, когда хозяин продувает дым и он, синий, выходит не только в капсюль, а фонтаном во все стороны, все хохочут и говорят:
– Решето!
– Отдай бабе муку отсевать.
И так сами над собой все потешаются. Очень бывает весело, и у меня всегда является представление о тех отдаленных временах, когда также деревнями охотились на мамонта. Я думаю, у нас даже лучше: там огромное животное, наверно, к чему-то обязывает, но у нас предмет охоты иногда листопадник-белячок, величиной в крысу, ни к чему не обязывает, а радости охотничьей и хлопот все равно, как и за мамонтом. И так славно бывает, когда на выходе тот охотник со взлетающим курком погрозится в лес тому невиданному мамонту и скажет:
– Вот, погляди, я тебе галифе отобью!
Конечно, если бы настоящий мамонт, непременно бы кто-нибудь сказал:
– Не хвались, как бы тебе галифе не отбил.
Но тут просто:
– Ты лучше гляди, не улетел бы курок…
И какое волнение! Мастер Томилин перед охотой встает часа в два ночи, проверяет погоду. Я это слышу, встаю и ставлю себе самовар.
Три часа ночи.
Мы с Федором чай пьем. Видно напротив, что и Томилин с сыном чай пьют. Разговор у нас о зайце, что хуже нет разыскивать в листопад – очень крепко лежит.
Четыре часа.
Чай продолжается. Разговор о лисице, какая она, сволочь, хитрая. Сотни примеров.
В пять часов решаем вопрос, как лучше всего выгнать дупляную куницу. Решаем: лучше всего лыжей дерево почесать, она подумает – человек лезет, и выскочит.
В окне начинается белая муть рассвета. Охотники – все собрались под окнами и на лавочке тихо беседуют.
Подымаемся. Среди нас нет ни одного из тех досадных людей, кто вперед перед всяким делом общественным думает про себя, что ничего не выйдет, плетется хило и слегка оживает, когда против ожидания вышло удачно.
И даже эта тяжелая муть рассвета не смущает нас, напротив, едва ли кто-нибудь из нас променял бы это на весенний соловьиный дачный восход.
Только поздней осенью бывает так хорошо, когда после ночного дождя с трудом начинает редеть ночная мгла, и радостно обозначится солнце, и падают везде кайли с деревьев, будто каждое дерево умывается.
Тогда шорох в лесу бывает постоянный, и все кажется, будто кто-то сзади подкрадывается. Но будь спокоен, это не враг и не друг идет, а лесной житель сам по себе проходит на зимнюю спячку.
Змея прошла очень тихо и вяло, видно, ползучий гад убирается под землю. Ей нет никакого дела до меня, чуть движется, шурша осенней листвой.
До чего хорошо пахнет!
Кто-то сказал в стороне два слова. Я подумал, это мне кажется так, слух мой сам дополнил к шелесту умирающей природы два бодрых человеческих слова. Или, может быть, чокнула неугомонная белка? Но скоро опять повторилось, и я оглянулся на охотников.
Они все замерли в ожидании, что вот-вот выскочит заяц из частого ельника.
Где же это и кто сказал?
Или, может быть, это идут женщины за поздними рыжиками и, настороженные лесным шорохом, изредка очень осторожно одна с другой переговариваются.
– Равняй, равняй! – услыхал я над собой высоко.
Я понял, что это не люди идут в лесу, а дикие гуси высоко вверху подбодряют друг друга.
Великий показался наконец, в прогалочке между золотыми березами, гусиный караван, сосчитать бы, но не успеешь. Палочкой я отмерил вверху пятнадцать штук и, переложив ее по всему треугольнику, высчитал – всего гусей в караване больше двухсот.
На жировке в частом ельнике изредка раздавалось «бам!» Соловья. Ему там очень трудно разобраться в следах: ночной дождик проник и в густель и сильно подпортил жировку.
Этот густейший молоденький ельник наши охотники назвали чемоданом, и все уверены, что заяц теперь в чемодане.
Охотники говорят:
– Листа боится, капели, его теперь не спихнешь.
– Как гвоздем пришило!
– Не так в листе дело и в капели, главное, лежит крепко, потому что начинает белеть, я сам видел: галифе белые, а сам серый.
– Ну, ежели галифе побелели, тогда не спихнешь, его в чемодане как гвоздями пришило.
Смолой, как сметаной, облило весь ствол единственной высокой ели над густелью, и весь этот еловый чемодан был засыпан опавшими березовыми листочками, и все новые и новые падали с тихим шепотом.
Зевнув, один охотник сказал, глядя на засыпанный ельник:
– Комод и комод!
Зевнул и сам мастер Томилин.
С тем ли шли: зевать на охоте!
Мастер Томилин сказал:
– Не помочь ли нам Соловью?
Смерили глазами чемодан, как бы взвешивая свои силы, пролезешь через него или застрянешь.
И вдруг все вскочили, решив помогать Соловью.
– Пролетария, соединяйся!
И ринулись с криком на чемодан, сверкая на проглянувшем солнышке заплатами чиненых стволов.
Всем командир мастер Томилин врезался в самую середку, и чем его сильней там кололо, тем сильней он орал.
Все орали, шипели, взвизгивали, взлаивали: нигде таких голосов не услышишь больше у человека, и, верно, это осталось от тех времен, когда охотились на мамонта.
Выстрел.
И отчаянный крик:
– Пошел!
Первая, самая трудная часть охоты кончилась, вер равно, как если бы фитиль подложили под бочку с порохом, целый час он горел и вдруг наконец порох взорвался.
– Пошел!
И каждому надо было в радости и в азарте крикнуть:
– Пошел, пошел!
Уверенный и частый раздался гон Соловья, и после него, подвалив, Шарик ударил, Рестон, действительно очень резко: рез-тон.
Вмиг вся молодежь, как гончие, не разбирая ничего, врассыпную бросается куда-то перехватывать, и с нею мастер Томилин, как молодой – откуда что взялось, – летит, как лось, ломая кусты.
Таким никогда не подстоять зайца, но, может быть, им это и не надо, их счастье – быстро бежать по лесу и гнать, как гончая.
Мы с Федором, старые воробьи, переглянулись, улыбнулись, прислушались к гону и, поняв, куда завертывает заяц, стали: он тут, на лесной полянке, перед самым входом в чемодан, я немного подальше, на развилочке трех зеленых дорог между старым высоким лесом и частым мелятником.
И едва только затих большой, как от лося, треск кустов, ломаемых на бегу сорокалетним охотником, далеко впереди на зеленой дорожке, между большим лесом и частым мелятником, мелькнуло сначала белое галифе, а потом и весь серый обозначился: ковыль-ковыль, прямо на меня.
Я смотрел на него с поднятым ружьем через мушку: мамонт был самый маленький белячок из позднышков-листопадников, на одном конце его туловища, совсем еще короткого, были огромные уши, на другом – длинные ноги, такие, что весь он на ходу своим передом то высоко поднимался, то глубоко падал.
На мне была большая ответственность – не допустить листопадника до чемодана и не завязить там опять надолго собак: я должен был убить непременно этого мамонта. И я взял на мушку.
Он сел.
В сидячего я не стреляю, но все равно ему конец неминуемый, побежит на меня – мушка сама станет вниз на передние лапки, прыгнет в сторону – мушка мгновенно перекинется к носику.
Ничто не может спасти бедного мамонта.
И вдруг…
Ближе его из некоей мелятника показывается рыжая голова и как бы седая от сильной росы.
– Шарик?
Я чуть было не убил его, приняв за лисицу, но ведь это же не Шарик, это лисица…
И все это было в одно мгновение, седая от росы голова не успела ни продвинуться, ни спрятаться. Я выстрелил, в некоей заворошилось рыжее, вдали мелькнуло белое галифе.
И тут налетели собаки…
Налетел Федор. С ружьем наперевес, как в атаке, выскочил из леса на дорожку мастер Томилин и потом все, сверкая заплатами ружей. Сдержанные сворками собаки рвались на лисицу, орали не своим голосом. Орали все охотники, стараясь крикнуть один громче другого, что и он видел промелькнувшую в густели лисицу. Когда собаки успокоились и молодежь умолкла, осталась радость у всех одинаковая, как будто все были один человек.
Федор сказал:
– Шумовая.
Мастер Томилин по-своему тоже:
– Чумовая лисица.
Люблю гончих, но терпеть не могу накликать в лесу, порскать, лазать по кустам и самому быть, как собака. У меня было так: пущу, а сам чай кипятить, не спешу даже, когда и подымет: пью чай, слушаю и, как пойму гон, перехватываю, становлюсь на место – раз! и готово.
Я так люблю.
Была у меня такая собака Анчар. Теперь в Алексеевой сече, откуда лощина ведет на вырубку, – в этой лощине над его могилой лесная шишига стоит…
Не я выходил Анчара. Привел раз мне один мужичок гончую, был это рослый, статный кобель и на глазах очки.
Спрашиваю:
– Краденый?
– Краденый, – говорит, – только давно было, зять щенком из питомника украл, теперь за это ничего не будет. Чистая порода…
– Породу, – говорю, – сам понимаю, а как гоняет?
– Здорово.
Пошли пробовать.
И только вышли из деревни, к завору, пустили, поминай как звали, только но седой узерке след остался зеленый…
В лесу этот мужичок говорит мне:
– Я что-то озяб, давай грудок разведем.
«Так не бывает, – думаю. – не смеется ли он надо мной?» Нет, не смеется, собирает дрова, поджигает, садится.
– А как же, – спрашиваю, – собака?
– Ты, – говорит, – молод, я стар, ты не видал такого, я тебя научу: о собаке не беспокойся, она свое дело знает, ей дано искать, а мы будем чай пить.
И ухмыляется.
Выпили мы по чашке.
– Вам!
Я так и рванулся.
Мужичок засмеялся и спокойно наливает себе вторую чашку.
– Послушаем, – говорит, – что он поднял.
Слушаем.
Густо лает, редко и хлестко гонит.
Мужичок понял:
– Лисицу мчит.
Мы по чашке выпили, а тот уж версты четыре пролетел. И вдруг скололся. Мужичок в ту сторону рукой показал, спрашивает:
– Там у вас коров пасут?
И верно, в этой стороне пасут карачуновские.
– Это она его в коровий след завела, теперь он добирать будет. Выпьем еще по одной.
Но недолго пришлось отдыхать лисице, опять схватил свежий след и закружил на малых кругах, – видно, была местная. И как на малых кругах пошел, мужичок чай пить бросил, грудок залил, раскидал ногами и говорит:
– Ну, теперь надо поспешать.
Бросились перехватывать на полянку перед лисьими норами. Только расставились, и она тут на поляне, и кобель у нее на хвосте. Трубой она ему показала в болото, он же не поверил – тяп! за шею, она – вик! и готово: лисица, – и он рядом ложится лапу зализывать.
Его звали глупо: «Гончар», я же на радости крикнул:
– Анчар.
И так пошло после: Анчар и Анчар.
Сердце охотничье, вы знаете, как раскрывается? Знаете, утро, когда мороз на траве и перед восходом солнца туман, потом солнце восходит и мало-помалу туман отдаляется, и то, что было туман, стало синим между зелеными елями и золотыми березками, да так вот и пошло все дальше и дальше синеть, золотиться, сверкать. Так суровый октябрьский день открывается, и точно так открывается сердце охотничье: хлебнул мороза и солнца, чхнул себе на здоровье, и каждый встречный человек стал тебе другом.
– Друг мой, – говорю мужичку, – по какой беде ты собаку такую славную за деньги отдаешь в чужие руки?
– Я в хорошие руки отдаю собаку, – сказал мужичок, – а беда моя крестьянская: корова зеленями морозцу хватила, раздулась и околела: корову надо купить, без коровы нельзя крестьянину.
– Знаю, что нельзя, жаль мне очень тебя. А что же ты просишь за собаку?
– Корову же и прошу, у тебя две, отдай мне свою пеструю.
Отдал я за Анчара корову.
Эх, и была же у меня осень, в лесу не накликаю, не порскаю, не колю глаза сучьями, хожу себе тихо по дорожкам, любуюсь, как изо дня в день золотеют деревья, бывает, рябцами займусь, намну тропок, насвистываю, и они ко мне по тропкам сами бегут. Так прошло золотое время, в одно крепкое морозное утро солнце взошло, пригрело, и в полдень весь лист на деревьях осыпался. Рябчик на манок перестал отзываться. Пошли дожди, запрела листва, наступил самый печальный месяц – ноябрь.
Вот нет этого у меня, чтобы шайками в лес на охоту ходить, я люблю идти в лесу тихо, с остановками, с замиранием, и тогда всякая зверушка меня за своего принимает, всякую такую живность очень люблю я разглядывать, всему удивляюсь и бью только, что мне положено. И это мне хуже всего, когда шайками в лесу идут, гамят и бьют все, что попадается. Но бывает, какой-нибудь согласный приятель, понимающий охотник явится – люблю проводить его, другое это удовольствие, а тоже хорошее: хорошему человеку до смерти рад. Так пишет мне в начале ноября из Москвы один охотник, просится со мной погонять. Вы все знаете этого охотника, не буду его называть. Конечно, я очень ему обрадовался, отписал ему, и в ночь под седьмое он ко мне является.
И вот нужно же так: перед этим лег было славный зазимок и как раз под седьмое растаял: грязно, моросит мелкий холодный дождик. Всю ночь я не спал, беспокоился, как бы дождик не помешал и не смыл бы ночные следы. Но счастливо вызвездило после полуночи, и к утру зайцы славно набегали.
До рассвета, при утренней звезде, мы чаю напились, наговорились и, когда заголубело в окне, вышли с Анчаром на русаков.
Озимый клин в эту осечь начинался у самой деревенской заворы, была озимь в ту осень густая, тугая, сочно-зеленая, хоть сам ешь. И русак на этой озими так наедался, вы не поверите, сало внутри висело, как виноград, и я почти по фунту с русака надирал. Весело взял Анчар след, покружил, разобрался в жировке и пошел прямым ходом на лежку. В лесу в это время капель, шорох. Этого русак очень боится, выбирается и ложится у нас на вырубке против Алексеевой сечи. И как я понял Анчара, что он с зеленей пошел на вырубку, – скорей на пустошь к лощине: с вырубки русаки непременно этой лощиной бегут. На первое место я поставил приятеля, у края оврага, сам же стал по другой стороне, и ему не видно меня, а мне он весь, как на ладони.
План, конечно, и на охоте необходим, но только редко по плану приходится. Ждем-пождем – нет гона, и Анчар как провалился.
– Сережа, – кричу я…
Ах, виноват, не хотел я называть вам этого охотника, вы все его знаете, ну, да ведь Сергеев у нас много.
– Сережа, – кричу я, – потруби Анчара.
Свой охотничий рог я ему отдал, он большой мастер трубить и любит. И только взялся Сережа за рог, гляжу – Анчар к нам бежит по лощине. Сразу я понял по его походке, он тем же самым следом бежит, и еще понял, это того русака лисица или сова перегнали с лежки, он прошел уже лощину, и Анчар его добирает. Вот когда он поравнялся с моим приятелем, гляжу, тот поднимает ружье и прицеливается…
И ничего бы не было, если бы в ту минуту я вспомнил, что как раз с этого самого места раз я сам в человеческую голову целился и только вот чуть-чуть не убил: лощиной шел человек в заячьей шапке, мне была только шапка видна, и вот только бы курок спустить, вдруг вся голова показалась. Мелькни мне это в памяти, я понял бы, что сверху видна только шерсточка, крикнул бы и остановил. Но я подумал – приятель мой балуется, это постоянно бывает у городских охотников, как у застоялых коней.
Думал, шутит, и вдруг – бац!
Было тихо, дым весь пал в лощину и все застелил.
Обмер я и сразу вспомнил, как с того места сам в человеческую голову чуть-чуть не выстрелил.
Синий дым лег на зеленую лощину. Жду я, жду, и мгновенья проходят, как годы, и нет Анчара, нет: из дыма не вышел Анчар. Как рассеялось, вяжу, спит мой Анчар на траве вечным сном, на зеленой траве, как на постели.
С высоких деревьев на малые капают тяжелые осенние капли, с малых – на кустики, с кустов – на траву, с травы – на землю: печальный шепоток стоит в лесу (I стихает только у самой земли: тихо принимает в себя земля все слезы…
А я на все сухими глазами смотрю…
«Ну, что же, – думаю, – бывает и хуже, и человека по случаю убивают».
Перегорелый я человек, скоро с собой справился, и уж стало у меня складываться, как бы лучше мне сделать приятелю, поласковей с ним обойтись, знаю ведь, не лучше ему, чем мне, и на то мы охотники, чтобы горе умывать радостью. В Цыганове самогонка живет в каждой избе, так я и решил: идти в Цыганово и все замыть. Сам думаю так, а сам смотрю на приятеля и удивляюсь: сошел вниз, поглядел на убитого Анчара, опять стал на место и стоит себе, будто все еще гона ждет.
В чем же тут штука?
– Гоп! – кричу.
Отозвался.
– Ты в кого стрелял?
Помолчал.
– В кого, – кричу, – ты стрелял?
Отвечает:
– В сову.
Оторвалось у меня сердце.
– Убил?
Отвечает:
– Промазал.
Сел я на камень и вдруг все понял.
– Серега! – кричу.
– Ну!
– Потруби Анчара.
Гляжу, схватился Серега за рог и остановился. Сделал шаг в мою сторону: видно, стыдно стало, шагнул другой раз и задумался.
– Ну же, – кричу, – потруби!
Он опять берется за рог.
– Скорей, – кричу, – скорей!..
К губам рог приставляет.
– Да ну же, ну…
И затрубил.
Сижу я на камне, слушаю, как приятель трубит, и страшной чепухой занимаюсь: вижу вот, как ворона за ястребом гонится, и думаю, почему же он ей не даст по затылку, ему бы только раз тюкнуть. С такими думами можно на камне сколько угодно сидеть. И тут же колом стоит вопрос о самом человеке: почему ему нужен обман? Смерть есть конец, все кончается так просто, и зачем-то всем надо трубить? Вот убита собака, никакой охоты у нас быть не может, и сам же он собаку застрелил, и знает он: человек я, не безделушка, с него не взыщу и слова попрека не скажу…
Кого он обманывает?
Прошло уже порядочно времени. Вижу, приятель мой уморился трубить и стоять, присаживается.
Кричу ему:
– Сережа!
Неохотно так отзывается:
– Что тебе?
Я же ему:
– Потруби еще.
И, видно, ему очень все надоело, просит:
– Дай отдохнуть.
– Ну, отдохни.
Проходит время; не знаю сколько, мне как-то все равно. Опомнился я и кричу:
– Потруби еще.
Он дунул, не выходит звука, кричит мне:
– Рог забился.
– Ну, ладно, – отвечаю, – сейчас я сам приду, поправлю.
Он так и подпрыгнул, вскочил и как затрубит, как затрубит.
Помню, раз шесть я его так заставлял, пока не зазнобило меня от сырости.
– Довольно трубить, – кричу, – иди-ка сюда. Подходит ко мне весь-то зеленый, в глаза не глядит. Спрашиваю:
– Ты не помнишь, как был Анчар, в ошейнике или так?
– Кажется, – говорит, – в ошейнике.
– Ну, вот теперь все объясняется: если я забыл ошейник снять, то, наверное, он прыгнул в лесу, зацепился за сук и повис, так бывает.
Сережа очень обрадовался, повеселел и говорит:
– Это очень возможно, так часто бывает.
– Вот, – указываю. – иди ты по той тропинке, она тебя в Цыганово приведет, мы там с тобой выпьем, иди туда и потрубливай, все потрубливай, я же буду в лесу ходить и слушать, не викнет ли где-нибудь Анчар на трубу.
– Да ты, – говорит, – возьми рог и сам труби.
– Нет, – отвечаю, – не люблю я трубить, у меня от этого в ушах звук остается, ничего не слышу, а тут надо слушать малейшее.
Оробел он и спрашивает нерешительно:
– А ты сам куда пойдешь? Я показал в сторону, где Анчар лежит. «Ну, – думаю, – деваться теперь ему некуда, сейчас признается».
И вот нет же, говорит:
– В ту сторону я тебе идти не советую, там и деревьев нет, на кусту он не может повеситься.
– Хорошо. – отвечаю, – я вот туда пойду. А ты, пожалуйста, не забывай, все потрубливай и потрубливай.
Как я сказал, что в другую сторону пойду, очень он обрадовался и затрубил, и так ему надо версты три все трубить и трубить.
«Нет, – говорю ему вслед, – на живых началах много бывает чудес, а на мертвых концах чудес не случается: не отзовется Анчар. Оттого настоящий охотник смотрит прямо в глаза и говорит: выпьем, друг, все кончилось».
Да кого он обманывает?
У меня за поясом всегда маленький топорик для всякого случая, отрубил я им конец у сушины, вытесал вроде лопаты и выкопал яму в мягкой земле. Уложил Анчарушку в яму, холмик насыпал, нарезал дерну, обложил. На гари был у меня примечен чертик из обгорелого дерева, в сумерках он очень наших баб пугает, и все зовут его шишигой. Сходил я на гарь, приволок эту шишигу и поставил Анчару памятник.
Стою, любуюсь на черта, а Сережа все трубит, трубит. «Кого ты, Сережа, обманываешь?»
Моросит дождик, мелкий, холодный. С высоких деревьев падают тяжелые капли на малые, с малых – на кусты, с кустов – на траву и с травы – на сырую землю. Во всем лесу шепоток стоит и выговаривает: мыши, мыши, мыши… Но тихо принимает в себя мать-земля все слезы и напивается ими, все напивается…
Стало мне так, будто все дороги на свете в один конец сошлись и на самом конце стоит лесной черт на собачьей могиле и с таким уважением на меня смотрит.
– Слушай, черт! – говорю, – слушай…
И сказал я речь над могилой, и что сказал – потаю.
После того стало мне на душе спокойно, прихожу в Цыганово.
– Перестань, – говорю, – Сережа, трубить, все кончено, я все знаю. Кого ты обманываешь?
Он побледнел.
Выпили мы с ним, заночевали в Цыганове. Охотника этого вы все знаете, у каждого из нас есть такой Сережа на памяти.
Надеясь на вёдро, я вышел из дома в легкой шерстяной толстовке без подкладки и забрался далеко в лес, разыскивая осенних драгоценных вальдшнепов. Незаметно для меня затянулось небо, и начался дождь, сначала мелкий, вроде тумана, пронизывающего холодом, и потом все мокрей и мокрей. Я разыскал себе надежную елку, под ней уселся на сухом корне, выпиравшем из-под земли, и рядом уложил свою милую собаку. Вокруг елки были березы и клены, листопад был в полном ходу, капли дождя постоянно сбивали большие кленовые листья, и они падали с таким подозрительным шумом, что собака то и дело поднимала голову. Я тоже оглядывался вместе с собакой, потому что в этом лесу шалили бандиты. В газетах недавно было опубликовано о двух гражданах из Сергиева, захлестнутых тоненьким ремешком. Слухи об этих бандитах наполнили весь край, и в союзе охотников предупреждали, чтобы ни в каком случае не допускать к себе человека, подходящего обыкновенно под предлогом закурить. Жена, отпуская меня, умоляла не спать в лесу, как я это обыкновенно делаю, и не надеяться на собаку. Так мы следили с собакой за тяжелыми мокрыми листьями, падающими со всех сторон, и мысль вертелась о возможности неприятного выстрела в человека: множество было перебито всякой дичи, но счастливым я считаю себя главным образом за то, что ни разу не приходилось стрелять в человека.
Мало-помалу мы привыкли к шелесту листьев, собака свернулась, заткнула свой озябший нос в теплую развилину задней лапы. Я положил руку на голову собаки, прислонился к стволу дерева и прикорнул. Вдруг нервный ток пробежал по собаке, я сразу открыл глаза и увидел в пяти шагах от себя белку с большим клоком моха во рту. Белка думала – живые мы или мертвые, потому что и я по охотничьей привычке только глазами повел, и собака не вынула даже носа из развилины. Презанятно было следить за зверьком, – вот этими случаями всегда богата охота, и это меня больше всего к ней влечет. В конце концов белка цокнула, махнула на дерево и оглянулась с сучка: мы не погнались за ней, значит, мы были не страшные. Она быстро с сучка на сучок взлетела на дерево, устроила мох в своем гнезде и своим следом отправилась по земле, наверно, за новым клочком своей зимней постели.
Новый шорох в кустах. Собака повернула туда нос и долго смотрела. Шорох не повторился, но мысль опять вернулась к бандитам и возможности стрельбы в человека, вспомнился мне жирный протопоп, наш законоучитель, когда в первом классе гимназии толковал нам заповедь: не убий. Мы спросили:
– А как же на войне?
– На войне, – сказал протопоп, – можно, там прощается.
Но что-то неладное было в лице протопопа, а то почему же помнится так ясно больше чем через тридцать лет.
Постыдного страха перед бандитами у меня не было, но это сопоставление моей охоты по вальдшнепам и возможности чьей-то охоты по мне лишало чувства полной свободы своей в лесу, из-за чего, собственно, и бывает охота. Милая музыка дождя мне стала неприятной, сырость пронизывала насквозь. Я встал, проверил направление по компасу и пошел искать жилье человеческое. К моему счастью, скоро показался овин, и около него была женщина. Я подошел, это была по виду высохшая деревенская вековуха.
– Можно ли, – спросил я, – у вас чаю напиться? Чай, сахар у меня есть, за самовар заплачу.
– Спрошу матушку, – отвечала вековуха.
И удалилась. Скоро пришла старая женщина и сказала мне одно только слово:
– Идите.
Так не бывает у деревенских людей, всякий непременно спросит: «Вы чьи?» Я понял, что эта старуха была совсем убитая жизнью, потеряла даже охоту расспрашивать, и это у старух уже значит последнее… Мне даже подумалось: «Уж не покойник ли в доме, вот-то попал!»
Я почти не ошибся: хозяин дома был живой покойник. Прислонясь спиной к шкафу, на табуретке сидел мужик в неопрятной, раскрытой на животе одежде, с большой черной бородой, с опухшим лицом. Дух от него шел тяжелый. Он не вставал. Ноги были разбиты параличом. Так он сидел давно, с германской войны.
– Пенсию получаете? – спросил я.
– Нет, – ответил он, – живу придумкой. Пенсии меня лишили из-за Степанова.
Утомительно подробно рассказал мне инвалид, что на войне офицер выдал ему ошибочно вид на Степанова, Объяснил офицеру, что не Степанов он, а Щукин, да офицер торопился и ответил: «Походи пока за Степанова». Когда война кончилась и он явился в деревню, то стал опять Щукиным и в пенсии отказали. Нельзя было и спорить, потому что дознались: Степанов был убит на войне.
– Как же вы живете? – спросил я. – Неужели что-нибудь работаете?
– Нет, я давно не работаю, – ответил сидень. – Я придумкой живу. Когда люди работают, им некогда придумывать, а когда сидишь, так много всего придет в голову, и я это иногда обращаю себе на пользу.
Он рассказал мне несколько примеров такой своей полезной придумки. Однажды пришел агент газеты «Московская деревня», предложил подписаться: всего пятнадцать копеек за месяц. Сидень заплатил пятнадцать копеек, а через месяц продал газету на оклейку за сорок пять, получилась выгода тридцать копеек. Такой случай был.
– Если имеешь голову, – сказал сидень, – то можно жить, совсем не работая. Но только надо твердо держаться своей пользы, а если не будешь держаться пользы и пускать голову думать бесполезное, то можно придумать большой вред для людей. Я всегда с корыстью думаю…
Сидень рассказал еще один случай своей корыстной придумки. Было это с комсомольцами. Поручили они ему хранить библиотеку за рубль в месяц. Сидень уложил библиотеку в шкаф, прислонился к нему и хранит три месяца. Вдруг получается бумага, чтобы сдать библиотеку немедленно.
– А деньги? – спросил сидень.
– Деньги после: три рубля за нами.
– И я тоже после отдам, принесите деньги и получите книги.
Прошло еще шесть месяцев. Приносят три рубля.
– Теперь нужно девять, – ответил сидень, – я хранил девять месяцев.
– Три месяца мы читали, – ответил комсомолец, – получи за три, а шесть месяцев ты хранил бесполезно.
– Вы бесполезно держали библиотеку шесть месяцев, – сказал сидень, – а я думал о пользе, из-за пользы и сидел.
– Из-за своей пользы?
– Из-за своей, конечно, да я-то чей? Ваш же я, ваш коренной земляк. Без своей пользы я жить никак не могу.
Приехал старший. Разобрали дело, и пока разбирали, прошел еще месяц. Пришлось им заплатить десять рублей.
Сидень рассказал мне еще много примеров, как можно придумывать с пользой и жить, не получая пенсии: богатые живут на деньги – голь на выдумки.
– Вот вы, – сказал он, – ходите по лесам, тоже, наверно, придумываете, не так же вы ходите.
Мое дело было сложнее. В моих придумках было как будто много бесполезного и бескорыстного. Но сказать про это было трудно: ведь сидень уже нечто сказал свое о бескорыстной придумке. Я помолчал.
– И не боитесь вы в лесу? – спросил он.
– Чего мне бояться с ружьем и собакой?
– А прошлый год убили охотника и отняли ружье.
Мне смутно вспомнилось что-то читанное об этом в газете. Я попросил мне напомнить. Сидень охотно и с подробностями стал мне рассказывать об этом в свое время очень даже нашумевшем несчастье. К одному охотнику в лесу подошел неизвестный. Закуривая трубку, бродяга убил охотника, взял ружье и вышел на большую дорогу. Ехал доктор с невестой венчаться. Бандит их остановил. Давали деньги, давали золотые часы, все отдавали, только бы он оставил в живых. Но бандит убил молодых двумя выстрелами и зарезал кучера. А деньги не взял и часы не взял, ничего не тронул и убежал.
– Вспомнил, – сказал я, – а нашли его?
– Нашли.
– Судили?
– Конечно, судили и расстреляли. Потому что, если бы он цель имел для себя и пользу, а то ведь убил бескорыстно. Вот и расстреляли.
Я подумал, что ослышался, и, чтобы проверить, спросил:
– Я не думаю, что его расстреляли, потому что ведь если бы он убил корыстно, для своей пользы, а то ведь он даже денег не взял.
– Вот именно, что он без пользы для себя убил, за то и расстреляли.
Я убедился, что не ослышался.
Сидень продолжал:
– Десять рублей я выколотил от комсомольцев, потому что был я доведен жизнью: мне взять негде, я имею умысел. Так человек может быть доведен до убийства, и когда судьи разберут, что был доведен, что имел в этом свою пользу и цель, то объявляют снисхождение. А ежели человек человека убивает бескорыстно, то какое же может быть снисхождение?
Тут я окончательно вспомнил это дело: убийца был сумасшедший и вовсе его не расстреляли. Расстрел придумал сам сидень: это была его легенда о справедливости.
– Сумасшедших надо заключать, а не убивать, – сказал я.
– А если он убежит? – сказал сидень. – И тоже как понимать сумасшествие. Я вам говорил, что придумываю постоянно и всегда цели держусь и пользы своей, а если без пользы думать, то каждый с ума сойдет.
Зима
Случалось не раз мне зимой пропадать в лесу, видал цыган мороза! И до сих пор, когда в сумерках гляну издали на серую полосу леса, отчего-то становится не по себе. Зато уж как удастся утро с легким морозцем после пороши, так я рано, далеко до солнца, иду в лес и справляю свое рождество, до того прекрасное, какое, думается самому, никто никогда не справлял.
В этот раз недолго мне пришлось любоваться громадами снежных дворцов и слушать великую тишину. Мой лисогон Соловей подал сигнал: как Соловей-разбойник зашипел, засвистал и, наконец, так гамкнул, что сразу наполнил всю тишину. Так он добирает по свежему следу зверя всегда этими странными звуками.
Пока он добирает, я спешу на поляну с тремя елями, там обыкновенно проходит лисица; становлюсь под зеленым шатром и смотрю в прогалочки. Вот он и погнал, нажимает, все ближе и ближе…
Она выскочила на поляну из частого ельника далековато, вся красная на белом и как бы собака, но, подумалось, зачем у нее такой прекрасный и как будто совсем ненужный хвост? Показалось, будто улыбка была на ее злющем лице, мелькнул пушистый хвост, и нет больше красавицы.
Вылетел вслед Соловей, тоже, как и она, рыжий, могучий и безумный: он помешался когда-то, увидев на белом снегу след коварной красавицы, и с тех пор на гону из доброго домашнего зверя становится самым диким, упорным и страшным. Его нельзя отозвать ни трубой, ни стрельбой. Он бежит и ревет изо всех сил, положив раз навсегда – погибнуть или взять. Его безумие так заражает охотника, что не раз случалось опомниться в темноте, верст за восемь, в засыпанном снегом неизвестном лесу.
След его и ее выходил из разных концов поляны, в густоте пес бежал по чутью и тут, завидев след, пересек всю поляну и схватился след в след у той маленькой елочки, где лиса показала мне хвост. Еще остается небольшая надежда, что это местная лисица, что вернется и будет здесь бегать на малых кругах. Но скоро лай уходит из слуха и больше не возвращается: чужая лисица ушла в родные края и не вернется.
Теперь начинается и мой гон, я буду идти, спешить по следу до тех пор, пока не услышу. Большей частью след идет опушками лесных полян и у лисы закругляется, а пес сокращает. Стараюсь идти по прямому и сам сокращаю, если возможно. В глазах у меня только следы и в голове одна только и мысль о следах: я тоже, как Соловей, на этот день маньяк и тоже готов на все.
Вдруг на пути открывается целая дорога разных следов, больше заячьих, и лисица туда, в заячий путь. У нее двойной замысел: смазать свой след и соблазнить Соловья какой-нибудь свежей заячьей скидкой. Так оно и случилось. Вот свежая скидка, и, кажется, под этим кустиком непременно белый лежит и поглядывает своими черными блестящими пуговками. Соловей метнулся. Неужели он бросит ее и погонится за несчастным зайчишкой?
Одинокий след ее с заячьей тропы бежит в болото, на край по молодому осиннику, изгрызанному зайцами, пересекает поляну, и тут… здравствуй, Соловей! Его могучий след выбегает из леса, снова схватываются следы зверей и уходят в глубину в смертном пробеге.
Мне почудился на ходу вой Соловья. На мгновенье я останавливаюсь, ничего не слышу и думаю: так показалось. Тишина, и все мне кажется, будто свистят рябчики.
А следы вышли в поле, солнце их все поголубило, и так через все большое поле голубеет дорога зверей.
Она, проворная, нырнула под нижнюю жердину изгороди и пошла дальше, а он попробовал, но не мог. Он пытался потом перескочить через изгородь. На верхней жердине остались два прохвата снега, сделанные его могучими лапами. Вот теперь я понимаю: это я не ослышался, это он, когда свалился с изгороди, с горя провыл мне и пустился в обход. Где уж он там выбрался, мне было не видно, только у границы горелицы следы снова сбегаются и уходят вместе в эти пропастные места.
Нет для гонца испытания больше этой горелицы. Тут когда-то тлела в огне торфяная земля, подымая громадных земляных медведей, и полегли деревья одно на другое и так лежат дикими ярусами, а снизу уже вновь поросло. Не только человеку, собаке, но тут все равно и лисице не пройти. Это она сюда зашла для обмана и ненадолго. Нырнула под дерево и оставила за собой нору, он же смахнул снег сверху и прервал хорьковый след на бревне. Вместе свалились, обманутые снежным пухом, в глубокую яму, и у нее скачок на второй ярус наваленных елей, перелаз на третий и потом ход по бревну до половины, и он продержался, но свалился потом в глубокую яму. Слышно, недалеко кто-то заготовляет дрова, тот, наверно, любовался спокойно, видел все, как звери один за другим вздымались и падали. Человеку невозможно пройти этим звериным пробегом. Я делаю круг по краю горелицы, и вот как тоскую, что не могу, как они.
Встретить выходные следы мне не пришлось. Я вдруг услышал со стороны казенника долгий жалобный заливистый вой. Бегу прямо на вой, гону помогать, трудно мне дышать и жарко на морозе, как на экваторе.
Все мои усилия оказались лишними. Соловей справился сам и снова вышел из слуха. Но разобрать, почему он так долго и жалобно выл, мне интересно и надо. Большая дорога пересекает казенник. Я понимаю, она выбежала на эту дорогу, и по ее свежему следу прямо же проехали сани. Может быть, вот эти самые сани теперь и возвращаются, расписные сани, в них сваты, накрасив носы, едут с заиндевелыми бородами, за вином ездили? Соловей сюда выбежал на дорогу за лисицей. Но дорога не лес, там он все знает, куда лучше нас, от своих предков волков. Здесь дорога прошла много после, и разве может человек в лесных делах так научить, как волки? Непонятна эта прямая человеческая линия и страшна бесконечность прямых. Он пробовал бежать в ту сторону, откуда выехали сваты за вином, все время поглядывая, не будет ли скидки. Так он долго бежал в ложную сторону, и бесконечность дороги, наконец, его испугала, тут он сел на край и завыл, звал человека раскрыть ему тайну дороги. Сколько времени я путался в горелице, а он все выл!
Верно, он просто вслепую бросился бежать в другую сторону. В одном краешке дороги осталось ее незатертое чирканье, тут он ободрился. А дальше она пробовала сделать скачок в сторону, и почему-то ей не понравилось, вернулась, и на снегу осталась небольшая дуга. По дуге Соловей тоже прошел, но дальше все было стерто: тут возвратились с вином сваты и затерли следы Соловья. Может быть, и укрылось бы от меня, где она с дороги скинулась в куст, но Соловей рухнул туда всем своим грузом и сильно примял. А дальше на просеке вижу опять, смерть и живот схватились в два следа и помчались, сшибая с черных пней просеки белые шапочки.
Недолго они мчались по прямой – звери не любят прямого, опять все пошло целиной от поляны к поляне, от квартала в квартал.
Радостно я заметил в одном месте, как она, уморенная, пробовала посидеть и оставила тут свою лисью заметку.
И спроси теперь, ни за что не скажу, не найду приблизительно даже, где я настиг наконец-то гон на малых кругах. Был высокий сосновый бор и потом сразу мелкая густель с большими полянами. Тут везде следы пересекались, иногда на одной полянке по нескольку раз. Тут я услышал нажимающий гон: тут он кружил. Тогда моя сказка догадок окончилась, я больше не следопыт, а сам вступаю, как третий и самый страшный, в этот безумный спор двух зверей.
Много насело снежных пушинок на планку моей бескурковки, отираю их пальцем и по ожогу догадываюсь, как сильно крепнет мороз. Из-за маленькой елки я увидел наконец, как она тихо в густели ельника прошла в косых лучах солнца с раскрытым ртом. Снег от мороза начинает сильно скрипеть, но я теперь этого не боюсь, у нее больше силы не хватит кинуться в бег на большие версты, тут непременно она мне попадется на одном из малых кругов.
Она решилась выйти на поляну и перебежать к моей крайней елочке, язык у нее висел набоку, но глаза по-прежнему были ужасающей злости, скрываясь в своей обыкновенной улыбке. Руки мои совсем ожглись в ожидании, но хоть бы они совсем примерзли к стальным стволам, ей не миновать бы мгновенной гибели! Но Соловей, сокращая путь, вдруг подозрил ее на поляне и бросился. Она встретила его сидя, и белые острые зубы и улыбку свою обернула прямо в его простейшую и страшную пасть. Много раз уж он бывал в таких острых зубах и по неделям лежал. Прямо взять ее он не может и схватит только, если она бросится в бег. Но это не конец. Она еще покажет ему ложную сторону взмахом прекрасного своего хвоста и еще раз нырнет в частый ельник, а там вот-вот и смеркнется.
Он орет. Дышат пасть в пасть. Оба заледенели, заиндевели, и пар их тут же садится кристаллами.
Трудно мне подкрадываться по скрипящему снегу: какой, наверно, сильный мороз! Но ей не до слуха теперь: она все острит и острит через улыбку свои острые зубки. Нельзя и Соловью подозрить меня: только заметит и бросится, и что если она ему в горло наметилась?
Но я, незаметный, смотрю из-за еловой лапки, и от меня до них теперь уже немного.
На боровых высоких соснах скользнул последний луч зимнего солнца, вспыхнули их красные стволы на миг, погасло все Рождество, и никто не сказал кротким голосом:
– Мир вам, родные, милые звери.
Тогда вдруг, будто сам Дед-Мороз щелкнул огромным орехом, и это было не тише, чем выстрел в лесу.
Все вдруг смешалось, мелькнул в воздухе прекрасный хвост, и далеко отлетел Соловей в неверную сторону. Вслед за Дедом-Морозом, точно такой же, только не круглый, а прямой с перекатом, грянул мой выстрел.
Она сделала вид, будто мертвая, но я видел ее прижатые уши. Соловей бросился. Она впилась ему в щеку, но я сушиной отвалил ее, и он впился ей в спину, и валенком я наступил ей на шею и в сердце ударил финским ножом. Она умерла, но зубы так и остались на валенке. Я разжал их стволами.
Всегда стыдно очнуться от безумия погони, подвешивая на спину дряблого зайца. Но эта взятая нами красавица и убитая не отымала охоты, и ее, мертвую, дать бы волю Соловью, он бы еще долго трепал.
И так мы осмерклись в лесу.
Я поселился на береговой горе самого большого озера в средней России в пустынном доме, обвеянном сказаниями суеверных людей о чертях, стерегущих клады, зарытые будто бы в этой горе. Я рассчитывал, что поживу здесь только лето, но вышло не так, как думалось: явились сюда географы для обследования озера, странные какие-то люди, и заманили жить здесь круглый год.
Географы, как я замечал, всегда странные люди, во всяком случае не такие, как все мы, устраивающие свою жизнь так, будто земля неподвижная и плоская: географы живут на земле, как на корабле, мчатся вокруг солнца, и им, конечно, жизнь наша представляется иначе…
И все молодые люди этой экспедиции были очень странные, только начальник их, пожилой седеющий профессор, очень здоровый, неутомимый человек, был как будто совсем и не похож на географа: веселый, обыкновенный человек. Мы с ним сговорились устроить в этом доме географическую станцию, и я соглашался взять на себя для начала дела роль и наблюдателя и коменданта. Перед отъездом студенты перетащили в мою комнату все многочисленные географические инструменты и приборы, профессор дал слово, что через неделю непременно вернется с бумагой о моем назначении, даст инструкции для наблюдений и научит обращаться с приборами. Это было в июле, теперь зима, профессора все еще нет. Инструменты лежат в углу запыленные, без употребления. Профессор оказался, как все географы, тоже странным человеком…
В ожидании профессора я стал делать наблюдения по-своему. Мне пришло в голову, что раз меня в географии интересует только воспитание в себе чувства жизни как движения, то не все ли равно, буду я наблюдать точным научным способом или же как мне самому представляются ежедневные изменения в виде солнца, месяца, озера, вообще пейзажа и жизни человека, близкого к природе. Ведь и при таком наблюдении непременно получится сегодня не как вчера, и завтра я тоже отмечу новый этап в движении нашей планеты. Я стал изобретать свои методы наблюдений, учиться давать верные и яркие характеристики проходящим дням. Несколько недель я путался, боролся сам с собой, как всегда бывает при начале нового дела, но мало-помалу вошел в колею, и мне стало, будто я путешествую, а корабль мой – планета Земля.
Я брал для записей разные мелочи, какие мне только попадались на глаза, и сегодня это пустяки, а завтра из сопоставления с другими новыми мелочами получалась картина движения планеты. Вчера кипела жизнь в муравейнике, – сегодня они убрались в глубину своего государства, и мы отдыхаем в лесу на муравьиной куче, как в американском кресле. Вчера ночью мы ехали на санях закрайком озера, слышали с незамерзшей его стороны разговор между собой лебедей, в морозной пустынной тишине лебеди казались нам какими-то разумными существами, и у них был какой-то очень серьезный совет. Сегодня лебеди улетели, и мы разгадали совет лебедей – они сговаривались об отлете. Я записал тысячи трогательных подробностей, сопровождавших странствование вокруг солнца нашей вертящейся планеты: и как шумела черная, наполненная ледяными иглами вода о ледяные закрайки, и как в солнечный день сверкали плавающие льдинки, и как последние чайки обманывались, принимая их за рыбу, и как однажды ночью в тишине совершенно прекратился шум озера и только гудела телефонная проволока над мертвой равниной, где вчера кипела такая сложная жизнь.
Теперь я не раскаиваюсь, что остался здесь зимовать, и не очень досадую на географа, что он не научил меня обращению с приборами. Не всякий может достать себе дорогие приборы, но как я делаю, доступно каждому: я прокладываю путь для множества людей, разбросанных в степях, в лесах и пустынях необъятной страны, воспитанных на плоскости, в неподвижности томящихся узким своим кругозором… Всего ведь какие-нибудь десять минут в день для характеристики проведенного дня, и через несколько месяцев получается новая картина движения жизни и единственная, потому что жизнь не повторяется, путешествие наше вокруг солнца каждый год совершается по-иному.
В предрассветный час иногда зарождается мороз, определяются направление и сила ветра, и потому, если хочешь понять, как сложится день, непременно надо выйти из дома и наблюдать предрассветный час. От моего жилища до крутого обрыва над озером всего двадцать шагов, тут я стою, наблюдаю, как по диску луны перемещается тончайшая веточка осины, другая проходит, третья, этот осинник, как бы шерсть земли, в которой запрятался я, и эти веточки, отдельные шерсточки, проходя по диску луны, открывают мне движение планеты, – любимый мой опыт и, кажется, единственный, позволяющий видеть глазами движение… Так легко на этом высоком кряже в пустынный предутренний час забыться от неверного, нажитого с детства представления жизни на неподвижной плоскости и чувствовать себя пассажиром огромного корабля на точке его, обозначенной меридианом и параллелью. Да, я пока пассажир, но пройдет большое время, и это мой же собственный дух, перемещенный в другого, через тысячу жизней вперед поведет этот корабль от потухающего солнца к какому-нибудь более горячему светилу…
Сильный ветер порывом налетел, закачал осины и спутал видимое движение. Но все равно, видно или не видно глазами, земля несется в пространстве. Ветер сильнеет. Деревья начинают стучать друг о друга оледенелыми сучьями. Каждые десять минут на рассвете температура падает на полградуса, и вот уже становится невыносимо стоять на мостике будущего капитана земли: пятнадцать при сильном ветре. Восход начался в красных мечах.
На пять минут я забежал домой поставить самовар, и когда вернулся, мечей уже не было, солнце закрылось, и по всему озеру бежали дымки метели, обнажая местами темный лед. Пока не замело еще ночные следы зверей, я спешу на лыжах проверить волка, стерегущего мою охотничью собаку, и скоро нахожу в кустах отпечатки его хорошо знакомых мне лап, и лисица была, оба подходили к могиле моей собаки и тормошили обглоданные кости. Я догадываюсь, что волк – глубокий старик, потому что всегда держится отдельно от стаи; у них уж такой порядок заведен: если остарел, зубы плохи и не поспевают за молодыми, работай отдельно. Такой волк занимается больше собаками и за то у охотников называется собашником. Из-за этого проклятого собашника я дрожу каждый раз, когда мой Соловей погонит лисицу и выйдет из слуха. Рассматривая следы, я говорю: «Погоди, любезный, вот скоро я доберусь до тебя, попробуешь ты моего горошку». След идет из брусничного оврага в поле, а там несет и так удивительно наметает на след, что он становится выпуклыми, далеко видными шишками с точным изображением пальцев, когтей, будто из гипса по форме отлитыми.
Некоторое время я иду по шишкам, но капризная метель вдруг как будто не захотела, чтобы я проник в звериные тайны, и совсем начисто все перемела.
На обратном пути я вспомнил лисий след и на случай пробую его обойти: в метель лисице очень удобно залечь в этом овраге. Я иду по кругу, считая входные и выходные следы, и не знаю до самого последнего шага, смыкающего начатый круг, тут она или вышла. Под конец между мной и начальным следом – плотный кустик можжевельника, и тут уже все мое сердце начинает биться, я обхожу кустик: выходного следа нет, круг сомкнут, и я владею значительной тайной прилегающей к моему дому местности, что в этом небольшом отъемчике спит грозный враг моих тетеревей и куропаток.
Теперь, когда все кончено, мне хорошо известна история ее ночных похождений. Вчера в сумерках она охотилась за тетеревами, которых летом я не стрелял, берег, чтобы слушать весной с крыльца токование. Всего их тут шесть: две серых тетерки и четыре петуха, краснобровых и с лирами. Снег уже такой высокий, что они могли доставать снизу ветки можжевельника, оно бродили тут весь день и везде между кустами оставили на снегу прелестные цепочки своих следов. Под вечер они тут же и зарылись в снегу, каждый сделал себе в сугробе отличную комнатку с маленьким окошечком вверх для дыхания. Лисица еще в сумерках, вероятно по цепочкам следов, подобралась к спальням и схватила одного петуха. На снегу осталось множество перьев, и дальше долго все капала кровь. Лисица хорошо наелась, свернулась калачиком на большой, широкой, как стол, моховой кочке, под снегом, будто под скатертью. Она была очень сыта и не пошла на утреннюю охоту, а главное, ее остановила, должно быть, метель.
Лисица спит и не слышит, не знает, что на жизнь ее готовится заговор. Два охотника совещаются между собой, шепотом спорят и наконец решаются, пользуясь сильным ветром, срезать еще немного оклад. Им это удалось, теперь они берут по большой катушке и развешивают по окладу на кустиках шнур с красными флагами, идут в разные стороны, оставляя за собой магический круг, сходятся, торжествуют – лисица зафлажена, и это значит, все равно, что взята.
Если захотеть, можно держать ее три дня и больше под флагами, потому что она слишком хитра по-звериному, но не хватает у нее одной крупинки человеческого, зачем человечьего, даже рысьего, даже медвежьего разума, чтобы плюнуть на всю затею охотника и махнуть через оклад. Но что говорить о лисице – сколько есть на свете таких людей с бегающими глазками…
Против одной маленькой, но очень плотной елочки, за которой так удобно спрятаться, охотники снимают немного шнура с флагами и так оставляют выходные воротца. Один охотник с ружьем наготове остается за елкой, у него безосечные патроны Элея и в каждом патроне двадцать четыре картечины, залитые парафином для кучности боя. Другой охотник вступает в круг с противоположной стороны, тихонько движется, наступает по входному следу – то чуть-чуть свистнет, то заломит замерзший сучок.
Лисица еще спит, еще не знает, что вокруг нее сомкнутая цепь флагов с единственным выходом через роковые воротца. Но слух у нее хорош и во сне. Что-то свистнуло. Подымает голову. Треснул сучок. Встает. Еще послушала. Идет тихонечко, идет, идет…
– Стой, флаги…
Назад идет, трусит…
– Стой, флаги…
Осела. Прислушалась, совсем близехонько треснул сучок. Пошла скачками прямо на роковые воротца…
Стой. Неминуемо: скорее на часах зацепится стрелка о стрелку, чем дрогнет черная мушка, поставленная на рыжий бок…
Бывает охота по правилам и бывает по случаям. Я большей частью охочусь по правилам, а живу по случаям: не соберусь все как-то устроиться, все как-то жалко время терять на пустяки, жизнь так коротка… Можно ли благоразумному человеку забыться до того, чтобы, заехав в самое сердце зимы, не запастись дровами и довести свою кассу до того, что в ней осталось всего шестнадцать копеек. Но я живу по случаям не один год и за это время понял, как нужно вести себя, чтобы случаи повторялись: нужно встречать их всегда с веселым лицом… Знаю, как нелегко быть веселым, когда на сердце кошки скребут, но что же делать, если не можешь по правилам. Так вот, сгорела у меня последняя вязанка дров, а я пошел на охоту, вернулся с лисицей. Кто-то видел меня с лисицей, слух дошел до кошатников, и не успели мы шкурку опять, является и дает мне за нее денег на две с половиной сажени березовых дров. С кошатником я наказал приятелю своему, охотнику дяде Михею, чтобы он непременно и как только можно скорее привез бы мне сухих дров.
Всю эту ночь бушевала метель и выдула дом совершенно. В предрассветный час вышел я наблюдать, и сейчас же вернулся, – нечего наблюдать, кругом гудит, свистит, несет сверху и снизу, вмиг пронизывает до костей. А между тем в этот час, наверное, дядя Михей, плотно поев, одевается и едет в лес за дровами. У него такого случая быть не может, чтобы одним выстрелом добыть себе две с половиной сажени, он не рассеянный, живет по правилам, заготовил дрова в лесу еще летом. Он продает их, чтобы не умереть с голоду, но сознает, что дело его большое, для всех важное, и если он ест кусок, то знает, что другой его же кусок люди едят… Заготовленные сухие дрова он продает, сам же топится сырыми, и потому в избе у него всегда холодно. Жить можно бы только на печке, да там только ребятишкам да бабам места хватает, а дядя Михей спит в печке. Но тут уж я отказываюсь понимать эту жизнь в печке по правилам и живу, стараясь по возможности не обижать других, по случаям…
На рассвете еще слабо несло, только нос щекотало, лыжа тонула в снегу на пол-аршина, я посмотрел на дом со стороны и подивился: это не дом был, а какой-то нансеновский «Фрам» в полярной стране, засыпанный, затертый, а вокруг белый курящийся зыбучий океан, далеко вокруг никакого жилья, никакого следа человека, и даже засыпаны все звериные следы совершенно. Конечно, сегодня старухе не принесть молока из деревни. И дядя Михей, верно, пожалеет сначала свою лошаденку, потом, может быть, и себя. Что же делать-то? Одеваюсь, подпоясываюсь, беру топор, иду в лес, приволоку сам какое-нибудь сырье… В можжевельниках намело неправильные, островерхие, похожие на дюны сугробы, я провалился в одном по самую шею, барахтался, ознобил руки. А пока я бился в сугробе, вдруг встало белое во весь рост от земли и до неба. Казалось, белый охотник складывает меня своим шнуром, я же так беспомощен и дивлюсь, зачем он хлопочет, – приди и возьми. Не миновать этой жути в природе, когда опускаются руки, и если тонешь, то кажется гораздо легче тонуть, чем жить, если замерзаешь, то много приятней мерзнуть: из-за чего тут стараться, если годом раньше, годом позже, тыкаясь в зафлаженные стороны, подойдешь непременно к своим роковым воротам.
Странно увеличиваются в метель все предметы. Кустарник мне показался стеной высокого леса, и вдруг из него выскакивает зверь, высотой в пол-леса, с ушами в аршин. Зверь летел прямо на меня, так что я даже для обороны взмахнул топором, но зайцу я показался, наверное, еще страшнее, чем он мне, и он сразу махнул в сторону. Вслед за ним показалось и то, что его подшумело, какая-то высокая башня, а из этого вышел дядя Михей и обыкновенным своим голосом говорит мне о зайце:
– Будь у меня палка в руке, я бы этого косого черта забил.
Палкой он, правда, кажется, больше их убил, чем из ружья.
– Ну, а как же дрова, дядя Михей?
– Свалил.
Не мог довезти и где-то недалеко в поле свалил. Мы перевозим их на санках и сразу пускаем в ход во все печи. Из всех труб мой «Фрам» гонит дым, но он сразу и исчезает, как дым папироски, присоединяясь к белому, что стало от земли и до неба.
Когда в комнате мало-мальски согрелось, я записал свои наблюдения зимы: то белое красивое, что было до сих пор и всеми называется зимой, мне представилось только большим зазимком, а в сердце зимы мы вступаем только теперь. В этом сердце зимы мне все чудится, будто тот охотник складывает нас и оставляет для каждого неизбежные роковые воротца.
Что же делать?
На смену из прежней теплой жалости к человеку встает холодная, как зима, решимость.
Дрова разгораются.
Я думаю:
«Взял же когда-то человек в руку зажженное молнией дерево, стал у всех огонь, – догадался же… Так и тут, вероятно, что-то простое, – когда-нибудь догадаются и вдруг махнут через оклад?»
Сколько в эту снежную зиму слетело с неба белых чистых пушинок, столько же – не меньше! – матерных слов вылетело из уст обозного мужика, поставляющего строевой лес из глубины Переславль-Залесского уезда на станцию Берендеево. И чем больше летит снега, тем больше ругаются, потому что при встречах каждому хочется засадить в снег по шею не свою лошадь, а своего ближнего.
При хорошем своем настроении я не обращаю никакого внимания на ругань в обозе, а только измеряю глубину снега, толщину льда на озере, отмечаю всякое новое явление в жизни природы и так делаю свое радостное заключение о движении земли, и мне кажется тогда, будто я путешествую вокруг солнца и корабль мой – Земля. Я отмечаю каждый день новой характеристикой и воспитываю свое внимание к постоянному движению жизни, которая, протекая, никогда не возвращается назад в той же форме.
Но если случится какая-нибудь передряга в каюте моего корабля или понездоровится так, что я не в силах любоваться слетающими с неба пушинками, я слушаю только ругань в обозе и, замечая, как она усиливается, тоже делаю заключение об утолщении снежного покрова, мешающего мужикам разъезжаться, значит, тоже о постоянном движении планеты: все равно, куда ни смотри – на небо или на землю, – мы движемся…
Мы все воспитались в сознании жизни на плоскости и в неподвижности, не учитывая в своей обыкновенной жизни головокружительный полет нашей планеты. Наши школьные географические познания мы отбрасываем, как не имеющие никакой рабочей ценности в нашей повседневной жизни. Я все думаю об этом, думаю, и мне кажется иногда, что моя работа над учетом и характеристикой каждого момента движения планеты, если я сумею раскрыть его человеку, воспитанному жизнью на плоскости, грандиозная. Мое путешествие на Земле будет называться Круглый год.
Из подшефного села учительница с мальчиком мне прислала «Известия». Я сказал мальчику:
– Какой у нас завтра праздник?
– Советский, – ответил мальчуган.
– Рождество, – сказал я, – праздник христианский, при чем тут советский?
– Ну что ж…
– Как «ну что ж»! Будут у вас в селе праздновать.
– Не будем! Они не хотят наше Рождество праздновать, а мы ихнее.
– Дурачок, кто это они?
Я рассказал мальчику о движении Земли вокруг Солнца и о предстоящем завтра великом празднике Солнцеворота, означающем прибавление света и, может быть, разума. Мальчик, оказывается, все это слышал в школе, и слушать еще раз географию ему неинтересно; пусть летит Земля и прибавляется свет, веселиться они все-таки будут по-старому.
«Он прав! – решил я, – Географию надо сделать веселой, и тогда мы победим».
После этого разговора я записал себе для памяти, что путешествие свое вокруг солнца я непременно должен описать весело.
Ночью была метель, я несколько раз выходил на двор – все метет и метет. Казалось, назавтра никак нельзя думать о волчьей облаве. Но случилось так, что матерая пара волков задержалась до света на приваде. Их кто-то подшумел на темнозорьке, они вышли на озеро и сели в раздумье, куда им идти. Начальник нашей волчьей команды, великан Федя, с своим помощником, кассиром из казначейства, Дмитрием Николаевичем, подсмотрели их, сели в кусты и, когда волки тронулись в нежеланную сторону, выскочили, поднажали и так вогнали в наш лес. Сытые волки недолго шли и улеглись недалеко от села, за коровьим кладбищем.
Хаживал я с Федей в оклад по глубокому снегу! В спешке за его шагом убьешься до того, что свалишься и, как собака, хватаешь ртом снег и видишь, как пар валит от себя, а великан подойдет и, упрекнув в малодушии, еще лыжей поддаст. Больше я не хожу с ним в оклад и прямо являюсь на номер стрелком.
Я никак не думал в этот день об охоте, и вдруг за мной приезжают:
– Волки зафлажены!
Это значит, по окладу развешены флаги, и волки сидят в роковом кругу, дожидаясь стрелков. Если охотнику скажут «волки зафлажены», то он бросает все и спешит без памяти потому, что день очень короткий. Лошадей нигде не было, все возят лес, приехал за мной мальчик на жеребенке я почти что на салазках. Но мы едем скоро и на жеребенке, пока встречный обоз не обрушивает нас в снежное море, и мы там, пропуская подводу, считаем ее за долгую версту. Пропустив обоз, попадаем на другой и опять версты считаем. А день заметно бежит под уклон. Это одно из самых главных препятствий на волчьих охотах – короткий день, из-за этого часто не удается облава. Но мы в селе при хорошем свете, остается только верста до болота без встречных обозов.
И вот в селе при такой-то нашей спешке хозяин жеребенка велит нам:
– Слезайте!
– Как?
– Рядились до села.
Так постоянно бывает в борьбе с серыми помещиками, что зимой, когда стада на дворе, крестьяне охотнику ставят палки в колеса, а когда волка убить невозможно, летом, и он ежедневно режет скотину, все вопят о помощи. Мы к этому привыкли и спокойно набавляем хозяину жеребенка рубль, два, три. Когда волк будет убит, расплачиваться будет Федя лыжей по заду, а вокруг будут смеяться и приговаривать: «Наддай, наддай еще, Федя, ему, подлецу».
Через минуту мы освобождаемся от хозяина и катим без задержки. На развилине лесных дорог нас дожидается человек и машет рукой. Мы оставляем сани, подходим, он шепчет:
– Скорей, скорей, дожидаются!
Курить уже больше нельзя. А чтобы не кашлять, как это всегда бывает, если оборвешь курево, – в рот кусок сахару. В других богатых командах за кашель полагается штраф, но у нас ни с кого ничего не возьмешь, у нас и так все боятся, потому что за кашель Федя побьет: штраф у нас натуральный.
Второпях мы лыжи забыли, а спешить по глубокому снегу, значит, в несколько минут запыхаться, и сердце так бьется, что в лесу отчетливо слышится эхо от его ударов, а в ушах звенят колокольчики.
Юноша мой, завидев первые флаги, пускается бежать. И трудно не взволноваться при виде этих следов таинственного лесного дела. А Федины флаги необыкновенные: правильные, разноцветные, так что будто это фонарики.
Мы с версту идем по линии флагов, пересекаем входные волчьи прыжки и тут видим молчуна. Его дело молчать и слушать кричан, и если волки сюда бросятся, – нажать и послать на стрелков, потому что, испуганные, иногда они могут перескочить через флаги. Молчун может иметь удовольствие не меньше, чем и стрелок: нажмет, и вслед за тем послышится выстрел.
Флаги кончаются. Мы подошли к тем роковым для волков воротам, через которые они должны проходить. Тут у ворот выкопал себе в снегу яму кассир казначейства, Дмитрий Николаевич, обставился елками, и над засадой видна только его шапка, повязанная белым платком. Через сто шагов такая же засада у Феди. Великан подымается, снимает и для нас флаги, из кожаного футляра вынимает пилку и в один миг из елочек делает новые засады для нас. Мне кажется, что и пилку эту он сделал собственными руками, чтобы пилила бесшумно, и лыжи такие только у него, сам делал, сам пропитал их каким-то снадобьем, чтобы в оттепель не прилипал снег. Он знает сотню ремесел, и говорят даже, когда-то в прежние годы своими руками сделал магазин, открыл в нем Мюр и Мерилиз, роздал в долг товары охотникам и прогорел навсегда.
Волки сделаны отлично, но загонщики пошли без ерша, значит, без руководителя. Обыкновенно ершом бывает сам Федя, но в этот раз он не надеялся, что мы успеем приехать, и сам стал на номер. До его слуха сразу дошло, что загонщики пошли дуром, и как же, наверно, чешутся у него руки на них! Слева от меня стоит мой юноша, и я за него очень побаиваюсь. В одиночку можно прекрасно стрелять бекасов, а на людях иногда труднее в волка попасть. Бывает, волк проходит на шестьдесят шагов, – девяносто процентов, что положишь его, но этот волк идет так, что, если удержишься от выстрела, он к соседу придет и на десять шагов; значит, надо овладеть собой и удержаться. Бывает, выходит один волк и в пяту ему наступает другой, надо пропустить первого, стрелять второго и, когда первый от этого замешается, бить и его. А неопытный ударит первого, и тогда второго ему не видать. Таких случаев множество.
Передо мною стожар, левее елка, по одну сторону ее стоит мой юноша, по другую идет волк на махах. Волк миновал ель и, как бы ослепленный поляной, на мгновенье останавливается: задние ноги глубоко в снегу, передние не провалились. Странный цвет у волка на снегу, не серый, нет… И вдруг он весь проваливается в снег, пробует подняться, еще выстрел, и он совсем исчезает в снегу, а я так и остаюсь с вопросом, какой у него, живого, на снегу был цвет.
Убита матерая волчица так чисто, что не успела даже снега примять, как живая положила морду на передние лапы, уши торчат.
– Чисто убита, – говорит Федя, довольный прекрасным выстрелом, – только зачем же ты еще раз стрелял?
Юноша молчит, но это известно почему: за упущенного волка штраф в нашей команде тоже бывает натурой, так уж лучше для верности еще раз стрельнуть в мертвого.
Волчица была неопределенного цвета, серое с желтым, но это совсем не то, что мне показалось, когда она так гордо стояла живая на снегу; потихоньку я спросил юношу, какой она ему показалась, когда стала против стожара.
– Зеленая, – ответил юноша.
Два парня, выдернув стожарину, продевают через связанные ноги волка и несут его совершенно так же, как на картинках убитых львов носят в Центральной Африке. Федя устраивает волка в санях так, что при малейшем повороте встречная лошадь, завидев страшную голову зверя, бросалась бы в снег и так без спора освобождала дорогу борцу с серыми помещиками.
Мой дом стоит над озером, на высокой береговой горе, внизу по берегу та самая дорога, по которой почти непрерывно движутся обозы с лесом. В ночь после праздника Солнцеворота возвращался пустой обоз со станции за лесом, – пронюхали, что лесная контора не будет отпускать лес три дня по случаю праздника, а потому, что железная дорога работу не останавливает, выдумали вывезти из лесной конторы в ближайшую деревню загодя столько, чтобы можно было возить лес на станцию без остановки во все дни праздника Рождества по новому стилю.
Пустой обоз шел обратно в ту деревню за лесом. Месяц только что народился, было совсем темно. Мне удалось после облавы в селе достать резвую лошадку, и, приехав много раньше товарищей, я приготовлял для них кое-что. При долетавших до меня и через окно криках в обозе при встречах я думал о не измеренном мной сегодня новом осадке снега и заполнял пропущенный день для точных измерений прибавкой на слух руготни. Так или так, мне все равно, лишь бы чем-нибудь каждый день отмечать движение планеты и потом связать волшебной траекторией весь круглый год. И, конечно, мне много лучше, если движение удается сразу же выразить не цифрами, а в образах жизни: цифры остаются в обсерваториях, а люди живут, не зная о них, на плоскости и в неподвижности. Мои образы должны проникнуть в сознание обывателя, которому утолщение снежного покрова много понятней по усилению ругани на дорогах, чем по числу делений в мензурке.
«А ведь где-то есть аэросани», – подумал я.
И в тот самый миг, как я подумал про аэросани, внизу пронесся такой ураган ругани, такие крики, что я сразу понял: такой крик не может быть просто при утолщении снежного покрова. Я подумал, не напали ли волки? Не очень давно было так, что волки выскочили из канавы и прямо с подводы взяли собаку. Я схватил ружье и бросился вниз по горе. Когда глаз мой привык к темноте, я разобрал, что какой-то великан дрался с мужиками и очень успешно расшвыривал их в снег. Но к дерущимся мужикам подоспела подсвежка из другого обоза, и, казалось, великану капут. Однако он, исчезнув на мгновение, опять показался с лыжей в руке и так ловко действовал, что скоро расчистил вокруг себя непроходимый круг, и тут все увидели, что дрались с нашим начальником волчьей команды. Узнав, все успокоились, и все пошло своим чередом. А вышло это потому, что первая лошадь, увидав страшную голову волка в санях, бросилась в сторону, хозяин, не разобрав, в чем дело, полез драться. Федя дал ему… На помощь потерпевшему бросились другие, и пошла кутерьма.
Так вот и это пришлось записать, что в день Солнцеворота у многих повернулись носы на сторону.
На краю поля стоит, уши развесил, неисходимый казенный лес. Поле глядит, лес слушает. А на другом конце поля слобода Пониковка, как старуха, сидит и все, что покажется в поле, все, что послышится в лесу и почудится, собирает в суму.
И много коробов всякой всячины, лесной и полевой, набрала старуха. Много раз от самой Спиридоновны с трепетом слушали мы ее рассказ о ее страшной волчиной ночи и дивились обычаю волчьих заметок. Но теперь, как вспомнишь, удивительней всех лесных и полевых чудес сама Спиридоновна.
В то время Спиридоновна жила у нас на Пониковке и была она мирская няня, это значит, что ходит она из дома в дом к больным детям и живет на месте только на время болезни.
Когда у бедных людей заболеет дитя, на пороге появляется высокая старуха и спрашивает:
– Не улетела еще душка?
Тогда мать может смело идти на работу, дитя ее в верных руках, и едва ли найдется такая любящая и заботливая мать, как мирская няня Спиридоновна.
Так было раз у нас, заболел Петюшка, и трудновато было нам с ним до последней крайности: жена сидела с ребенком, я до службы старался управиться и с водой, и с дровами, и с базаром, но где тут было управиться! И вот уже на службе начали коситься. Что тут делать?
Однажды встаю с постели, открываю дверь на стук, входит Спиридоновна и спрашивает:
– Не улетела еще душка?
Сразу она развязала нам руки, а когда через месяц Петюшка оправился и дошел слух, что у кого-то на Пониковке тоже заболел ребенок, Спиридоновна стала с ним прощаться. С Петюшкой она прощалась, как мать, когда провожает сына на войну: убивалась, так убивалась! А пройдет время, с другим ребенком будет так же прощаться, как с Петюшкой. Вот за то она и есть мирская няня, что материнская любовь у нее неиссякаемая, и как есть другая любовь, которой иная женщина тоже многих может любить, так и эта материнская любовь у Спиридоновны переходит на множество младенцев, и как раз, когда ребеночек оздоровеет и делается как бы своим собственным, приходится с ним расставаться и к другому идти. Удивительная была эта мирская няня, и много я за месяц тогда узнал от нее всего: постоянно что-нибудь рассказывала.
Было это в сочельник Нового года, за лесом помирал старый дед. У того деда никого не было в избе, только сирота-младенец. Без дедова ухода «закричалось», потом стихло и загорелось дитя. За поздней обедней сказали это Спиридоновне: дед и дитя помирают за лесом. После обедни, по обычаю, пошли поминать на кладбище покойников. Спиридоновна тоже понесла туда свои поминальники. Кладбище тесное, покойник к покойнику, гроб на гроб, камень на камень. Родную могилку узнают только по зарубкам на соснах, и даже у иных и зарубки-то сходятся – вот какая теснота. По-настоящему надо бы перенести кладбище на другое место, но уж очень привыкли тут хоронить: высокое кладбище, сухое, песочек, покойникам лежать хорошо, а живым помянуть – одно удовольствие. Разложили в это утро женщины свои пироги, пришел батюшка, окадил: пономарь собрал в мешок поминальники, Пономарев поросенок пришел добирать, а за поросенком давно уже следил узкомордый волчонок.
Спиридоновна, мирская няня, не здешняя, у нее тут нет родных, но и она поплакала на тех могилках, где свежее и большое горе, а когда все разошлись, – она всегда поджидала, чтобы не попали ее поминальники в Пономарев мешок, – раскрошила свои пироги над всеми могилами, и сейчас же стали слетаться разные птицы на крошево. Залюбуешься, когда между засыпанными снегом соснами в солнечных лучах слетаются птицы. Светло и на душе стало у Спиридоновны: мирская няня только и жила светлым покоем души.
А тот волчонок, стерегущий Пономарева поросенка, все полз и полз по канаве, почти что напоролся на старуху, увидев ее, ужасно перепугался и пустился бежать полями прямо к казенному лесу. Свежий волчий след на поле перехватили охотники, побежали на лыжках складывать, но вдруг помутилось небо, снег повалил, и ветер вовсе замел волчьи следы. Только в самой глубине леса, куда и ветер не проходит, на пнях и волчьих кустарниках остались какие-то не засыпанные снегом волчьи заметки. По этим заметкам волки понимали свое волчье; разобрав, оставляли новые заметки, и новые волки, читая старое, оставляли свое. Так, по-своему, они узнавали и свою волчью жизнь, и разные человеческие новости, если они касались волков. Волчонок, стерегущий Пономарева поросенка, конечно, все на пнях разболтал.
Когда замутилось небо, замутилась и душа у Спиридоновны. Не попасть, думает, к младенцу, пропадет без нее дитя. Дома сама не своя металась к окошку мирская няня, выглядывала, не стихает ли метель. Под вечер понемногу начало было униматься, но тут другая беда: ехать надо казенным лесом, а ночью теперь там стаями ходят волки. Думала, думала Спиридоновна, как ей быть, и вот приходит к ней соседка с ребенком на руках.
– Милая душка, – сказала Спиридоновна ребенку, – посмотри в окошко, можно ли мне ехать?
Верила она, как в старину многие верили, что невинное дитя никогда не обманет.
– С дороги не собьюсь, не застыну, волки не обидят меня?
Ребенок ответил:
– Волки, бабушка, тебя не обидят.
Так вышло Спиридоновне ехать. Соседка пошла запрягать буланку, а волчонок, стерегущий буланку, побежал в казенный лес, оставляя на кустиках заметки, что Спиридоновна собирается на ночь ехать на буланке через казенный лес.
Ослепила метель все глазастое поле, залепила слух ушастому лесу, но волки по-своему знали, что этою ночью непременно стихнет и даже покажется месяц. Старая волчиха-хороводница опять захотела испытать силу и ловкость своего лобастого друга, ставила метки в лесу, готовила большую гульбу. Осторожно, вдумчиво обнюхивая эти заметки, неслышно ступали волки по рыхлому снегу и собирались на опушке возле старой волчицы.
Не ошиблись волки, загадывая гулевую ночь, месяц скоро взошел, и показалась в поле черная мельница. Так чисто стало и заметно на белом: полынки стояли на меже, и на них-то волки посмотрели и подумали, не мужики ли это вышли на поле.
Лес прислушался. Далеко на Пониковке тявкала маленькая собачонка на луну. И огненным волчьим глазам было видно, как на белых серебряных волнах словно маленькая лодочка плыла: бежали деревенские розвальни; и то покажутся высоко, то опять надолго спрячутся, и опять выплывет это и все подвигается и подвигается к большому черному остову – к этой мельнице. Вот и мельницу миновало, взбирается выше. Старый лобастый волк, замыкающий назади всю волчью цепочку, попросил себе у волчицы переднее место и приготовился выступить.
В это время Спиридоновна забылась, и ей представилось такое чудное, будто бы она уж и доехала и на печке сидит с младенцем на руках.
Да, Спиридоновна ехала не по волчьим заметкам. Много она себе в жизни заметила сама и держалась этого своего пути, а буланка бежала и бежала. Так, если сам не видишь дорогу, всегда лучше довериться лошади: та знает, где твердо, а дернешь, выступит с дороги, и потом уж из снега не выбьешься. Задремала старая, и представилось ей, будто она уж и доехала, сидит на печке, качает дитя, а внизу в избе волки. И вот сколько набралось волков, один на другого вздымаются, лезут все выше и выше к полатям…
Дитя не видит волков и все лучшеет и лучшеет, цветочки-яблочки на щеках, ручонками к бабушке тянется и зовет ее «мама».
А волки все лезут и лезут.
Тогда великий гнев охватил Спиридоновну, и только хотела было она швырнуть в волков чем ни попадя, вдруг спохватилась, сама кинулась с младенцем в самую гущу зверей, стала на колени, земно поклонилась и говорит:
– Батюшки волки, не ради себя, а ради ангельской душки прошу, уйдите отсюда, не пугайте дите, вы же сами отцы!
Что ответили волки, Спиридоновна не слыхала: пробудилась в сугробе, ничего не видно вокруг, только буланкины уши из снега, как рожки, торчат.
Старый волк на опушке леса смутился: вот сейчас только сани показались на высоте и отсюда уж без всяких задержек должны скатиться прямо на волков, а вышло совсем по-иному: вдруг сани куда-то сгинули. Лобан подождал немного и, сильный, уступил свое первое место умной волчице.
Волчица вспомнила одно место повыше этого, выступила из лесной тени и глубокими снегами повела всех. Там сверху волки сразу все увидели и поняли, что, на их счастье, буланка оступился и с моста свалился в сугроб;. Сверкая при луне шерстью, как серебром, незаметно подкрались волки к самому краю отвершка и вдруг все разом глянули туда своими огненными глазами.
Металась Спиридоновна возле саней, но чем больше нукала буланого, тем глубже он опускался в сугроб. Только-только придумала было вылезть сама на дорогу и тянуть буланку за вожжи, вдруг тут ей и сверкнули волки всеми своими глазами.
Спиридоновна, как была, так и осталась на месте неподвижная.
Старый волк опять переменился местом с волчицей, утвердился задними ногами, хотел прыгнуть, но тоже вдруг замер, как и Спиридоновна.
У волков есть ужасный страх к неподвижному, в котором таится, может быть, и живое. Даже нового выворотня боятся волки, не сразу подойдут, и только уж как бы умолив неподвижное в чем-то, робко подходят оставить на нем знак своего почета и трепета.
Оборвись и тресни под ногой у Спиридоновны какая-нибудь смерзшаяся и хрупкая полынинка или сама она двинься назад – волки бы непременно кинулись и разорвали бы и ее и буланку в клочки. Но она не назад в страхе бросилась, а вперед шагнула, упала на колени, земно поклонилась волкам и молвила:
– Батюшки волки, не ради себя прошу, а ради ангельской душки, пощадите, ведь вы тоже отцы.
Поклонилась Спиридоновна, да так и осталась лежать еще более неподвижная и теперь еще более волкам непонятная и страшная. И уже дрогнули волки – не бежать ли назад к месяцу от темного, неподвижного и явно живого. Но умная волчица осторожно обошла своего лобана, понюхала неподвижное живое, отдала свой знак почета и трепета и удалилась краем отвершка. Потом по примеру старой волчицы, собирающей стаю, все волки почтили по-своему неподвижное, каждый, понюхав, оставил заметку. След в след за волчицей, исполнив все, как она им указала, волки покинули страшный отвершек.
Много раз от самой Спиридоновны мы слушали с трепетом рассказ о ее страшной волчиной ночи и много дивились обычаю волчьих заметок.
Добродушно улыбаясь, мирская няня заканчивает свой рассказ:
– Встала я, деточки, вся-то мокрехонька!
В декабре, если небо закрыто тучами, странно смеркается в хвойном лесу, почти страшно: небо наверху становится ровно лиловым, свисает, нижеет и торопит спасаться, а то в лесу скоро начнется свой, нечеловеческий порядок.
Мы поспешили домой обратно по своей утренней дорожке и увидели на ней свежий заячий след. Прошли еще немного и еще увидели новый след. Это значило, что зайцы, у которых день наш считается ночью и ночь – их трудовой день, встали с лежки и начали ходить.
Страшное лиловое небо в сумерках им было, как нам радостная утренняя заря.
Всего было только четыре часа. Я сказал:
– Какая будет длинная ночь!
– Самая длинная, – ответил Егор, – ходить, ходить зайцу, спать, спать мужику.
Каждый раз, когда собираюсь на лисиц с гончей, я загадываю: если придется убить, непременно проверить слова известного охотоведа Зворыкина, сказанные им в его замечательной книге «Охота на лисиц». Я думаю о той желёзке в основании хвоста лисиц, которая, по словам Зворыкина, имеет свойство на морозе испускать тончайший аромат фиалок. Сам Зворыкин говорит, что аромат фиалок ему всегда «венчает грациозную охоту на лисиц», но редко встречается охотник, способный воспринять этот запах; большинству основание хвоста лисицы пахнет просто псовиною; другие, понюхав, соглашаются только из вежливости. Если бы я не знал Зворыкина как автора, у которого ни одно слово не говорится на ветер, то, конечно бы, вспомнил сказку о голом короле, но Зворыкин сказал, – для меня все равно, как бы я сам сказал. Я верю, что Зворыкин чувствует запах фиалок, что это действительно интереснейший биологический факт, притом неисследованный, и меня очень интригует, способен ли я понять этот запах.
Вся беда, однако, в том, что охота с гончей на лисиц не всегда удается: то, бывает, лисица покорится, то, бывает, уведет собак в такую даль, что не поспеешь до вечера. Мне лично с гончей удается убивать – хорошо если в третью охоту, а то в четвертую и даже в пятую. И постоянно так случалось со мной, что когда загадаешь понюхать фиалки, то и не убьешь, а когда наконец удастся убить, то обрадуешься так сильно, что про все и забудешь. Наконец мне удалось на морозе убить лисицу и вспомнить.
Было это в морозное утро. На небе светил ярко обрывок луны и звезды горели все до одной, когда мы трое, с юрисконсультом уисполкома Я. и музыкантом из местного кинотеатра Т., отличными охотниками, вышли с двумя собаками. У музыканта был его костромич Заливай, недавно получивший на испытаниях диплом первой степени, у меня мой неизменный и непревзойденный старик Соловей. Лучше бы, конечно, идти с одной собакой, чем с двумя не спетыми, но никто из нас не хотел оставить свою собаку дома. Я упоминаю об этом только потому, чтобы неопытные охотники не брали с нас примера: на лисицу лучше всего выходить с одной собакой и одному, много – двум охотникам. Лисиц довольно и возле самого нашего городка, но мы всех их знаем, всех их напугал своими выходками Тартарен, и этих лисиц убить невозможно. Мы шли по шоссе за десять верст, где есть лисицы, еще совсем не гонянные. В этот день в городе была какая-то ярмарка, кажется конская, и по шоссе навстречу нам ехали люди почти непрерывно. И только потому, что ночная тьма скрывала нас, встречные не смеялись: такая уж повадка у наших мужиков – непременно пря встрече с охотником сказать насмешливое слово. В темноте мы показывались едущим на ярмарку внезапно: блеск луны на стволах наших ружей издали настораживал лошадей, так что часто лошади при нашем появлении бросались в сторону, и вслед за этим слышалось неизменное родительское слово. Иногда, очень редко, смирная лошадь шла, не обращая внимания; дремлющий мужичок открывал глаза, в первое мгновение, конечно, пугался, вероятно, принимая за разбойников, но, сообразив, необыкновенно ласково говорил:
– О-хот-нич-ки!
Так было очень долго, а когда рассвело и мы обозначились, то все одинаково, встречая нас, говорили одну и ту же фразу:
– Берегись, зайцы!
И специально мне, пожилому:
– Ты-то отец, напрасно идешь.
Последнее меня раздражало, я сказал музыканту:
– Сколько у нас мужиков?
И музыкант мне правильно ответил:
– Миллион…
Пришли мы на место, когда только-только можно было различать лисьи следы на свежем снегу, и по первому следу пустили собак. Пока Соловей добирал по указанному следу, Заливай нашел другой и, взлаивая изредка, увел от нас на весь день музыканта. Мы же с юрисконсультом, следуя за Соловьем, поднимались на высокий холм. Тут между пнями скоро мы наткнулись на закрытый снегом песок, выброшенный лисицами из недр земли, и открыли здесь лисьи норы. Тут было много наслежено и напутано. Пока Соловей разбирался в следах, мы с высоты разбирались в местности, угадывая возможные переходы зверя, где мы его будем подстаивать на гону. Под холмом с лисьими норами был довольно широкий ручей, огибающий холм почти кругом. Ручей еще не замерз, бежал совершенно черный в ослепительно белых берегах. За ручьем, теряясь в морозной дымке, был бесконечный уймистый лес. И только одно большое поваленное через ручей дерево было переходом от нас на ту сторону. Дерево было покрыто довольно плотной подушечкой снега, и на подушечке была и дальше уходила в лесную уйму одинокая цепочка лисьего следа. Это бревно-мост было обрушено в кусты на той стороне, и там, в кустах, два снегиря шелушили репейники. Как только семечек было намолочено довольно, красные птички спускались на свежий снег, и так они отличались от всего, что, куда бы ни смотрел, все к ним глаз возвращался непременно и с большим удовольствием. Кроме этого перехода, вероятно, был где-то другой, невидимый нам, потому что Соловей вдруг оказался на той стороне и там, как только встретился с замеченной нами цепочкой следа, часто залаял и пошел во все ноги; значит, след был свеженький: Соловей погнал. Тогда юрисконсульт спустился с холма и занял отличную позицию против бревна-мостика и снегирей. Я же пошел быстро в другую сторону вниз искать другой переход. Скоро гон вышел из слуха, но, пока я искал себе лаз, вдруг гон оказался быстро растущим в прямом направлении к юрисконсульту. Я бросился к норам, чтобы сверху хотя бы полюбоваться картиной охоты, а также и сообразить ход зверя, если юрисконсульту не удастся убить. Лисица выскочила из уймы на большую поляну, на мгновение остановилась, осмотрелась и легким своим аллюрцем пошла прямо к мостику, возле которого снегири продолжали усердно молотить репейники. Юрисконсульт из-за кустов не мог видеть лисицу, но отлично стоял в засаде, настороженный нажимающим гоном собаки. Я ждал с волнением, загадывая, что раньше будет: слетят испуганные приближением лисицы снегири или выстрел охотника последует раньше. Но, конечно, когда наступил решительный миг, я забыл снегирей. Выстрел был, вероятно, в тот самый момент, когда лисица только-только показала из куста мордочку, и потому заряд пришелся в голову. Смертельно раненный зверь прыгает вверх большими скачками, но падает на то же самое место…
Неизвестно, как перешли мы в момент на ту сторону по лисьему мостику: бог перенес.
Прыгает зверь все ниже, ниже, и, когда наступает конец, мы подходим смотреть, какой он большой…
Не горюйте о звере, милые жалостливые люди, всем это достанется, все мы растянемся, я почти готов к этому, и одно только беспокоит, что охотник разочарованно посмотрит на меня и скажет: какой он был маленький.
Правда, я таких лисиц никогда еще не видал, – кобель-огневка, огромный и очень старый, зубы гнилые.
С зайцами у нас в этот день ничего не вышло, пороша прекратилась только под утро: жировки, наверное, были очень коротенькие, и мы ни одной не нашли. Короткий зимний день проскочил незаметно, и когда стали близиться сумерки, мы услышали рог музыканта, подали сигнал и сошлись. Ему не удалось убить ни лисицу, ни зайца, но он и нашей лисице очень радовался: хороший, настоящий, большой охотник.
Мы весело пошли домой по шоссе. Как раз в это время, на нашу беду, начался разъезд с ярмарки, подвыпившие мужики, видя нас троих с одной лисицей, все встречали одной и той же фразой:
– Только одна?
Мы ничего не отвечали. Но их было много, и вода камень точила.
– Сколько их? – сказал я.
Музыкант опять сказал:
– Миллион.
Всем надоело, всех утомило, и мы свернули с шоссе в лес, поискали и открыли тропу вдоль шоссе. Обрадованные, сели мы отдохнуть на поваленное дерево. Юрисконсульт спустил с плеч тяжелую лисицу, и тут вдруг наконец-то я вспомнил постоянный свой загад понюхать основание хвоста у лисицы и запахом фиалок на морозе увенчать грациозную охоту. Я сказал об этом товарищам, но они стали смеяться. Я тогда сослался на авторитетного для всех Зворыкина, рассказал об ароматной железе и по памяти точно передал текст книги. Музыкант вдруг поверил и заинтересовался так же, как я. Юрисконсульт вглядывался в меня, как человеческий следопыт по профессии, стараясь разгадать, серьезно я говорю или хочу посмеяться над ними.
– Давайте я понюхаю, – вызвался музыкант.
Он быстро поднял хвост у лисицы и внюхался с отвращением.
– Пахнет, – сказал он, – тем именно, чем и должно в этом месте пахнуть у зверя.
По лицу юрисконсульта скользнула насмешка. Мне захотелось наказать недоверчивого юрисконсульта и вообще сделать так, чтобы уж всем от Зворыкина досталось одинаково. Я поднял хвост у лисицы, нарочно долго занимался нюханьем и совершенно серьезно сказал музыканту:
– Вы, дорогой мой, ошибаетесь: верно, вы испортили себе обоняние махоркой, не могу сказать, что именно фиалками пахнет, но какой-то очень тонкий аромат я все-таки чувствую.
Цель моя была достигнута, юрисконсульт поверил и тоже понюхал.
– Нет, – сказал он, смеясь, – вы меня не уверите, пахнет скверно, король гол.
Тоненькая завеса деревьев отделяла нашу тропу от шоссе, по которому непрерывно двигались сани. Смеясь над собой, мы представили, что все эти мужики видели, как мы нюхали под хвостом убитой лисицы; как бы они, пьяненькие, нас тогда бы встречали!
Вечером, когда мы уже все трое у меня сели за чай, я с досадой вспомнил Зворыкина и достал из шкафа его книжку, чтобы окончательно уверить товарищей в этом факте научного значения, как написано в книге. И, когда я в чтении своем дошел до ароматной железы, вдруг оказывается: она не внизу, а вверху. Оказалось, эта подушечка, испускающая на морозе аромат фиалок, находится вверху основания хвоста, как раз в том месте, куда лисица, свернувшись калачиком, в густой шерсти прячет свой нос.
Пока мы все это читали и разбирали, внесенная в тепло лисица так сильно запахла псовиной, что не только; фиалки, а даже перебило табак из трех папирос. Миллион мужиков, представлялось нам, едет навстречу нам по шоссе и штампует одно и то же:
– Эх, охотнички, не туда вы понюхали!
Тигрик облаял берлогу в одном из самых медвежьих углов бывшей Олонецкой губернии, в Каргопольском уезде, в тринадцатом квартале Нименской дачи, недалеко от села Завондошье. Павел Васильевич Григорьев, крестьянин и полупромышленник, легким свистом отозвал Тигрика, продвинулся на лыжах очень осторожно, в чаще и на полянке с очень редкими тонкими елками привычным глазом под выворотнем, защищающим лежку медведя от северного ветра, заметил довольно большое, величиной в хороший блин, чело берлоги. Знакомый с повадкой медведей и, как северный житель, спокойный характером, Павел, чтобы совершенно увериться, прошел возле самой берлоги: зверь не встанет, если проходить не задерживаясь. Глаз не обманул его. Продушина в снегу была от теплого дыхания. Зверь был у себя. После того охотник обошел берлогу, время от времени отмечая эту свою лыжницу чирканьем пальцев по снегу. По этому кругу он будет время от времени проверять, не подшумел ли кто-нибудь зверя, нет ли на нем выходных медвежьих следов. А чтобы сбить охотников за чужими берлогами и озорников, рядом с замеченным он сделал несколько ложных кругов.
Через несколько дней после этого события Тигрик облаял и второго медведя в семнадцатом квартале той же Нименской дачи. В этот раз полянка была сзади выворотня, защищающего лежку от северного ветра, зверь лежал головой на восток, глядел на свою пяту и частый ельник. Окладчик продвигался из этого крепкого места и чуть не наехал на открыто лежащего зверя. В самый последний миг он сделал отворот и прошел, не взбудив, всего в трех шагах. Случилось вскоре во время проверки круга, недалеко он нашел вторую покинутую лежку того же самого зверя и по размеру ее догадался, что зверь был очень большой. Вот эта догадка и сделала, что обе берлоги достались не вологодским, не архангельским, а нашим московским охотникам. Вологодские давали по пятьдесят рублей за берлогу. Павел просил по девять рублей за пуд убитого медведя, рассчитывая на большого, или по шестьдесят за берлогу. Во время этих переговоров Павел, на счастье, послал письмо в наш Московский союз.
Эта волна медвежьего запаха, попавшая сначала в нос Тигрика, потом в охотничье сознание Павла Григорьевича в Завондошье, охотникам в Вологду, в Москву, очень возможно, не дошла бы до меня в Сергиев, если бы я не устал от беготни по своим делам в Москве, где бываю всегда обыденкой. Мне оставалось заглянуть в «Огонек», но редакция была на Страстном, а я был на Никольской вблизи «Московского охотника». Я решил завернуть в охотничью чайную и отдохнуть. Чудесный мир для отдыха в этой чайной комнате, где собираются охотники и часами мирно беседуют: старые о былом, молодые о будущем. И нет такого места на земле, где бы так дорожили писателем, добросовестно изображающим охоту и природу. Но кто знает, не будь их охотничье сердце целиком занято сменой явлений в любимой природе, быть может, они бы стали самыми восторженными читателями общей литературы. Раз одному пожилому я рассказал о Гоголе и подарил книги. Гоголь открыл ему целый мир. Как счастлив был этот человек, до сих пор не слыхавший о Гоголе, как я завидовал ему. Но вот пришло время тому же старику мне позавидовать: я, всю жизнь занимавши/к я охотой, ни разу не бывал на медвежьей берлоге!
– Да как же это вы? – спросил меня старик, до крайности удивленный.
И вот тут-то я познакомился с первым письмом окладчика Павла и обещал, если все сладится, ехать. Так медвежья волна, причуянная Тигриком, дошла до меня.
Отдохнув в чайной, я отправился в «Огонек» и между прочим проболтался в беседе с редактором о предстоящей медвежьей охоте. Известно, какое преувеличенное изобразительное значение придают фотографии в иллюстрированных журналах. Пыл редактора передался и мне, я обещал ему, если поеду, взять с собой их фотографа.
– Если убьете медведя, – сказал редактор, – решусь на обложку и разворот.
Я не понимал, он пояснил: на обложке буду я с медведем и на обеих развернутых страницах журнала фотографии будут только медвежьи.
– Будьте уверены, – сказал он еще раз, прощаясь со мной, – у вас будет обложка и разворот.
Невозможно автору божиться в правде написанного: все эти клятвы читателями принимаются как изобразительный прием. Но я клянусь не человеческими, а звериными клятвами, что не о себе я думал, когда в ответ на присланную мне через несколько дней телеграмму о благополучном продвижении переписки с окладчиком просил телефонировать в «Огонек» о фотографе. Мне просто хотелось сделать удовольствие охотникам, зная, как они любят сниматься с ружьями и убитыми зверями. Кто не видал таких фотографий! Но оказалось, медвежьи охотники – люди совсем иного закала: им важно добыть медведя, а не свое изображение; лишний человек, особенно фотограф, для них только горе. Они были в отчаянии и лишь из уважения ко мне позволили. Только в самом конце охоты мы поняли требования фотографа и убедились, что он был вовсе не трус, но как было понять это вначале, если в первых словах фотограф спросил, можно ли ему на охоте пользоваться лестницей и где достать спецодежду, в которой легко бегать. В чайной до вечера был хохот, и медвежьи охотники успокоились: в решительный момент фотограф не будет мешать и убежит.
Вскоре после того окладчик в последнем письме неясно просил за одну берлогу шестьдесят рублей, а за другую по весу убитого зверя. На неясное письмо был дан неясный телеграфный ответ, но с точным обозначением дня приезда. Дело было покончено, медведи остались за московскими охотниками, а окладчик стал проверять круги, каждый раз прибавляя к этим окладам, отмеченным чирканьем пальцев по снегу, и ложные.
Одни говорят, будто первое впечатление всегда обманчиво, и проверяют его до тех пор, пока не сотрут все его краски. Другие, напротив, целиком отдаются первым впечатлениям, уверенные, что сохраненные краски его значат для познания мира во всяком случае не меньше, чем твердые, верные факты. Я лично верно могу говорить только о том, что впервые увидел сам и удивился. Почему никогда я от зверей в зоопарке не получал таких впечатлений, чтобы они заставляли сами своей внутренней силой делиться с другими? Как бы ни было в зверинце искусно подстроено, непременно я схвачу какую-нибудь мелочь, все разгадаю, пойму: тут зверь сам не свой. И если бы в настоящем лесу на одно лишь мгновенье мне удалось увидеть медведя, просто по своему делу переходящего поляну, мне кажется, в это мгновение знал бы я о нем больше, чем если бы целыми днями разглядывал его в зоопарке, снующего взад и вперед, или на улице, заключенного в цепи. Где-то в Америке есть огромный парк, где медведи живут на полной свободе. Там можно остановиться в гостинице; гуляя, можно встречаться с медведями и у помойной ямы наблюдать их целыми днями, занятых вылизываннем банок с остатками сладкого консервированного сгущенного молока. Мне довольно бы увидеть одну банку с консервами, чтобы все стало скучно и неудивительно. Думается даже, если бы пришлось убить медведя в условиях нашей Московской губернии, это бы мне ничего не дало: изредка к нам заходят и ложатся медведи, но это уже пережиток, – у нас медведь по ошибке, он уже тут не у себя. Но теперь я бросаю все свои дела, чтобы поделиться восторгом от яркой весны света в таежных северных лесах, где в это время рожают медведицы и в ожидании скорого тепла лежат в своем полусне старые и молодые медведи. Перед моими глазами теперь северные худые, но сильные стволами высокие ели, на буреломных торчках подушечки, сложенные из бесчисленного множества слетавших за зиму снежинок, совершенно занесенные, обращенные в самые фантастические белые статуи кусты можжевельников. Сколько про себя срисовал я с них фигур: тут был чудной старичок, вроде фавна с рогами, и очень грустное лицо милой женщины, изящной, но с тяжелым мешком за спиной, Максим Горький и Аполлон, девушки Сильвия и Оливия, кого-кого не было в засыпанном снегом диком лесу! Я все узнавал, называл и, если бы сто верст ехать, не уставал бы читать эту фантастическую лесную зимнюю повесть. И особенно удивительно, что когда пришлось ехать обратно, то многих я опять узнавал и догадывался по ним, насколько мы приблизились к дому. Но самый как будто фантастический образ и в то же время самый реальный, по которому я чувствую себя самого, свою кровь, свое сердце и ум, – это темно-бурая голова из-под выворотня, занесенного снегом. Она вырастала, как на восходе луна или солнце, из-под земли так же медленно, и неуклонно, и неизбежно, а я стоял в нескольких шагах от нее и целился.
Полная луна, Венера в кулак, Большая Медведица, все небо со всеми своими звездами так освещали снег, что мы различали следы не только лисиц, зайцев и белок, но даже цепочки белых куропаток и тетеревей. Так мы проехали от станции весело семь верст до села Завондошье. В двух комнатах Павла на полу спало все бесчисленное семейство. Тигрик, не стесняясь, ходил по старым и малым. Топор висел в воздухе. Все быстро пришло в движение, когда мы постучались, спящих ребят перекинули в другую комнату, расчистили стол, возник самовар, и фотограф очень осторожно, вполголоса, как в самых хороших домах, спросил бородатого хозяина Павла Васильевича Григорьева:
– Скажите, пожалуйста, Павел Васильевич, где у вас здесь уборная?
С этого разу начала обозначаться пропасть, разделяющая нас, безрассудно, бесцельно подступающих к опасным переживаниям, от человека, который хочет это снимать и показывать. Наши разговоры были ему скучными спецразговорами, а, как оказалось потом, от их направления при охоте на второго медведя зависела жизнь… У меня не было штуцера, я легкомысленно, по незнанию этой охоты, взял свою легонькую гладкоствольную двадцатку[4] с жаканами[5]. По книгам я, конечно, знал, что выходить на медведя с жаканами из двадцатки рискованно. Мне так представлялось дома, что главным действующим лицом я не буду и пущу свои пули, только если случится с другими несчастье. Все оказалось по-иному. Я был хозяин одной берлоги, хозяином другой был стендовый стрелок, бухгалтер союза, чех родом. Мне случилось назвать его нечаянно греком, и да простит он меня – так и буду в шутку называть его Грек. Он был такой же новичок на берлоге, как и я, но вооруженный штуцером самого большого калибра. Третий охотник, старый медвежатник, ехал только распорядителем, защитником и учителем. Мы сразу стали называть его Крестным.
– Я бы не вышел на берлогу с двадцаткой, – сказал он, – но мы будем вас защищать, выходите.
Отказаться – значило прослыть трусом. Конечно, и с жаканом можно при счастье отлично убить, но… Всякое время имеет свою технику и своего артиста. Будь теперь господствующим орудием борьбы с медведями рогатина и я на высоте искусства с ней обращаться, то это было бы совершенно не страшно: гибнут неискусные, артисты гибнут случайно. Теперь время штуцера с экспрессными, разрушительными пулями, а с жаканом идут кустари; я не в эпохе, я не первый – вот что обидно: ни первый со штуцером, ни последний с рогатиной – середка на половине:
– Нельзя ли, – сказал я, – посмотреть охоту на первого, а самому выходить на второго?
– Можно, – ответил Крестный, – но, может быть, второго не будет, подшумим и уйдет, кто же будет описывать нашу охоту? И потом – какой же это материал: если быть только свидетелем, вам самому будет обидно.
Я согласился. Крестный предложил Греку отдать мне без жребия первый выстрел на первой берлоге. Превосходный товарищ без колебания ответил согласием.
Мы спали всего два-три часа. Великий дипломат и политик в медвежьих делах, наш Крестный только в самый последний момент, когда все было собрано и уже лошади готовы, приступил к объяснению неясного пункта договора с окладчиком: мы даем или по шестьдесят рублей за берлогу, или по девять рублей с пуда убитого; в случае же мы упускаем медведя, платим шестьдесят. Но мы не согласны одну берлогу на вес, другую за штуку.
Павел крепко задумался о шкуре неубитого медведя. И когда наконец он сказал твердо «все на вес», Крестный очень обрадовался: это значило, что медведи были нешуточные.
Перед самым отъездом Павел потребовал от нас четвертую подводу.
– Для кого?
Павел внимательно посмотрел на Крестного, и тот понял и велел поскорее подводу найти. Вслух сказать было нельзя: подвода была для будущего покойного медведя, в которого стрелять буду я.
Потом фотограф стал требовать лестницу, и так настойчиво, что мы наконец поняли: она ему была нужна. Лестница скоро явилась вместе с четвертой подводой. На долю фотографа выпало великое счастье.
Редко я видел такое сияние дня весны света. Таежный лес был пронизан золотыми лучами, везде следы рыси, лисиц, зайцев, белок, куропаток, тетеревов, глухарей. Глаза разбегались. И как особенно невыразимо прекрасно пахло снегом на солнце!
Не дорога, а след чьих-то саней в глубоком снегу. Сани наши и без разводов постоянно застревали между деревьями. Задетые дугой нависшие глыбы снега рушились на голову. Фотограф перед каждой аркой кричал нам сзади. Мы останавливались. Он снимал, а Крестный потихоньку ворчал:
– Опять представление, опять Мейерхольд!
Лес был очень серьезный. Ни одной дорожки, ни одной тропинки и, если лыжница – то было всем нашим возчикам хорошо известно, кто, куда и зачем тут прошел. Так мало-помалу явилась и наша лыжница, все перед ней остановились: это был след окладчика к первой берлоге. Мы встали, скинули тулупы в сани, наладили лыжи. Крестный и Грек привели в готовность свои штуцера. Я вынул из футляра щегольское бекасиное ружье, сердце мое тут екнуло: с таким ружьем на медведя, и выстрел мой непременно.
Маэстро распоряжается:
– Поверните голову к солнцу, лица не видно, сдвиньте шапку.
Крестный шепнул мне:
– На него никакого внимания, идемте за окладчиком. А я запрещу всем говорить.
Исчезла вся красота сияющего лазурью и золотом северного леса. Не до того! Мысль только, чтобы не задеть лыжей сучка, отлетающего на морозе с треском. Верста показалась за десять. И вот наконец мы перешли магический круг оклада. Павел, не останавливаясь, рукой и бородой показывает на север в чащу. Там спит медведь. Может быть, от него теперь мы в нескольких десятках шагов, и цель наша – обойти чащу и на чистом месте оказаться против чела. Вот когда, как самое желанное, стала мечта, что в последний момент все сложится как-нибудь так, что сегодня я не буду стрелять и только посмотрю, а завтра, конечно, с радостью… Вернулись мучительные минуты далеких гимназических времен, когда вынимаешь билет на экзамене, а из головы все вылетело, ничего не помнишь и совершенно серьезно, по-настоящему молишься: «Да минует меня чаша сия…» Еще мне было теперь все как ответ за свои бесчисленные охотничьи рассказы, что если вдруг окажется: я только бумажный охотник и держусь на обмане. Да еще и так выходило, – если я обман как охотник, то непременно обман как писатель.
Вот показалась поляна с редкими елками. Окладчик остановился и показал.
Дело его кончено. Теперь, если зверь выскочит и уйдет, я плачу ему за берлогу. Он достиг своего. Я выступаю. Он отходит назад. Я продвигаюсь, куда мне показано. Крестный слева меня обгоняет. Грек справа. Впереди группа елочек, между ними виднеется выворотень, под ним в сугробе темнеет дырка величиною в шапку, и это значит чело.
Вдруг забота: начинают зябнуть пальцы от нечаянного прикосновения к стали стволов, и погреть невозможно, каждое мгновенье зверь может выскочить. В двадцати шагах короткое совещание шепотом: Грек идет вправо в обход берлоги, на случай, если у медведя есть выход назад; Крестный становится влево, стреляет, если я промахнусь или задену, и он, раненный, бросится в атаку.
Вот я теперь один против чела. Требуется сойти с лыж и обмять себе место. Погружаюсь в снег выше пояса. Чело берлоги исчезло. Как же теперь быть? Об этом нигде не написано, и никто мне об этом не говорил. Я в плену. Медведь сейчас уйдет, и я его не увижу. А Крестный устроился высоко и шепотом велит мне продвигаться до елочек. Как так, елочки же в семи-восьми шагах от чела! Но я слушаюсь и лезу туда. Вот миновал их. Гляжу на старшего. Он кивнул головой. Нога сама обминает снег, выходит ступенька, потом другая, третья, показывается близко чело, и то рыжеватое, что издали очень смущало, теперь уже не медведь, а внутренняя сторона выворотня. Я утвердился, свободен. Кто меня научил?
Что там делалось сзади, я не знал и вовсе даже забыл о фотографе и его лестнице. Все события впереди, и они совершаются и беспрерывно нарастают. Грек растерялся и не понимает задачи – беречь зад берлоги. Крестный выходит из себя, покрывается белыми и красными пятнами. Машет руками, громко шепчет. Грек понял, подался, и вот…
Как ясно теперь мне и понятно, что борьба в себе свободного гордого человека с трусом необходима, без труса нет испытания, трус равноправный агент творческого сознания. Я трус.
Уговаривать себя так же невозможно, как остановить сердце, а оно колотится все сильней и сильней. Кажется, немного еще, и оно разорвется, но вдруг черта, за которой нет больше борьбы, и трус исчезает: все кончено, я механизм, работающий с точностью стальной пружины в часах.
Такой чертой было ясное и довольно громкое слово Крестного:
– Лезет!
Что-то зашевелилось на рыжем. Я ждал, и мушка стояла на этом неколебимо. Стали показываться и нарастать медлительно, верно и неизбежно уши, такие же, как в зоопарке, и линия шерсточки между ушами, а мне нужна линия между глазами, и до этого, если так будет расти, очень долго. Все было, как если смотреть на восход луны и метиться мушкой.
Неужели всему этому огромному и спокойному времени мерой была одна наша секунда? Когда в промежуток этого необыкновенного времени сзади меня послышался голос, мне казалось, это было из какого-то давно забытого мира, где крошечные люди кишат, как в муравейнике. А это был голос фотографа с лестницы Крестному:
– Станьте немного левее!
Необыкновенно было, что воспитанный и утонченно вежливый Крестный чисто по-мужицки ответил:
– Поди к чертовой матери!
Как раз в это время и показалась нужная долгожданная линия между глазами, такая же, как в зоопарке. Сердце мое остановилось при задержанном дыхании, весь ум, воля, чувства, вся душа моя перешла в указательный палец на спуске, и он сам, как тигр, сделал свое роковое движение.
Вероятно, это было в момент, когда медведь, медленно развертываясь от спячки, устанавливается для своего быстрого прыжка из берлоги. После выстрела он показался мне весь с лапами, брюхом, запрокинулся назад и уехал в берлогу.
Все кончилось, и зима вдруг процвела. Как тепло и прекрасно! Бывает ли на свете такое чудесное лето?
Медведя выволокли. Он был не очень большой. Но не все ли равно? Крестный обнимает и поздравляет с первой берлогой. Грек подходит сияющий. Крестный просит прощения у фотографа. Он оказался мужественным: совсем около, сзади меня, безоружный, стоял на лестнице. Мы все теперь хотим ему услужить. И он пользуется. Повертывает нас направо, налево, то заставит согнуться, то прицелиться. Мнет нас, как разогретый податливый воск, и мы все ничего. Ему остается снять отдельно берлогу, а для этого ему надо срубить одну елочку. Как! Ту самую елочку, из-за которой медведь, может быть, и выбрал себе место под этим выворотнем! Ту самую елочку, что маячила мне, когда я к ней приближался в глубоком снегу и совершался суд надо мной – быть мне дальше охотником или не быть!
– Не надо! – сказали мы все.
И не дали рубить эту елочку.
До самой ночи мы разбирали сражение с медведем, занявшее всего несколько секунд, и после целого дня, проведенного на морозе, не хотелось, как обыкновенно на зимних охотах, выпить. Так, во всей очевидности, открывалось происхождение потребности пить вино из необходимости иллюзии в жизни, не удовлетворяющей всего человека. Весело было мне встать на другой день спозаранку, будить товарищей и слушать за чаем рассказ окладчика об этом втором, по его убеждению, огромном медведе. Как ему не знать, если он прошел от него всего только в трех шагах и видел своими глазами; медведь открыто лежал между двумя елками, с севера защищенный выворотнем. Но не то, что медведь большой и открыто лежит, веселило меня, а что я отделался и сегодня могу быть спокойным свидетелем и наблюдателем. Я поддразнивал Грека:
– Посмотрим, как-то вы, молодой человек!
На эти слова Крестный только улыбался. Он десятки раз бывал на берлогах, и еще ни разу не было, чтобы два случая одинаково складывались: всегда выходило по-разному, и очень часто предназначенный для последней роли на охоте занимал первое место. Были такие слова, я хорошо их запомнил, но когда мы приехали на место и стали заряжать ружья, все улетело. Чисто юношеские желания владели мной. Я представлял себе, что Грек, такой же неопытный, как и я, не сумеет нанести медведю убойную, поражающую на месте рану. Огромный медведь сбрасывает охотника в снег и сидит на нем. А я подхожу и всаживаю зверю два жакана между глазами. Я заговариваю себя не стрелять и беречь свои заряды для страшного случая.
Мы теперь продвигаемся на лыжах в новом порядке: впереди, как и вчера, конечно, окладчик, за ним Грек, хозяин берлоги, потом Крестный, а вслед за мной мальчики Павла несут: один лестницу для фотографа, другой веревку для будущего нашего медведя. Сегодня, не стесненный тяжкой обязанностью, я заметил: на одной мачтовой ели, на самой вершине, обыкновенные еловые шишки светились в лучах яркого солнца, как золотые шары, и над ними на последнем пальце ели во всей красе лазури весны света какая-то птичка сидела. А следы в этой глуши только рысьи: медведь и рысь, это как-то вместе выходит, и, очень возможно, звери эти сознательно ищут друг друга…
Вдруг окладчик сделал знак всем остановиться. Лицо его очень встревоженно.
Не ушел ли медведь?
Скрывается в чаще и появляется. Продвигаемся дальше, но неуверенно. От одного к другому слух добежал до меня: окладчик круг потерял. Вероятно, поземок замел его чирканья пальцами по снегу, и теперь среди ложных кругов он не может найти свой настоящий оклад. Нам казалось, до медведя еще далеко. Ружья были замкнуты предохранителями, но мы все ошиблись, окладчик потерял не круг, а берлогу, мы же были в кругу.
Из частого ельника мы продвинулись к поляне. Вышел Павел, за ним вышел Грек и потом Крестный, все они трое в нескольких шагах друг от друга двигались уже на поляне. Мне оставалось пройти в трех шагах от двух стоящих рядом значительных елок. Я даже заметил сзади них стену выворотня, мне бы только опустить глаза чуть-чуть пониже, и я увидал бы… Но все трое охотников прошли, никто почему-то не опустил глаза вниз. И мы все бы непременно прошли.
На поляне стояло сухое желтое дерево без вершины. Последняя моя мысль в обыкновенном моем состоянии была: «Как странно, что окладчик по этому сухому, такому заметному дереву не может узнать свой круг». И как раз в этот самый момент Павел узнал и сделал знак нам остановиться. Мы поняли, – это он свой круг узнал, а он искал берлогу; вероятно, думал, что все мы давно готовы, и, вдруг, узнав точно место берлоги, показал на меня. Настолько было неважно нам, что Павел узнал свой круг, что Крестный даже и не обернулся и не посмотрел в мою сторону. Я же, увидав знаки Павла, остановился. Идущий вслед за мной мальчик с лестницей принужден был тоже остановиться. И в тот момент, как мы остановились, я услыхал сзади себя тревожный шепот мальчика с лестницей:
– Дяденька, дяденька!..
Мы потом смерили: тот выворотень ровно в трех шагах от меня. Я услышал рев где-то под собой в снегу. Рев этот был взрывами два раза и выражал собою то самое, что я видел вчера своими глазами, когда внутри темной дырки под выворотнем что-то зашевелилось и медленно стало принимать форму лесной головы. Я сбросился с лыж и утонул. Но ружье мгновенно стало к плечу, и глаз мой увидел не открыто, а с планки ружья через мушку не совсем то, что видят открыто глазами. Было очень отчетливо в голове: «Совершается то же самое, что и вчера, все очень знакомо, действуй так же, как и вчера». И началось то самое медленное время: нарастает, нарастает… Вот знакомая полоска между ушами с шерстью становится все шире, шире, сейчас должны показаться маленькие глаза, и тогда, конечно, прекрасно выйдет, как и вчера: сегодня мушка моя еще тверже, нет на земле такой стали, чтобы держала ее так же твердо, как моя рука. И вдруг полоска лба становится не шире, а уже, уходит назад, показывается нос и обнажается очень широкое горло. Как же быть? Я этого не знал, об этом никто не сказал, куда мне стрелять, горло такое огромное. Верней всего – нужно разделить пополам и целить в середину. Такой выстрел часто бывает, когда нет времени разобраться и охотник спускает курок с нелепою мыслью в последний момент: «будь что будет». Мой указательный палец в этот раз не собрал всего меня и как-то не сам по себе, а по моему неясному велению «будь что будет» сделал движение…
Мне казалось, все происходило на очень большом пространстве, что стрелки были далеко от меня, но потом с точностью, проверяя долго друг друга, установили: Крестный стоял в четырех шагах от меня, Грек от него был в шести или семи. Но если так близко было, то почему Крестный не выстрелил в висок медведю, когда он поднимался почти возле меня? Он же лучше всех знал, что на широкой шее только случайно можно угадать место позвонка и что, если бы угадать, жакан из двадцатки, затронув отростки, может не разрушить основного хребта, что одного только конвульсивного движения лапы смертельно раненного зверя довольно, чтобы снести мне череп. Гибель моя была неизбежна, и Крестный не выстрелил. Как это понять?
Вот в этом-то и есть самое удивительное при охоте на опасного зверя: в такие моменты время бывает совершенно не то механическое, по которому мы заводим часы и ходим на службу. Это время было живое. Кто в жизни своей любил и боролся, сразу поймет меня. Кто ухитрялся трезво и с расчетом прожить, пусть залпом выпьет чайный стакан коньяку, и тогда, очень возможно, он тоже приблизится к пониманию этого времени. Оказалось из расспроса мальчика с лестницей для фотографа, он заметил медведя по движению лапы под выворотном, одна из лап, прикрывавших глаза медведя в спячке, стала медленно отодвигаться, и тут он сказал свое: «Дяденька, дяденька!»
И потом все это: как зверь лез из берлоги, вырос больше меня, утонувшего в снегу, обнажил свое горло, вместе с тем последовательный ряд мыслей и действий вплоть до нажима указательного пальца на спуск, – всего этого времени было мало, чтобы Крестному обернуться назад на рев зверя и утвердить на лыжах позицию для выстрела. Грек все видел, но от него прямо за медведем показались возчики, они издали по любопытству крались за нами и тут как раз подошли. Грек, увидев людей против мушки, на мгновенье смутился.
И потом, какое же ничтожное время нужно, чтобы подвинуть предохранитель, но когда я нажал на спуск, и выстрела в ревущего зверя не последовало, и я сделал одно движение глазами на предохранитель, передвинул пуговку на огонь и опять хотел прицелиться, широкий зад зверя, удаляясь, мелькал в частом ельнике. Наудачу, не считаясь с деревьями, я послал туда, как в бекаса на вскидку, свои два жакана. В этом частом ельнике со стороны Грека, стоявшего лицом к левому боку уходящего зверя, наверное была какая-нибудь проредь, отличный стрелок воспользовался мгновением и выстрелил тоже два раза. Мне было видно – зверь круто повернулся в сторону выстрела и с огромной, в ладонь, красной раной в левом боку пошел открыто через поляну в сторону Грека. Крестному этого маневра зверя не было видно, я крикнул ему: «Завернул, стреляй!» Крестный сделал шаг вперед, все увидал и выстрелил. И точно так же, как перед этим, зверь опять завернул в сторону выстрела. В это мгновенье голова его обнажилась для Грека; тот выстрелил, и медведь ткнулся носом в снег и остался лежать в нем неподвижно темно-бурым пятном.
И все это от самого начала и до конца, – кто поверит? – было в какую-нибудь одну долю минуты! Крестный, белый как снег, подходит ко мне и говорит: «Вы такой белый!» Грек о том же спрашивает Крестного, а сам такой же, как мы. Между тем все мы внутри не испытывали ни малейшего признака страха, потому что наш трус где-то гулял и не успел прибежать и помешать, когда мы расправлялись с внезапно вставшим медведем. Отчего же лица-то побелели? А еще в этом снежном спокойствии духа мне мелькнуло и связалось с сегодняшним днем воспоминание смертельной опасности во время гражданской войны: тоже было после такое же раздумчивое спокойствие, очень похожее, как если при сильнейшей головной боли примешь двойную порцию пирамидона с кофеином и голова начнет проходить.
Больше всего меня удивило, что и Павел тоже сделался белым. Не мог же он делать какой-нибудь разницы между жаканами и экспрессными штуцерными пулями, ему тоже не видно было, что сзади медведя шел народ. В наш охотничий опыт он сразу поверил, не сомневался ни на одно мгновенье, что мы трое, если он верно покажет, не выпустим медведя. Вот в этом-то, мне кажется, и было все дело: он должен был показать берлогу, и тогда ему все равно – убьем мы или зверь уйдет, но вышло так, что берлогу он потерял, зверь для нас нечаянно встал и удалялся. Если бы он ушел, то с ним ушло бы двенадцать с половиной пудов по девять рублей: сто двенадцать рублей пятьдесят копеечек! Надо переключить на свою жизнь каменно-твердые житные лепешки, полную избу ребят от самых маленьких, хождение на лыжах за двадцать верст для проверки берлоги, постоянную радостную мысль, что зверь лежит большой, дорогой… И вот на глазах он уходит! Тут, мой друг московский, храбрый, доведись хоть до вас, и то побелеете.
Наша прилипчивость к пережитой минуте, готовность разбирать ее без конца объясняется, конечно, общими законами человеческой природы схватить мгновенье и купаться в нем всю жизнь. Но, кроме всего этого, общего всем, у каждого из нас была и личная заинтересованность: правда, последняя пуля в голову, несомненно, была от Грека, но и без нее было ясно, что зверь бежал обалделый и все равно бы очень скоро упал, – так вот кто же из нас остановил зверя смертельным выстрелом? В этом выстреле каждый из нас был заинтересован и невольно представлял себе картину согласно интимному своему желанию. Стараясь это скрыть, мы уступали друг другу и кое-что выяснили, но только вскрытие с точностью могло установить роль каждого в борьбе с этим медведем.
С огромным трудом выволокли медведя из леса на дорогу, и ночью он прибыл в село. Утром его втащили в избу, оттаяли и начали вскрывать. Мне теперь очень жаль, что не осталось на память фотографии. Медведь лежал задними ногами к святому углу на спине, а передние лапы его, у печки, были очень похожи на волосатые гигантские руки, закинутые через голову, чтобы схватить громадную русскую печь и со всей силой обрушить ее на меня. Я унизительно чувствовал слабость и ничтожество своего тела, и это перенесло мое воображение в такую даль времени, когда человек обладал такою же чудовищной силой и боролся с медведем на равных правах. В эпоху каменного века наши волосатые предки охотились на мамонта, а теперь на последнего лесного великана-медведя охотятся бухгалтер, судья легавых собак и литератор с фотографом.
Ножик уже начал свое дело открывая на темной шубе медведя белую полоску подкожного жира.
– Вот бы снять, – сказал я фотографу.
– Неприятная картина, – ответил он и удалился.
Скоро шуба с когтями упала, и обнажилась белая нога, совершенно такая же, как человеческая. А когда дело дошло до гигантских рук, протянутых к печке, и обнажилась необыкновенная теснота синих мускулов, я снова с горечью почувствовал невозвратимую утрату таких же мускулов в своем ничтожном теперь человеческом теле. Было так очевидно, что экспрессная пуля явилась за счет этой утраты.
При первом взгляде на рану в левом боку, от которой медведь из ельника круто повернул на поляну и предстал мне с огромным красным пятном в боку, стало понятно, что мои жаканы были тут ни при чем и, наверно, не долетев до медведя, застряли в частом ельнике. Эта рана была от разрыва пистонной экспрессной пули в ребро. Взрыв разбил три ребра, и обломок кости был найден в сердце. Оболочка пули со многими осколками была найдена тоже в сердце, легкое было иссечено, как дробинками. И с такою-то раной зверь мог бежать еще сорок шагов! Что, если бы он завернул не на стрелков, а на возчиков? Рану эту нанес медведю Грек одним из первых своих выстрелов. Пуля Крестного вошла под лопаткой в левом боку, задела околосердечную сумку, разорвалась о ребра в правом боку и совершенно уничтожила правое легкое. И все-таки после этой второй раны зверь несколько шагов пробежал. Только последняя пуля Грека, перезарядившего штуцер, попала в голову, и зверь ткнулся в снег. Физиологу трудно поверить моим словам, но так было. Эта живучесть медведя поразила меня. А между тем Павел уверял, что этот медведь с короткими и толстыми когтями не трогал скотины. Значения этой примете охотников, что будто бы медведь-озорник непременно должен быть с длинными тонкими когтями, я не придавал, но понял из этого: не всякий медведь нападает на скотину, большинство их раскапывает муравейники, слизывает землянику, малину, терпеливо собирает разные коренья, мед. Какое же знание леса, сколько труда надо затратить медведю, чтобы из этого скудного материала создать себе тесные синие мускулы! А Грек, повседневно занятый в бухгалтерии, выпросил себе у приятеля десяток экспрессных пуль и пускал их, очень возможно, не имея понятия о том, как они изготовляются. И создатель их, какой-нибудь лабораторный работник, едва ли тоже умел пустить их и мало интересовался даже их назначением: ему бы только выдумать, бухгалтеру только пустить. Вот почему, вероятно, у медведя, собравшего в себя нераздельно всю силу леса, оказалась такая живучесть…
Грек смотрел на медведя тоже очень раздумчиво. Я спросил, о чем он думает, и он ответил:
– Вот эти синие руки…
И я догадался, что бухгалтер тоже с болью думал об утраченном нами личном единстве.
Жалко немного медведя, но и слава хороша, вот уж слава, так слава!
Рост нашей славы начался уже там, где медведи живут и постоянно встречаются с людьми летом, в малинниках. Высыпали навстречу медведю стар и мал, и как они потом обходились с медведем, разглядывали, говорили, поднимали, качали его – трудно было отогнать мысль, что этот особенный, страстный интерес к владыке не является остатком древнего культа медведя. Давно ли я дома, начитавшись новейших статей ученых охотников о том, что будто бы медведя никогда не подымали на рогатину и что рогатиной убить его невозможно, что рассказы об охоте с рогатиной не больше как сказка, – я сам начинал уже склоняться к этому и увлекался происхождением легенды. Теперь к убитому медведю старики принесли ржавую рогатину, точно показывали, как в старину действовали ею: бросали будто бы на подъеме медведю в пасть шапку, он задерживался, и тут один всаживал в него рогатину, а другой бил топором по затылку. Лучше всех об охоте с рогатиной знал кум Ермоша, но, к сожалению, он был теперь на лесных заготовках: этот кум Ермоша не только понимал охоту с рогатиной, но даже одного порядочного уже медведя ремешком застегал.
В селе гул стоял до тех пор, пока наконец мы не уехали на станцию. Начальник оказался новым лицом и почти что за голову схватился, когда я предложил ему отправлять медведя в неупакованном виде. Потом он бросился к книгам за справками и, поравняв битого медведя с битой скотиной, потребовал представить это дело на рассмотрение ветеринарного надзора. Тогда выступил Крестный и рассказал начальнику подробно, как в прежнее время обходились с убитым медведем. В то время охотник вез медведя в Москву в неупакованном виде, и слава его росла от станции к станции. В Москве медведя везли открыто в санях прямо к Лоренсу, где охотник заказывал или чучело, или ковер. Лоренс принимал медведя и, когда приступал к вскрытию, приглашал охотника смотреть попадание…
– Больших денег стоила эта охота, – говорил Крестный, – кроме славы, охотнику ничего не доставалось, и какой же смысл в таком случае отправлять медведя в упакованном виде!
После того молодой начальник стал сдаваться и продиктовал мне расписку:
– Отправляю медведя в неупакованном виде и принимаю на себя все последствия.
Медведь по пути не ожил, и последствий никаких не было, но у меня в Вологде украли кошелек с багажной квитанцией на медведя. Я был очень взволнован, опасаясь в своем городке встретить формальности и мучиться с получением медведя до тех пор, пока не съедят его крысы в пакгаузе. Списав номер квитанции от шкуры другого медведя, я пригласил свидетелями товарищей и постучался было в комнату нашего ОГПУ. Там никого не было. Не было на месте начальника, дежурного станции, весовщика. Всех их мы увидели возле медведя, и с ними была масса народу. Явился ломовик, медведя понесли на подводу. Десятки школьников бежали за санями, кто-то видел в окно, кто-то встретился. К трем часам дня весь город говорил о медведе, стали звонить знакомые и незнакомые, поздравлять, удивляться, расспрашивать.
Три года я живу на своей улице, все тут знают меня как писателя, но, признаюсь, этой славой своей я не только не дорожу, но охотно бы ее даром отдал. Есть у нас коренные заруделые люди – коблы, сидят они на своих лавочках и каждого насквозь проглядывают. Вероятно, меня они никак не могут проглядеть насквозь и потому глядят с ненавистью, часто слышу: «Вот наш писатель идет» Иногда молодые огарки и оскалепки остановятся перед тобой, как пораженные, и, выпучив глаза, скажут в упор: «Жу-ков-ский!» Все меня знают на своей улице, но уже на другой я должен давать свой адрес: «рядом с Мелковым», а Мелков – лошадиный драч. В уезде, нанимая лошадь, постоянно говоришь: «рядом с Мелковым».
Но вот я медведя убил. Оскалепки и огарки почтительно расступаются, слышу – коблы между собой говорят:
– Курица в сердцах и то бросается, а поди-ка к медведю.
Вот слышу еще разговор.
– Где тут драч живет?
– Рядом с охотником.
– Это что медведя убил?
– Он самый, писатель известный по всей Московской губернии.
И они правы, я так понимаю теперь, что правы неприятные люди-коблы. Ничтожно время существования письменности в сравнении с тысячелетиями, прошедшими от начала борьбы человека с пещерным медведем. Пещерные люди-коблы недоверчивы к новому: мало ли, правда, пустых болтунов из писателей. Но когда я вошел в их древнее понимание человека сильного не только придумкой и натурой, когда я медведя убил, признали меня и настоящим писателем
Охотничьи были и сказы
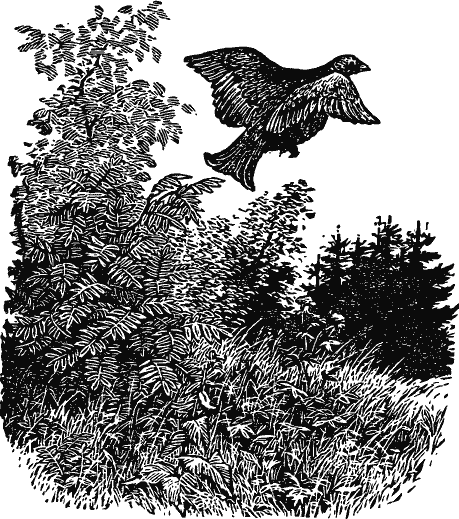
Ленин на охоте*
Шестой год мои летние наблюдения в Московской и Владимирской губерниях (Ленинск – Переславль – Сергиев) вертятся около знаменитого утиного озера-болота, и все почему-то я никак не могу собраться побывать на этом Заболотье. Причина этому: обычное равнодушие охотника с подружейной собакой к утиной охоте. А болото теперь уже не просто охотничье, это историческое место: тут Ленин был на охоте. Буденный принял шефство над селом Константиновым, которое лежит тут в центре бекасиных охот. Я отправился в этот край Дубенских болот за бекасами, не загадывая собирать легенды и факты о пребывании Ленина в утином этом краю. Из Константинова в Сергиев на каждый базар возят яблоки. Утром, разыскав себе подводу, я сговорился с Ваней ехать в Посеево, когда он распродаст свои яблоки. Часа в три дня я был с собакой своей и ружьем возле «Дома крестьянина». Ваня тут еле на ногах стоял.
– Эх, Ваня, Ваня, как-то мы теперь доедем с тобой!
– Доедем, товарищ!
Ваня, деревенский комсомолец, беседовал не раз с самим Лениным, когда был еще мальчиком.
– Верно, Ваня, не впрок пошла тебе наука Ильича?
Простодушный Ваня согласился:
– Фа-акт!
И стал сваливать все на Госспирт.
– Врешь, – говорю, – это не потому: наверное, и до того пил самогонку?
Пришлось и с этим согласиться:
– Ясно!
Мы сидели на грядке телеги, свесив ноги. Чтобы в этом положении видеть лошадь и дорогу, надо постоянно повертывать туда голову и не забываться: особенность нашей телеги. Случилось, около одной большой колдобины Ваня недосмотрел, колесо скользнуло, телега сильно наклонилась, мы плашмя ляпнулись в грязь, и через нас перелетела собака.
Досадно стало.
– Эх ты, Ваня…
– Ошибка вышла, – сказал он, – больше не буду.
– Ну, да, не будешь, давай вожжи, бери собаку.
– Не буду, не буду, виноват, простите, сам же Ильич говорил: «На ошибках мы учимся».
– Брехун ты порядочный, не учил же тебя Ильич водку пить.
Согласился и, почесав затылок, сказал:
– Фактически!
Так мы ехали шагом, три-четыре версты в час непрерывными лесами до Посеевки, откуда начинались знаменитые когда-то охотничьи угодья, арендатором которых был англичанин Мерилиз. В темноте мы подъехали к дому Алексея Михайловича Егорова, который был двадцать лет егерем у Мерилиза и, как оказалось потом, охотился с Лениным.
Всю жизнь слышал «Мюр и Мерилиз» и представлял себе это немецкой четой: Мюр – супруг, Мерилиз – его дама. И тут оказывается: Мерилиз мужчина, англичанин и страстный охотник. Он снимал огромное пространство болот и лесов, много охотился, но всегда в меру, зараз больше восьми тетеревей не стрелял и, если собака делала стойку по девятому, – отзывал ее и отправлялся домой. Не жалел денег, в каждой деревне держал сторожа. Дичь размножалась, кишела в этих местах.
Выполняя свое дело, каждый охотник большой индивидуалист, каждому хочется выучить лучше другого свою собаку и обстрелять своего товарища. Но основа души настоящего природного охотника, получившего прививку этой страсти в детстве, хранит стихийный коммунизм. Только этим и объясняется, что на охоте сходятся как друзья люди самых разнообразных жизненных положений. Так сошлись между собой богатый англичанин Мерилиз и бедный русский мужик Егоров. Теперь, когда егерь рассказывает о конце своего хозяина, жена его плачет и дети сидят повесивши нос. После трудной операции Мерилиз уже не мог ходить по болоту, но до самого конца все-таки охотился. Выдумал с своим егерем натаскать собаку так, чтобы она сама, без хозяина, обегала большие пространства. Собака ищет. Мерилиз сидит на стуле и наблюдает. Собака делает стойку. Охотник, поддерживаемый своим егерем, еле передвигая ноги, приближается: дупель крепко сидит и собака надежная…
В прежних барских охотах егеря обыкновенно баловались и делались хамами. Но англичанин иначе воспитал своего егеря. Алексей Михайлович и с малоопытным и небогатым охотником будет теперь весь день ходить и виду не покажет, только бы начинающий охотник любил свое дело. Может быть, с таким охотником он не пойдет в другой раз, но все мы кормимся своим ремеслом.
С первого слова, с первого взгляда на мою собаку Алексей Михайлович почуял мою природу, и только успели мы поздороваться, вступаем с ним в продолжительную беседу на тему, кто умней – куропатка или же тетерев. Взвесив все, мы решили, что тетерев много умней Правда, глуповата куропатка: приладится зимой и летает все на то же самое место, и она утром только, бывает, собирается вылетать, а ястреб уже дожидается ее на дереве.
Так, беседуя, мы высидели незаметно далеко за полночь.
– Я вас, – сказал Алексей Михайлович, – отведу спать на сено в сарай, на то самое место уложу, где и сам Ленин спал.
– Как Ленин?
После того долго еще пришлось посидеть, слушая рассказы этого охотника о Ленине.
– Сразу узнал, – сказал Алексей Михайлович.
– По портрету?
– По карточке, да и так: взгляд серьезный. Все другие товарищи сидят просто, а у него взгляд.
– И не шутит?
– Ну, как же не шутит, смеется, а все-таки заметно, взгляд не такой.
– Не охотничий?
– Ну, какой Ленин охотник: ездил, конечно, на деревенскую жизнь посмотреть, отдохнуть.
«Не охотник» было сказано егерем почти с уважением, потому что очень уж много настрадался он от тех, кому хочется быть настоящими охотниками.
Да, вот тоже так не бывает с настоящими охотниками: собираются на охоту, и вдруг Ленина нет. Бросились в сад – нет, во дворе нет, на улице никто не видал. Ленин пропал, а ведь это не шутка. Долго искали, тревожились, пока наконец слух дошел: Ленин в Шеметове в совхозе сидит, с ребятами беседу ведет.
– И про охоту забыл, – сказал Алексей Михайлович, – а ведь у настоящих охотников так не бывает.
Старый егерь терпеть не может револьверов, считает, что у охотника должно быть одно ружье. Но по тому времени считалось, что необходимо ходить с револьвером: опасное было время. Так и они с Лениным взяли по револьверу и пошли в лес на вальдшнепов.
Известно, как тянут вальдшнепы, каждый год вдоль такой-то просеки, у такой-то березки завертывают, и тут одна линия пересекается с другой, и кто знает эту березку от прошлого года, стань тут в новом году, и непременно весь вальдшнеп пойдет через тебя.
Возле такой замечательной березки егерь поставил Ленина и сам отошел, но все-таки устроился, чтобы ему видно было Ленина.
Опытный охотник не ошибся, конечно: только успели расставиться, раздается «цик» и «хор», показывается вальдшнеп и через голову Алексея Михайловича прямо тянет на Ленина. Что с ним? Не слышит ли, или обманулся слухом, ждет с другой стороны?
– Владимир Ильич!
Оглянулся, поднимает ружье, выстрелил и вдруг повалился навзничь.
Егерь бросился.
– Что с вами, Владимир Ильич?
Поднимается. Вышло это, верно, оттого, что он поспешил, плохо ружье прижал к плечу, оно его толкнуло, попятился, а там назади пенек под ногу, и повалился.
«Ну, – подумал егерь, – так много вальдшнепов не убьешь», – и стал рядом. Ленин не гонит. Вот опять тянет вальдшнеп. И тут Алексею Михайловичу вдруг пришла в голову одна счастливая мысль. Ведь это известно всем охотникам, что если выстрелить одновременно двум стрелкам, то каждый их них не будет слышать выстрела соседа: свой выстрел у самого уха все заглушает. Это известное и положил егерь в основу своего загада. Ленин целится, и егерь целится. Вместе ударили. Вальдшнеп упал. Прекрасный загад: конечно, Ленин не маг слышать выстрела. Побежал подымать, а ружье-то продуть и забыл. Эх, дурень ты дурень, старый Алексей, что бы тебе дунуть в кустах, когда подымал вальдшнепа! Несет теперь добычу Ленину, поздравляет:
– Ловко ударили, с полем, Владимир Ильич!
– Спасибо, Алексей Михайлович, – отвечает Ленин, – только отчего же у тебя ружье-то дымится?
Сам смеется, закатывается, как ребенок.
– Ну, ничего, – говорит, – ничего, становись рядом, давай вместе стрелять.
Стали рядом. Стреляли вместе. И за вечер семь штук убили без промаха.
Мерилиз очень любил егеря и жил с ним хорошо целых двадцать лет. Конечно, такому охотнику не понравилось, когда все стали бить лосей и в какой-нибудь год истребили их совершенно. Но ведь так же было тогда и со всяким хозяйством. Степенным мужикам-хозяевам казалось, что кто-то сознательно грабит, кому-то это на пользу и в чьи-то руки все попадает. А более развитым обывателям казалось, что если и не попадает никому ничего в руки, то все-таки кто-то наверху во всем виноват.
Обменявшись с Алексеем Михайловичем разными скорбными мыслями об истреблении лосей и хозяйственном разорении того времени, я спросил его:
– А как вы думаете, виноват ли Ленин был во всей этой разрухе?
– Нет, – ответил Алексей Михайлович, – я был у Ленина в Москве, все видел: у Ленина нет ничего.
Так это удивительно вышло и незаметно прошло: я сказал «виноват», а егерь на это ответил: «нет ничего».
И стал мне рассказывать очень подробно, как после одной охоты Ленин позвал его к себе в Москву в гости. Вот и выдумал однажды егерь поехать к Ленину в Москву и все посмотреть. Стал собираться обдуманно, это не шутка из такой глуши попасть прямо во дворец, к Ленину. Конечно, представлялось, что вроде как к царю едет, но деревенского хлеба взял с собой все-таки порядочно: может быть, это только так говорил Ленин, а там к нему и не допустят, а может быть, и дома не будет. Так ехал к Ленину в Кремль, а хлеба захватил. Но Ленин оказался дома, и егеря к нему повели сразу, как назвался. Вот открылась комната большая-большая и вроде как бы пустая. Может быть, там что и стояло, но комната была большая, и казалось, будто совсем-таки пустая. А в конце этой большой комнаты стоит ящик, на том ящике сидит Ленин – и вот примус накачивает, вот накачивает…
Очень обрадовался, смеется.
– Чем же тебя угостить, Алексей Михайлович, хочешь, кофей сварю, только не настоящий, овсяный?
Стали варить кофей. Поспело. Пошел Ленин, принес хлеба. Страшно смотреть было, какой хлеб: хорошей собаке не дашь.
Алексей Михайлович сказал:
– Извините, Владимир Ильич, что назовусь: я с собой деревенского хлеба прихватил…
– Давай сюда!
Пили овсяный кофе и ели хлеб.
Три дня егерь кормил Ленина своим хлебом.
Закончив рассказ свой, Алексей Михайлович сказал:
– Вроде как сон и сейчас часто вижу: комната большая-большая, в конце ящик и на ящике примус.
– Значит, – спросил я, – Ленин не виноват?
– Нет, – ответил русский мужик, – чем его виноватить: у него нет ничего.
Было уже очень поздно. До свету оставалось всего часа два.
– Здесь спать ляжете, – спросил хозяин, – или на сене?
– Веди в сарай.
– Вот Ленин тоже: любил спать на сене.
Я ночевал в сарае, где ночевал и Ленин: сарай все такой же, и едва ли хоть на одну морщинку переменился неутомимый егерь, переживший и Мерилиза и Ленина. Я лежал в том же самом углу, где и Ленин лежал, на том же самом месте, все было точь-в-точь, как и тогда, но только Ленина нет больше в живых, и сено другое.
Рассказы егеря*

Говорящий грач
Расскажу случай, который был со мной в голодном году. Повадился ко мне на подоконник летать желторотый молодой грачонок. Видно, сирота был. А у меня в то время хранился целый мешок гречневой крупы. Я и питался все время гречневой кашей. Вот, бывало, прилетит грачонок, я посыплю ему крупы и спрашиваю:
– Кашки хочешь, дурашка?
Поклюет и улетит. И так каждый день, весь месяц. Хочу я добиться, чтобы на вопрос мой:
– «Кашки хочешь, дурашка?»
Он сказал бы:
– «Хочу».
А он только желтый нос откроет и красный язык показывает.
– Ну, ладно, – рассердился я и забросил ученье.
К осени случилась со мной беда. Полез я за крупой в сундук, а там нет ничего. Вот как воры обчистили, половинка огурца была на тарелке, и ту унесли. Лег я спать голодный. Всю ночь вертелся. Утром в зеркало посмотрел, лицо все зеленое стало.
– Стук, стук! – кто-то в окошко.
На подоконнике грач долбит в стекло.
«Вот и мясо!» – явилась у меня мысль.
Открываю окно, и хвать его. А он прыг от меня на дерево. Я в окно за ним к сучку. Он повыше. Я лезу. Он выше и на самую макушку. Я туда не могу, очень качается. Он же, шельмец, смотрит на меня сверху и говорит:
– Хо-чешь каш-ки, ду-раш-ка?
Ёж
Раз я шел по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа; он тоже заметил меня, свернулся и затукал: тук-тук-тук. Очень похоже было, как если бы вдали шел автомобиль. Я прикоснулся к нему кончиком сапога; он страшно фыркнул и поддал своими иголками в сапог.
– А, ты так со мной! – сказал я. И кончиком сапога спихнул его в ручей. Мгновенно еж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая свинья, только вместо щетины на спине были иголки. Я взял палочку, скатил ею ежа в свою шляпу и понес домой.
Мышей у меня было много, я слышал – ежик их ловит, и решил: пусть он живет у меня и ловит мышей.
Так, положил я этот колючий комок посреди пола и сел писать, а сам уголком глаза все смотрю на ежа. Недолго он лежал неподвижно: как только я затих у стола, ежик развернулся, огляделся, туда попробовал идти, сюда и выбрал себе, наконец, место под кроватью и там совершенно затих.
Когда стемнело, я зажег лампу и – здравствуйте! Ежик выбежал из-под кровати. Он, конечно, подумал на лампу, что это луна взошла в лесу: при луне ежи любят бегать по лесным полянкам. И так он пустился бегать по комнате, представляя, что это лесная полянка. Я взял трубку, закурил и пустил возле луны облачко. Стало совсем, как в лесу: и луна, и облака, а ноги мои были как стволы деревьев и, наверное, очень нравились ежу, он так и шнырял между ними, понюхивая и почесывая иголками задник у моих сапог.
Прочитав газету, я уронил ее на пол, перешел в кровать и уснул.
Сплю я всегда очень чутко. Слышу – какой-то шелест у меня в комнате, чиркнул спичкой, зажег свечу и только заметил, как еж мелькнул под кровать. А газета лежала уже не возле стола, а посредине комнаты. Так я и оставил гореть свечу и сам не сплю, раздумывая: «Зачем это ежику газета понадобилась?» Скоро мой жилец выбежал из-под кровати и прямо к газете, завертелся возле нее, шумел, шумел и наконец ухитрился: надел себе как-то на колючки уголок газеты и потащил ее, огромную, в угол.
Тут я и понял его: газета ему была как в лесу сухая листва, он тащил ее себе для гнезда, и оказалось, правда, в скором времени еж весь обернулся газетой и сделал себе из нее настоящее гнездо. Кончив это важное дело, он вышел из своего жилища и остановился против кровати, разглядывая свечу – луну.
Я подпустил облака и спрашиваю:
– Что тебе еще надо?
Ежик не испугался.
– Пить хочешь?
Я встал. Ежик не бежит.
Взял я тарелку, поставил на пол, принес ведро с водой, и то налью воды на тарелку, то опять вылью в ведро, и так шумлю, будто это ручеек подплескивает.
– Ну, иди, иди, – говорю, – видишь, я для тебя и луну устроил, и облака пустил, и вот тебе вода.
Смотрю: будто двинулся вперед. Я тоже немного подвинул к нему свое озеро. Он двинется – и я двину, да так и сошлись.
– Пей, – говорю окончательно.
Он и залакал.
А я так легонько по колючкам рукой провел, будто погладил, и все приговариваю:
– Хороший ты малый, хороший!
Напился еж, я говорю:
– Давай спать.
Лег и задул свечу.
Вот не знаю, сколько я спал, слышу: опять у меня в комнате работа. Зажигаю свечу – и что же вы подумаете? Ежик бежит по комнате, и на колючках у него яблоко. Прибежал в гнездо, сложил его там и за другим бежит в уголок, а в углу стоял мешок с яблоками и завалился. Вот еж подбежал, свернулся около яблок, дернулся и опять бежит, на колючках другое яблоко тащит в гнездо.
Так вот и устроился у меня ежик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе на стол и то молока ему налью на блюдечко – выпьет, то булочки дам – съест.
Луговка
Летят по весне журавли. Я плуг налаживаю. В нашем краю старинная примета: в двенадцатый день после журавлей начинается пахота под яровое. Пробежали вешние воды. Выезжаю пахать. Моя полоса лежит в виду озера. Видят меня белые чайки, слетаются. Грачи, галки – все собираются на мою борозду клевать червя. Спокойно так идут за мной во всю полосу белые и черные птицы, только чибис один, по-нашему, деревенскому – луговка. вот вьется надо мной, вот кричит, беспокоится.
Самки у луговок очень рано садятся на яйца.
«Где-нибудь у них тут гнездо», – подумал я.
– Чьи вы, чьи вы? – кричит чибис.
– Я-то, – отвечаю, – свойский, а ты чей? где гулял? что нашел в теплых краях?
Так я разговариваю, а лошадь вдруг покосилась и в сторону, плуг вышел из борозды. Поглядел я туда, куда покосилась лошадь, и вижу: сидит луговка, и прямо на ходу у лошади. Я тронул коня, луговка слетела, и показались на земле четыре яйца. Вот ведь как у них, не витые гнезда, чуть только поцарапано, – и прямо на земле лежат яйца, чисто как на столе.
Жалко мне стало губить гнездо: безобидная птица.
Поднял я плуг, обнес и яйца не тронул.
Дома рассказываю детишкам: так и так, что пашу я, лошадь покосилась, вижу – гнездо и четыре яйца.
Жена говорит:
– Вот бы поглядеть.
– Погоди, – отвечаю, – будем овес сеять, и поглядишь.
Вскоре после того вышел я сеять овес. Жена боронит. Когда я дошел до гнезда, остановился. Маню жену рукой. Она лошадь окоротила, подходит.
– Ну вот, – говорю, – любопытная, смотри.
Материнское сердце известное: подивилась, пожалела, что яйца лежат беззащитно, и лошадь с бороною обвела.
Так посеял я овес на этой полосе и половину оставил под картошку. Пришло время сажать. Глядим мы с женой на то место, где было гнездо, нет ничего, значит – вывела.
С нами в поле картошку сажать увязался Кадошка. Вот эта собачонка бегает за канавой по лугу, мы не глядим на нее, жена садит, я запахиваю. Вдруг слышим, во все горло кричат чибисы. Глянули туда, а Кадошка, баловник, гонит по лугу четырех чибисенков, серенькие, длинноногие, и уж с хохлами, и все как следует, только летать не могут и бегут от Кадошки на своих на двоих. Жена их узнала и кричит мне:
– Да ведь это наши!
Я кричу на Кадошку, он и не слушает, гонит и гонит.
Прибегают эти чибисы к воде. Дальше бежать некуда. Ну, думаю, схватит их Кадошка. А чибисы по воде, и не плывут, а бегут. Вот диво-то! Чик-чик-чик ножками, и на той стороне.
То ли вода еще была холодная, то ли Кадошка еще молод и глуп, только остановился он у воды и не может дальше. Пока он думал, мы с женой подоспели и отозвали Кадошку.
Птицы под снегом
У рябчика в снегу два спасения: первое – это под снегом тепло ночевать, а второе – снег тащит с собой на землю с деревьев разные семечки на пищу рябчику. Под снегом рябчик ищет семечки, делает там ходы и окошечки вверх для воздуха. Идешь иногда в лесу на лыжах, смотришь – показалась головка и спряталась: это рябчик. Даже и не два, а три спасения рябчику под снегом: и тепло, и пища, и спрятаться можно от ястреба.
Тетерев под снегом не бегает, ему бы только спрятаться от непогоды. Ходов больших, как у рябчиков под снегом, у тетеревов не бывает, но устройство квартиры тоже аккуратное: назади отхожее место, впереди дырочка над головой для воздуха.
Серая куропатка у нас не любит зарываться в снегу и летает ночевать в деревню на гумна. Перебудет куропатка в деревне ночь с мужиками и утром летит кормиться на то же самое место. Куропатка, по моим приметам, или дикость свою потеряла, или же от природы неумная. Ястреб замечает ее перелеты, и, бывает, она только вылетать собирается, а ястреб уже дожидается ее на дереве.
Тетерев, я считаю, много умнее куропатки. Раз было со мной в лесу: иду я на лыжах; день красный, хороший мороз. Открывается передо мной большая поляна, на поляне высокие березы, и на березах тетерева кормятся почками. Долго я любовался, но вдруг все тетерева бросились вниз и зарылись в снегу под березами. В тот же миг является ястреб, ударился на то место, где зарылись тетерева, и заходил. Но вот прямо же над самыми тетеревами ходит, а догадаться не может копнуть ногой и схватить. Мне это было очень любопытно, думаю: «Ежели он ходит, значит – их чувствует под собой, и ум у ястреба велик, а такого нет, чтобы догадаться и копнуть лапой на какой-нибудь вершок-два в снегу, значит, это ему не дано».
Ходит и ходит.
Захотелось мне помочь тетеревам, и стал я скрадывать ястреба. Снег мягкий, лыжа не шумит, но только начал я объезжать кустами поляну, вдруг провалился в можжуху[6] по самое ухо. Вылезал я из провалища, конечно, уж не без шума и думал: «Ястреб это услыхал и улетел». Выбрался и о ястребе уж и не думаю, а когда поляну объехал и выглянул из-под дерева – ястреб прямо передо мной на короткий выстрел ходит у тетеревов над головами. Я выстрелил, он лег. А тетерева до того напуганы ястребом, что и выстрела не испугались. Подошел я к ним, шарахнул лыжей, и они из-под снега один за другим как начнут, как начнут вылетать; кто никогда не видал – обомрет.
Я много всего в лесу насмотрелся, мне все это просто, но все-таки дивлюсь на ястреба: такой умнейший, а на этом месте оказался таким дураком. Но всех дурашливей я считаю куропатку. Избаловалась она между людьми на гумнах, нет у нее, как у тетерева, чтобы, завидев ястреба, со всего маху броситься в снег. Куропатка от ястреба только голову спрячет в снег, а хвост весь на виду. Ястреб берет ее за хвост и тащит, как повар на сковороде.
Куница-медовка
Понадобилась мне однажды на кадушку черемуха, пошел я в лес. В тридцать первом квартале нашел я черемуху, и с ней рядом стояла елка с подлупью. Вокруг этой елки были птичьи косточки, перья, беличий мех, шерстка. Тогда я глянул наверх и увидел бурак[7], и на бураке сидит куница с птичкой в зубах.
В летнее время мех дешевый, она мне не надобна. Я ей говорю:
– Ну, барыня, стало быть, ты тут живешь с семейством.
От моих слов куница мызгнула на другое дерево и сгинула. Я же полез наверх, поглядел на гнездо и прочитал всю подлость кунью. Бурак был поставлен для диких пчел и забыт. Прилетел рой, устроился, натаскал меду и зимой уснул. Пришла куница, прогрызла внизу дырку, мороз пожал пчел кверху, а снизу мед стала подъедать куница. Когда мороз добрался до пчел и заморозил их, куница доела мед и улей бросила. Летом явилась белка, облюбовала улей на гнездо. Осенью мох натаскала, все вычистила и устроилась жить. Тут опять куница пришла, съела белку и стала жить в ее теплом гнезде барыней и завела семейство. И после пчел, белки, куницы я пришел. В гнезде оказались четыре молодых. Поклал я молодежь в фартук, принес домой, посадил в погреб. Дня через два поднялся из погреба тяжелый дух от куниц, и бабы – все на меня. Стало невыносимо в избе от куньего духу и от бабьей журьбы. А в саду у меня был амбарчик. Я заделал в нем все дырки и перенес туда куниц. Все лето хожу за ними, стреляю птичек, и они весело их едят. У молодых куниц характер не злобный, из-за еды дерутся, а спят все вместе клубком.
Раз ночью разломали недруги мой амбарчик, я ничего не слыхал. Утром приходит мой сосед:
– Иди, Михалыч, скорей, твои куницы на яблоне.
Выбежал я, а куницы с яблони на поленницу, с поленницы под застрех, через двор и в лес. Так все и пропали.
Пришла зима, навалило снегу; оказались следы: тут же в лесу рядом с деревней и жили. Трех я вскоре убил и продал по двадцать рублей за штуку, а четвертую, верно, воры украли, когда ломали сарай. Ну, да ладно, об одной я не жалел: ведь и вору как-нибудь надо кормиться.
Разговор птиц и зверей
Занятна охота на лисиц с флагами. Обойдут лисицу, узнают ее лежку и по кустам на версту, на две вокруг спящей развесят веревку с кумачовыми флагами. Лисица очень боится цветных флагов и запаха кумача, спугнутая, ищет выхода из страшного круга. Выход ей оставляют, и около этого места под прикрытием елочки ждет ее охотник.
Такая охота с флагами много добычливей, чем с гончими собаками. А эта зима была такая снежная, с таким рыхлым снегом, что собака тонула вся по уши и гонять лисиц с собакой стало невозможно. Однажды, измучив себя и собаку, я сказал егерю Михал Михалычу:
– Бросим собак, заведем флаги, ведь с флагами можно каждую лисицу убить.
– Как это каждую? – спросил Михал Михалыч.
– Так просто, – ответил я. – После пороши возьмем свежий след, обойдем, затянем круг флагами, и лисица наша.
– Это было в прежнее время, – сказал егерь, – бывало, лисица суток трое сидит и не смеет выйти за флаги. Что лисица! Волки сидели по двое суток. Теперь звери стали умнее, часто с гону прямо под флаги, и прощай.
– Я понимаю, – ответил я, – что звери матерые, не раз уже бывшие в переделке, поумнели и уходят под флаги, но ведь таких сравнительно немного, большинство, особенно молодежь, флагов и не видывали.
– Не видывали! Им и видеть не нужно. У них есть разговор.
– Какой такой разговор?
– Обыкновенный разговор. Бывает, ставишь капкан, зверь старый, умный побывает возле, не понравится ему и отойдет. А другие потом и далеко не подойдут. Ну вот, скажи, как же они узнают?
– А как ты думаешь?
– Я думаю, – ответил Михал Михалыч, – звери читают.
– Читают?
– Ну да, носом читают. Это можно и по собакам заметить. Известно, как они везде на столбиках, на кустиках оставляют свои заметки, другие потом идут и все разбирают. Так лисица, волк постоянно читают; у нас глаза, у них нос. Второе у зверей и птиц я считаю голос. Летит ворон и кричит, нам хоть бы что. А лисичка навострила ушки в кустах, спешит в поле. Ворон летит и кричит наверху, а внизу по крику ворона во весь дух мчится лисица. Ворон спускается на падаль, и лисица уж тут как тут. Да что лисица, а разве не случалось тебе о чем-нибудь догадываться по сорочьему крику?
Мне, конечно, как всякому охотнику, приходилось пользоваться чекотанием сороки, но Михал Михалыч рассказал особенный случай. Раз у него на заячьем гону скололись[8] собаки. Заяц вдруг будто провалился сквозь землю. Тогда, совсем в другой стороне, зачекотала сорока. Егерь, крадучись, идет к сороке, чтобы она его не заметила. А это было зимой, когда все зайцы уже побелели, только снег весь растаял, и белые на земле стали далеко заметны. Егерь глянул под дерево, на котором чекотала сорока, и видит: белый просто лежит на зеленом мошку, и глазенки черные, как две бобины, глядят…
Сорока выдала зайца, но она и человека выдает зайцу и всякому зверю, только бы кого ей первого заметить.
– А знаешь, – сказал Михал Михалыч, – есть маленькая желтая болотная овсянка. Когда входишь в болото за утками, начинаешь тихонько скрадывать, вдруг, откуда ни возьмись, эта самая желтая птичка садится на тростинку впереди тебя, качается на ней и попискивает. Идешь дальше, и она перелетает на другую тростинку и все пищит и пищит. Это она дает знать всему болотному населению; глядишь – там утка не в меру вылетела, а там журавли замахали крыльями, там стали вырываться бекасы. И все это она, все она. Так по-разному сказывают птицы, а звери больше читают следы.
Гаечки
Мне попала соринка в глаз. Пока я ее вынимал, в другой глаз еще попала соринка.
Тогда я заметил, что ветер несет на меня опилки и они тут же ложатся дорожкой в направлении ветра.
Значит, в той стороне, откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.
Я пошел на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что это две самые маленькие синицы, гайки, сизые с черными полосками на белых пухленьких щеках, работали носами по сухому дереву и добывали себе насекомых в гнилой древесине. Работа шла так бойко, что птички на моих глазах все глубже и глубже уходили в дерево. Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока, наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. Тогда я тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит хвостик, покрыл ладонью. Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто умерла. Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик – лежит, не шевелится; погладил пальцем вдоль спинки – лежит, как убитая. А другая гаечка сидела на ветке в двух-трех шагах и попискивала. Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как можно смирнее.
– Ты, – говорила она, – лежи и молчи, а я буду около него нищать, он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай.
Я не стал мучить птичку, отошел в сторону и наблюдал, что будет дальше. Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная гайка видела меня и предупреждала пленную:
– Лучше полежи немного, а то он тут недалеко стоит и смотрит.
Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:
– Вылезай, ничего не поделаешь: стоит.
Хвост исчез. Показалась головка с черной полосой на щеке. Пискнула:
– Где же он?
– Вон стоит, – пискнула другая, – видишь?
– А, вижу, – пискнула пленница.
И выпорхнула.
Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть друг другу:
– Давай посмотрим, может быть, он и ушел.
Сели на верхнюю ветку. Всмотрелись.
– Стоит, – сказала одна.
– Стоит, – сказала другая.
И улетели.
Предательская колбаса
Ярик очень подружился с молодым Рябчиком и целый день с ним играл. Так в игре он провел неделю, а потом я переехал с ним из этого города в пустынный домик в лесу, в шести верстах от Рябчика. Не успел я устроиться и как следует осмотреться на новом месте, как вдруг у меня пропадает Ярик. Весь день я искал его, всю ночь не спал, каждый час выходил на терраску и свистел. Утром – только собрался было идти в город, в милицию, – являются мои дети с Яриком: он, оказалось, был в гостях у Рябчика. Я ничего не имею против дружбы собак, но нельзя же допустить, чтобы Ярик без разрешения оставлял службу у меня.
– Так не годится, – сказал я строгим голосом, – это, брат, не служба. А кроме того, ты ушел без намордника, значит, каждый встречный имеет право тебя застрелить. Безобразный ты пес.
Я все высказал суровым голосом, и он выслушал меня, лежа на траве, виноватый, смущенный, не Ярик – золотистый, гордый ирландец, а какая-то рыжая, ничтожная, сплющенная черепаха.
– Не будешь больше ходить к Рябчику? – спросил я более добрым голосом.
Он прыгнул ко мне на грудь. Это у него значило:
– Никогда не буду, добрый хозяин.
– Перестань лапиться, – сказал я строго.
И простил.
Он покатался в траве, встряхнулся и стал обыкновенным хорошим Яриком.
Мы жили в дружбе недолго, всего только неделю, а потом он снова куда-то исчез. Вскоре дети, зная, как я тревожусь о нем, привели беглеца: он опять сделал Рябчику незаконный визит. В этот раз я не стал с ним разговаривать и отправил в темный подвал, а детей просил, чтобы в следующий раз они бы только известили меня, но не приводили и не давали там ему пищи. Мне хотелось, чтобы он вернулся по доброй воле.
В темном подвале путешественник пробыл у меня сутки. Потом, как обыкновенно, я серьезно поговорил с ним и простил. Наказание подвалом подействовало только на две недели. Дети прибежали ко мне из города:
– Ярик у нас.
– Так ничего же ему не давайте, – велел я, – пусть проголодается и придет сам, а я подготовлю ему хорошую встречу.
Прошел день. Наступила ночь. Я зажег лампу, сел на диван, стал читать книжку. Налетело на огонь множество бабочек, жуков, все это стало кружиться возле лампы, валиться на книгу, на шею, путаться в волосах. Но закрыть дверь на террасу было нельзя, потому что это был единственный вход, через который мог явиться ожидаемый Ярик. Я, впрочем, не обращал внимания на бабочек и жуков, книга была увлекательной, и шелковый ветерок, долетая из леса, приятно шумел. Я и читал и слушал музыку леса. Но вдруг мне что-то показалось в уголку глаза. Я быстро поднял голову, и это исчезло. Теперь я стал прилаживаться так читать, чтобы, не поднимая головы, можно было наблюдать порог. Вскоре там показалось нечто рыжее, стало красться в обход стола, и, я думаю, мышь слышней пробежала бы, чем как это большое подползало под диван. Только знакомое неровное дыхание подсказало мне, что Ярик был под диваном и лежал как раз подо мной. Некоторое время я читаю и жду, но терпения у меня хватило ненадолго. Встаю, выхожу на террасу и начинаю звать Ярика строгим голосом и ласковым, громко и тихо, свистать и даже трубить. Так уверил я лежащего под диваном, что ничего не знаю о его возвращении.
Потом я закрыл дверь от бабочек и говорю вслух:
– Верно, Ярик уже не придет, пора ужинать.
Слово ужинать Ярик знает отлично. Но мне показалось, что после моих слов под диваном прекратилось даже дыхание.
В моем охотничьем столе лежит запас копченой колбасы, которая чем больше сохнет, тем становится вкуснее. Я очень люблю сухую охотничью колбасу и всегда ем ее вместе с Яриком. Бывало, мне довольно только ящиком шевельнуть, чтобы Ярик, спящий колечком, развернулся, как стальная пружина, и подбежал к столу, сверкая огненным взглядом.
Я выдвинул ящик, – из-под дивана ни звука. Раздвигаю колени, смотрю вниз – нет ли там на полу рыжего носа, – нет, носа не видно. Режу кусочек, громко жую, заглядываю, – нет, хвост не молотит. Начинаю опасаться, не показалась ли мне рыжая тень от сильного ожидания, и Ярика вовсе и нет под диваном. Трудно думать, чтобы он, виноватый, не соблазнился бы даже и колбасой, ведь он так любит ее; если я, бывало, возьму кусочек, надрежу, задеру шкурку, чтобы можно было за кончик ее держаться пальцами и кусочек бы висел, как на нитке, то Ярик задерет нос вверх стережет долго и вдруг прыгнет. Но мало того: если я успею во время прыжка отдернуть вверх руку с колбасой, то Ярик так и остается на задних ногах, как человек. Я иду с колбасой, и Ярик идет за мной на двух ногах, опустив передние лапы, как руки, и так мы обходим комнату и раз, и два, и даже больше. Я надеюсь в будущем посредством колбасы вообще приучить ходить его по-человечески и когда-нибудь во время городского гулянья появиться там под руку с рыжим хвостатым товарищем.
И так вот, зная, как Ярик любит колбасу, я не могу допустить, чтоб он был под диваном. Делаю последний опыт, бросаю вниз не кусочек, а только шкурку, и наблюдаю. Но как внимательно я ни смотрю, ничего не могу заметить: шкурка исчезла как будто сама по себе. В другой раз я все-таки добился: видел, как мелькнул язычок.
Ярик тут, под диваном.
Теперь я отрезаю от колбасы круглый конец с носиком, привязываю нитку за носик и тихонько спускаю вниз между коленами. Язык показался, я потянул за нитку, язык скрылся. Переждав немного, спускаю опять – теперь показался нос, потом лапы. Больше нечего в прятки играть: я вижу его, и он меня видит. Поднимаю выше кусочек. Ярик поднимается на задние лапы, идет за мной, как человек, на двух ногах, на террасу, спускается по лесенке на четырех по-собачьи, опять поднимается, и так мы подходим к подвалу. Ну, вот теперь он понимает мою страшную затею и ложится на землю пластом, как черепаха. А я отворяю подвальную дверь и говорю:
– Пожалуйте, молодой человек.
Дергач и перепелка
В середине лета и соловей и кукушка перестают петь, но почему-то еще долго, пока не скосят траву и рожь, кричат дергач и перепелка. В это время, когда все смолкает в природе от больших забот по выращиванию малышей, выйдите за город после вечерней зари, и вы непременно услышите, как дергач кричит, вроде как бы телушку зовет изо всей мочи:
«Тпрусь, тпрусь».
И вслед за тем перепелка очень торопливо и отрывисто, похоже на слова:
«Вот идет», «вот ведет».
Раз я спросил бабушку, как это она понимает: почему дергач кричит «тпрусь», а перепелка «вот идет, вот ведет». Старушка рассказала про эту сказочку:
«Дергач сватался весной к перепелке и обещался ей телушку привесть. Наговорил ей, как они хорошо будут жить с коровушкой, молочко попивать и сметанку лизать. Обрадовалась перепелка и согласилась с радостью жить с дергачом, обласкала его, угостила всеми своими зернышками. А дергачу только это и надо было, чтобы посмеяться над перепелкой. Ну, какая же, правда, у дергача может быть корова – одно слово, дергач голоногий, бесштанный насмешник. Вот когда смеркается и перепелке ничего не видно на лугу, дергач сядет под кустик и зовет нарочно корову:
– Тпрусь, тпрусь!
А перепелка дождалась, – рада; думает, дергач и вправду корову ведет. Хозяйственная она, перепелка, радость радостью, а забота сама собой одолевает: нет у нее хлева, куда девать ей корову.
– Тпрусь, тпрусь! – кричит дергач.
А перепелка беспокоится:
– Вот идет.
– Вот ведет.
– Хлева нет.
– Негде деть.
Так всю ночь дразнит и беспокоит дергач перепелку от вечерней зари до утренней…»
Матрешка в картошке
До прошлого года в нашей деревне пастуха никогда не нанимали, все, бывало, дети пасут, а дед Михей на пригорке сидит, лапти плетет, детей пасет, чтобы не зевали, ворон не считали.
Бывает с дедом, забудется, лапти тачает, свои годы считает и не видит, что дети все полезли на дерево Москву смотреть. Очнется дед, глянет в сторону детей – все на дереве. Глянет на овец – овцы все в овсе рассыпались. Кони во ржи, как в море, плавают, коровы в лугах, а свиньи все на собственной же, дедовой полосе картошку рылом роют. Тут бывает плохо ребятишкам, хорошо еще, успеют с дерева слезть и разбежаться, а не успел – то прямо и попадает в Михеевы мохнатые лапы.
Выдумали однажды наши пастухи вот такую игру. Есть славный цветок ромашка, в нем солнышко, и к желтому солнышку во все стороны приставлены белые лучи. Вот если оторвать все лучики и оставить только один – это будет поп с одной косичкой, если два – с двумя косичками, три – с тремя, и так, сколько ребят играет, столько можно наделать попов с косичками, только один оставляется без косичек, лысый. Потом каждый пастух вырывает себе на лугу ямку, сундучок, и непременно с крышкой из дерна, сундучок к сундучку, сколько детей, столько и сундучков. И когда наши пастухи всякий себе выкопали по сундучку, то выбрали старосту и отдали ему всех своих попов. Староста разложил попов в разные сундучки, конечно, никто не мог заметить, какой поп пришелся к какому сундучку, – это вот и надо теперь отгадать. А у каждого отгадчика заготовлен крючок; делается обыкновенно из сучковатого прутика. Ну, скажем, что мой поп с одной косичкой лежит во втором сундучке и это верно пришлось, то я свой крючок вешаю на первый сук дерева, не угадал – крючок остается при мне, пока не угадаю. Но если я во второй раз угадаю, то перевешиваю свой крючок на второй сук, повыше, значит, поближе к Москве. Так если кто счастлив, из разу в раз перевешивает крючок все выше и выше, да так вот и едет в Москву и за ним все едут, кто поскорей, кто потише. В этот раз первым ехал Антошка Комар, а самой последней девочка – Рыбка. Но вдруг счастье переменилось. Рыбка забрала верх, а Комар остался в самом низу.
Так ехали, ехали, и вот, наконец, Рыбка сверху кричит:
– Москва!
Дальше ехать некуда, на верхушке дерева больше и сучьев нет.
Между тем дед Михей вовсе заплелся, сидит себе на горке и не видит, что дети по дереву едут в Москву, а самая большая, черная с белым поясом, свинья Матрешка пошла на его собственную полосу картошку копать. Эта Матрешка самая озорная свинья, и как только она ушла, то и все свиньи за ней, а свиньи ушли, так и кони, и коровы, и овцы. Рыбка сверху первая заметила проказу Матрешки и крикнула:
– Слезай, ребята, Матрешка – в картошке!
Сразу все бросились с дерева и пригнали Матрешку. Стали наказывать Матрешку, как обыкновенно: ставят свинью рылом к реке, и кто-нибудь из пастухов садится на нее верхом, сзади хлестнут прутиком, и свинья мчит всадника до речки. Вот затем и ставят Матрешку рылом к реке, чтобы ей дальше бежать было некуда, а то мало ли куда она может увезти седока. После, когда один прокатится, и другой так, все по очереди. Рыбке надо бы первой катиться, она же первая и в Москву приехала и первая заметила Матрешку в картошке, но ребята все прокатились, свинья и рот разинула, а Рыбка все ждала свою очередь.
Вовсе ребята свинью измучили, и такой дед чудак, ничего не замечает, весь в свои старые годы ушел. Но Рыбка от своего не отступается, садится верхом на свинью. В это время Антошка Комар, тот, что первый ехал поначалу в Москву, а потом оказался самый последний, взял и устроил скверную штуку. Комар и был во всем виноват.
У свиней как бывает с хвостами: муха сядет, и то она сейчас же хвостик спрячет между окороками. А Комар взял да и надел Матрешке на хвостик берестяную трубочку и сам изо всей силы потянул за кончик. Матрешка со всех ног бросилась бежать и, как почувствовала на хвосте трубочку, то и думала, что боль от нее, и как только добежала до реки против самого глубокого омута – бух в омут и вместе с Рыбкою.
И скрылась.
– Бух! – в воду.
– Ах! – пастухи.
И только круги на тихой воде, да по кругам плавает берестяная трубочка.
Дед Михей лапти плетет, ничего не видит, ничего не слышит, весь в свои старые годы ушел.
Онемели ребята от страха, стоят и не шевельнутся, и только во все глаза смотрят на страшное место, где плавает берестяная трубочка. Вдруг из воды пузыри и целый фонтан, потом пятачок нарыльный свиной, уши, на ушах руки, спина, и на спине Рыбка.
Взвизгнули от радости все пастухи.
Думали, вот как только свинья до берега доплывет, Рыбка непременно на сухом месте соскочит. Но вода Матрешке только силы подбавила: из воды она как выскочила, прямо в лес. Рыбка не успела соскочить и вместе с Матрешкой исчезла в лесу.
Наш лес, говорят, на сто верст раскинулся, но кто говорит на сто – до ста и считать только может. Куда больше наш лес, и в лесу этом зверья всякого видимо-невидимо: волк, медведь, рысь, всякая всячина. В этот лес и увезла Матрешка маленькую Рыбку.
Скрылась девочка в темном лесу, и в это время дед Михей поднимает наконец от лаптей свою старую седую голову… Глянул дед да так и обмер: все деревенские свиньи на его же полосе картошку копают, с полдесятины овцы положили овса, кони от слепней в рожь забрались – высокая рожь, только головы конские видны.
Старый бросился к пастухам, а те же стоят себе кучкой и все в лес смотрят за реку. Оторопел дед:
– Что же, ай вы стеклянные?
Дед Михей показал на коней во ржи, на свиней в картошке.
Пастухи все посмотрели туда и не тронулись, стоят и молчат.
Тут дед и заметил – Рыбки нет между ними, спрашивает:
– Где Рыбка?
Все молчат, боятся сказать: Рыбка – дедова внучка.
Тут хорошую выбрал дед Михей прутовинку и на Комара. И все Комар рассказал, одно утаил, как он берестяную трубочку Матрешке на хвостик надел и за кончик больно потянул.
Дед больше не стал допытываться, бежит скорее в деревню, сход собирает. Бросились враз мужики все спасать рожь, овес, картошку, а когда с этим покончили, скорей за реку в лес и там рассыпались в разные стороны. Так у них в поисках вся ночь прошла. Солнышко уже высоко было, когда дядя Митрофан вдруг загукал сбор. Увидал дядя Митрофан белую рубашку на кусту, глянул под куст, а там голенькая Рыбка в мох закопалась и вот как сладко спит. И какая оказалась хозяйственная: мокрую рубашонку на куст повесила, и славно она у нее за ночь высохла. Собрались мужики, веселые пошли домой, горевали только, что волк свинью съел. Но и то хорошо обошлось: оказалось, Матрешка еще ночью к своей хозяйке Матрене из лесу прибежала. В тот день постановили на сходе, чтобы у нас, как и в других деревнях, был настоящий пастух и детей этим трудным делом больше не мучить. Оставили детям одно только занятие – приглядывать за гусями. Но гуси весь день на реке, и за ними глядеть легко. Теперь наши дети без опаски ездят в Москву.
Щегол-турлукан
В Сокольниках, под Москвой, живет один мой приятель, зовут его Петр Петрович Майорников – большой любитель и первый в Москве ценитель маленьких певчих птиц. Из окна у него проведена веревочка в сад, к понцам – сеткам для лова. Почти на каждом дереве в саду висит клетка с какой-нибудь певчей птицей. И так уж всегда у птиц: если какая-нибудь пролетает над садом, птичка в клетке непременно ей голос подаст, и та сядет на дерево. В это время Петр Петрович открывает окно, берется за веревочку и, когда прилетевшая птица станет клевать рассыпанные между понцами семечки, – дернет за веревку. От этого понцы – две натянутые на рамы сетки – схлопываются и закрывают, как ладони, птичку. Пойманную птичку Петр Петрович сажает в клетку и выслушивает, хорошо ли она поет, – хороших оставляет себе или продает таким же любителям, плохих выпускает. Мы с вами, не зная этого дела, ничего не поймем ни в пении птиц, ни даже о чем говорят между собой птицеловы: у них и язык свой.
Раз я был на «Трубе»[9] и услыхал, как из-за бочки насвистывает разными коленцами и в птичьих лавочках насвистыванию отвечают подобные голоса. Скоро я понял, что за бочкой не на один голос, а на голоса разных птиц кто-то насвистывает. Заглянув туда, я увидел своего приятеля Петра Петровича Майорникова.
– Что вы тут делаете? – спросил я.
– Птиц выслушиваю, – сказал Петр Петрович, – кажется, есть недурной чиж.
И засвистел чижом.
В лавочках похоже ответили.
– Так и есть, – обрадовался Петр Петрович, – как овсянку стегнул.
Проверили еще раз, и чиж действительно спел одно коленце, подобно птичке овсянке.
Мы пошли, купили чижа, и оказалось, – он не только был с овсянкой, но еще и с копейкой на голове.
– Конечно, – сказал Петр Петрович, – бывают чижи и получше…
– Какой же тот, самый-то лучший? – спросил я.
– Самый лучший чиж, – сказал Петр Петрович, – бывает с овсянкой и с двумя копейками, но и то не самый первый.
– А первый?
– Тот должен быть и с овсянкой, и с двумя копейками, и еще с касаткой.
Мы пересмотрели, переслушали разных птиц: были тут клесты, кривоносы, дубоносы, снегири, юрки, зяблики, овсянки, реполовы, чечетки, синицы, глушки, московки…
Но среди всех этих птиц не хватало любимого мной щегла, птички изумительной по красоте своего оперения. Один торговец предложил было нам плохонького щегла и назвал его турлуканом…
Петр Петрович засмеялся:
– Слышал, брат, ты звон, а лучше никому не говори.
– Отчего?
– Оттого, что у твоего щегла лысинка на голове велика, с такой лысинкой не может быть турлукана.
– Как так?
– Очень просто, – сказал Петр Петрович, – настоящий турлукан у нас тут есть только один, он у меня и в руках был, да я собственноручно ему хвост оторвал…
Вокруг нас собрались охотники и стали упрашивать Петра Петровича рассказать, как он оторвал хвост турлукану.
– Бейте меня, – начал свой рассказ Петр Петрович. – Бейте, кто хочет, я того заслужил, да, я собственной рукой оторвал хвост турлукану. Конечно, вы знаете, не мной это начато, это у всех охотников водится, рвать негодным певцам хвосты, чтобы знать потом, и больше его не ловить, и не кормить, и людей не обманывать. Но чтобы турлукану хвост вырвать, – за это надо бить и бить… Прошлой осенью я наловил себе двадцать девять щеглов, рассадил их по разным клеткам, кормлю, ухаживаю, выслушиваю, и нет мне за это ничего: до Рождества ни один даже не пикнул. Потом скоро и свету прибавилось, и в полднях капель началась – тут же непременно бы должны птицы начинать, а они все молчат.
И вот уж и снег подтаивает, слышу легонькое обыкновенное «цибить-бить», и то без всякой заркости. На Пасхе показалось, будто один из них пик-пикнул синицу, но как потом ни слушал, не повторилось. И так у меня за всю зиму не только турлуканья не было, но даже ни один из двадцати девяти не циперекнул. Весь я издержался на корм птицам, вижу, ничего больше не остается делать, как только рвать хвосты и выпускать на волю. Выхожу я за этим делом в сад, день самый лучший, весенний, и стало мне жалко немного рвать птицам хвосты, но очень уж я на них досадовал, и не хотелось тоже, чтобы другие охотники ловили их и расходовались или бы обманывали других. И вот оборвал я первому хвост, он полетел, сел сначала на мою грушу, обобрался, очистился и летит в сад к соседу, а сосед мой такой же щеглятник, как и я. Ваня Шапочка камнем гонит его дальше, потому что по хвосту видит – щегол был в руках. Так и другой, и третий, и все двадцать восемь бесхвостых разлетелись. Наконец вырываю последнему, двадцать девятому, и вот видите ли что… вот как только он сел на мою грушу, обчистился, оправился, да как запоет. Дух у меня захватило, стою как истукан. Он и турлуканит, и трещит, и циперекает, а как из-под ципереканья турлукана пустит – тут у меня коленки затряслись, из-под пяток дрожь по ногам побежала, выше и выше, по животу, и вдруг изо рта вроде как бы сельтерской водой шибануло. Сыграл все двенадцать колен, под конец еще пик-пикнул синицу и смолк. Сидит, молчит, я на него смотрю, а он помолчал, помолчал, да как хватит на заркость: «цибить-бить». Со всех сторон, вижу, слетаются мои бесхвостые. Собрав всех своих друзей, турлукан ударил в последний раз «цибить-бить». И вся стая махнула в сад к Ване Шапочке. Тот, видно, не слыхал турлукана, – бац камнем в бесхвостых, и все улетели.
Прыг я тогда через забор к Ване Шапочке, кричу:
– Бей меня, бей, подлеца!
Он сначала было подумал, – с ума сошел, а потом, когда я все рассказал, темный весь сделался и спрашивает:
– Зачем же тебе нужно было рвать хвосты всем подряд?
– Но ты же не понимаешь, Ваня… – бормочу я.
И так сурово отвечает мне Ваня Шапочка:
– Нет, брат, не понимаю я тебя и всех вас, таких безжалостных охотников, я о каждой птице отдельно думаю и никогда не рву хвосты, и особенно, чтобы всем подряд, безжалостные вы охотники, оборвете хвосты всем подряд, а после оказывается, что среди бесхвостых есть турлукан.
Зайцы – профессора
В нашем городе множество охотников с гончими. С первого же дня разрешения охоты на зайцев поднимается великий гон, и через месяц, когда только и начинается интересное время охоты по чернотропу в золотых лесах, у нас верст на десять вокруг города нет ничего. При первой пороше, однако, вдруг появляются всюду следы, и кажется, вместе со снегом выпадают и белые зайцы. Откуда они берутся, я вам скажу.
У наших охотников разве только у десятого есть опытная, увязчивая собака, а девять только учат своих молодых собак или бьются всю жизнь с глупыми. Пока собаки учатся, зайцы тоже не дремлют и проходят высшую школу обмана. Никогда не забуду одного случая, который остается в моей памяти как пример крайней наивности первых молоденьких зайцев, бегущих правильным кругом на лежку. Однажды приехал гость из Москвы и просил меня показать ему, как надо подстаивать беляков. Мы пошли в лес, подняли зайца. Я указал гостю на след и велел ему дожидаться. Гость мой вычертил на указанном месте крестик, отошел шагов на тридцать, положил ружье на сучок, навел на крестик и стал дожидаться. Подсмеиваясь, отошел я, уверенный, что гостю зайца никак не убить. И вдруг через несколько минут раздается выстрел и ликующий крик. Заяц был убит как раз на крестике. Так бывают глупы эти первые молоденькие зайцы. Но мало-помалу зайцы учатся таким фокусам, что оставляют и собаку и охотника в дураках постоянно. Вот этим, по-моему, охота на беляков так особенно интересна: каждый беляк вырабатывает свой собственный план бега, и разгадать его не всегда бывает легко. Само собой, зайцы выучиваются и хорониться после своей ночной кормежки, и поэтому в конце осени кажется, что все зайцы пропали, а при первой пороше будто с неба свалились.
Вот когда покажутся эти следы по первой пороше, высыпают на них из города все охотники, стар и мал. Это бывает зайцам самый страшный экзамен, после которого в лесах остаются только «профессора». Так у нас их постоянно и называют охотники: зайцы-профессора.
Я давно имею пристрастие к ученым зайцам, для меня только и начинается охота с гончей, когда все охотники отказываются и остаются только «профессора» в лесу. Весь день с темна до темна я имею терпение перебегать, равняясь с гончей, или подстаивать в частом болотном ельнике зайца-профессора. Невозможно всего рассказать, что случилось со мной в лесу лет за пятнадцать этой охоты, – один случай вызывает в памяти тысячу других и тонет в них безвозвратно. Но один трудный год, когда «профессора» собрались в незамерзающее болото, не сливается с другими, и я о нем расскажу.
Научились в тот год «профессора» с подъему жарить по прямой линии версты за три и кружить в одном болоте, покрытом густейшим ельником. Собака едва лезет в густели, а он – ковыль-ковыль, тихонечко переходит с кочки на кочку, посидит, послушает, скинется, ляжет. Пока собака доберет, пока разберет, он отлично себе отдохнет, прыгает и опять ковыль-ковыль по болоту. Моего терпения, однако, и на это хватает, бью постоянно и в самых крепких местах. Но в этом болоте невозможно было долго стоять, потому что, когда в первые морозы оно покрылось слоем льда, вода подо льдом понизилась, и так образовался лед-тощак: заяц, собака бегут – не проваливаются, а охотник ломает лед и в воду. Так осталось и до больших морозов, когда болото было уже засыпано снегом. Лед-тощак – это страшная вещь: и гремит ужасно, и долго ли можно простоять в кожаных сапогах в ледяной воде?
Сколько раз я ни пробовал, все «профессора» летели в это болото, и я уже хотел было сдаваться. Однажды пришел ко мне Васька Томилин и стал умолять меня сходить с ним на охоту. С этим Васькой мы давно связаны, когда у него был Карай, а мою собаку Анчара застрелили на охоте. В то время Васька меня выручил, и мы охотились зиму с Караем. Потом Карай умер, и Васька пристал к моему Соловью. Теперь из уважения к памяти Карая я не мог отказать Ваське, и мы пошли на «профессоров», я в сапогах на суконный чулок, Васька в своих обыкновенных валенках. К слову сказать, знамениты эти Васькины валенки: он в них зимою и летом, даже рыбу ловит в них, чтобы не резалась нога в реке о гальку. Одна подошва снашивается, он пришивает другую, и так без конца: самая дешевая обувь.
Вышли мы за «профессорами», взяли след, пустили Соловья, подняли вмиг и прогнали в болото. Что делать? Хожу я по краю болота час, другой, третий. Мороз порядочный, нога и на суходоле начала мерзнуть, а не то что лезть в воду. Горе было еще и в том, что Соловья нельзя отозвать, пока не убьешь зайца; уйти же и бросить собаку не могу: волки могут сцапать за мое почтение. Наконец, я до того уже смерз, что стал сухие сучки ломать и разводить костер, о зайце и не думаю, какой тут заяц! И вдруг в самой середке болота, в самой густели и топи раздается выстрел и крик:
– Гоп, гоп!
«Гоп-гоп» – у нас значит: заяц убит.
Соловей скоро добрал и смолк. Заяц убит несомненно.
Только я ничего не понимаю, и невозможно понять: ведь лед-тощак гремит, значит, чтобы подстоять зайца, надо не двигаться, а Васька в валенках. Спрашивается, как же это он мог столько времени простоять в валенках в ледяной воде?
Далеко слышу – трещит, гремит, лезет из густели на мой крик. Глянул я на него, когда вылез, и обмер – это не ноги были, а толстые ледяные столбы.
– Ну, снимай, – говорю, – скорей снимай, грей ноги на костре.
– Я, – говорит, – не озяб, у меня ноги сухие.
Вынул ногу из ледяного столба, – сухая нога. Запустил я в валенок руку: тепло.
Тут я все понял: подмоченные валенки на сильном морозе сверху сразу покрываются ледяной коркой; эта корка в ледяной воде не тает и воду не пропускает.
Я дивлюсь, а Васька мне говорит:
– Я так постоянно.
И стал я с этого разу валенки подмораживать: вечером окуну, и на мороз, еще окуну и оставлю в сенях на всю ночь, а утром в них смело иду в болото. Васька-то оказался над всеми учеными зайцами самым главным профессором.
Двойной след
Кто никогда не видал тетерева, не подумает, что самец и самка одна и та же птица тетерев. Самка у них просто серая курочка. Самец – черный с синим отливом, брови ярко-красные, хвост расходится лирой, и под лирой белый, как снег, подхвостник.
У них неважная семейная жизнь. Петухи всю весну проводят в боях на току, а после того сильно болеют, кто от побоев и все от линьки. Потеряв много перьев, они всего боятся и забираются на лето в крепкие, глухие места. Вся тяжесть высиживания, выращивания, охраны детей ложится на мать, на эту серую курочку. Зато и дорожит же она своими цыплятами! Ничего не боится, защищая детей. Убить ее ничего не стоит. Но законы охотничьи покровительствуют матерям, и маток убивать строго запрещается.
Однажды я очень неудачно охотился. Было совестно перед хозяйкой дома возвращаться без дичи. А главное, в деревне в это время не только мяса, но и хлеба трудно достать: что убьешь, тем и покормишься. Подходя к дому, я вспомнил, что неподалеку в еловом перелеске с можжевельником не раз спугивал старого петуха-черныша и еще там жила матка с одним молодым петушком, довольно взрослым.
Конечно, мне хотелось лучше убить старого черныша, мясо его хотя и не так вкусно, как молодого, но зато в нем его много больше. И я пустил Кенту в то место, где спугивал не раз черныша.
Только я пустил собаку, она сразу стала сильно причуивать что-то на бруснике, потом подняла голову и втянула в себя воздух. Ноздри ее заиграли, глаза засверкали. Я сразу понял: петух был где-то здесь. Вот она осела на ногах, стала маленькая и, переступая медленно с лапки на лапку, повела к петуху. Мы немного прошли. Кента замерла возле одного куста и подогнула переднюю лапу. Она мне этим сказала:
– Он здесь!
Эти черныши не глупая птица. Слыша собаку, они часто забегают на ту сторону куста и вылетают там, охотник не может стрельнуть, потому что совсем ничего сзади не видит и только слышит: ту-ту-ту! – полетело. Но мы эту повадку их знаем и, когда собака стала, тихонечко обходим куст и так делаем, что на одной стороне собака стоит, на другой сам станешь с ружьем, а посередине петух.
Я обошел куст, приготовил ружье. Потом я сказал тихонечко невидимой мне на той стороне куста Кенте:
– Вперед! Кентария!
Слово Кентария ничего не значит, неизвестно, как произошло от имени Кента, так же, как это имя произошло от Кэт и Кэт от первоначального, неудачно данного первым ее владельцем, Китти. Тот был не охотник, не понимал, что кричать на букву «и» громко нельзя. Я стал звать на «э», вышло Кэт, а из Кэт само собой получилась какая-то Кента, из Кенты в торжественных случаях, когда надо собаку ободрить и попросить двигаться, выходит Кентария. И окончательно Кентария не помогает, собака все стоит и дрожит, я говорю еще почему-то Фунтария. В этот раз, когда я сказал первое: «Вперед!» – она переступила одной только лапкой и показалась мне через кусты.
– Кентария!
Переступила другой лапкой и опять стала.
– Фунтария!
И она прошла ко мне через весь куст. Мы встретились, петуха между нами, стало быть, не было.
– Где же он? – спросил я.
И она с таким же недоумением спрашивала меня:
– Где же он?
До того смутилась, что смотрела на меня и не отходила.
– Дурочка, – сказал я, – да не в кармане же он у меня, просто он нас надул, поди поищи!
Она поиграла ноздрями и вдруг поняла: пока я куст обходил, он успел выбежать из него на эту полянку и по ней уйти в кусты можжевельника.
Наша охота продолжается. Впереди где-то в кустах можжевельника бежит петух. Взлететь ему очень не хочется, вероятно, болезненное линяние не дает ему уверенности в силе полета, думает: «С такими крыльями еще в кусту запутаешься, а лисица тут как тут».
Кенту он, конечно, принимает теперь за лисицу. А ноги у него очень быстрые. Если бы ему во всю силу-то пуститься, нам ни за что бы не догнать. Но ему страшно, что от сильного бега будет очень шевелиться трава и предаст его, Мне случалось подсматривать, как он бегает: пробежит немного, остановится, оглянется, прислушается и опять пробежит…
И Кента за ним идет, как раз так, чтобы не отставать и не очень сильно нажимать. Она ход его чует по воздуху: он остановится – и она стоит, он идет – и она за ним.
«Будет ли когда-нибудь конец этому?» – подумал я, замирая, стараясь как можно тише за Кентой ступать.
Ведь каждое мгновенье он может взлететь, и каждое мгновенье должен быть я готовым, чтобы вскинуть ружье и стрельнуть иногда даже по мелькнувшему в кусту пятнышку. Волнение так нарастает, что кажется, мы не по чернышу-птице идем, а по какому-то огромному зверю вроде зубра или слона.
Но вот и конец можжевельника. За ним светится болотная полянка с высокой травой-осокой. Из крайнего куста он должен непременно вылететь, не пойдет же он на поляне шевелить высокую траву? Я держу ружье у плеча, но Кента без всякой задержки идет в осоку.
Так смельчак решился бежать мокрой осокой, рассчитывая скоро уйти в большой лес. Я вижу на траве даже и его бродок: вся масса осоки от мелкого дождя седая, а там, где он прошел, зеленеет полоска, – росу он стряхнул.
Случается, от сильного напряжения при стрельбе из винтовки показываются две мушки: двоится в глазах. Так и тут у меня, должно быть, стало двоиться: я вижу два бродка. И еще вижу, пояс колечком лежит, хороший, новый, с пряжкой. В другое время с какой бы радостью прибрал я потерянный кем-то пояс. Теперь чуть-чуть покосился и тут же забыл, вот только теперь, как рассказываю, так и вспоминаю о поясе. А бродок все так шел двойной до леса. Очень раздумывать, однако, о том, что двоилось у меня в глазах или на самом деле след был двойной и как могло быть, что от одной птицы шел двойной след, – времени у меня не было. Я очень спешил и нарочно шумел, чтобы бегущий петух испугался и взлетел удобно для верного выстрела на чистой поляне. Напрасный труд: петух успел вбежать в лес. Однако маневр нам удался: петух напугался и замер в первом ольховом кусту, считая его своим последним убежищем. Кента окаменела, глаза загорелись, он здесь.
Обхожу куст. Вижу, напротив меня стоит Кента, он между нами, он здесь.
– Вперед, Кента!
Стоит.
– Вперед, Кентария!
Стоит.
– Вперед, Фунтария!
Медленно переводит глаза направо, потом за глазами и нос.
Неужели же на наших глазах он дерзнул бежать вбок из куста? Нет, так у петухов не бывает. Вот и Кента возвращает свой нос на прежнее место:
– Он здесь!
Она в таких случаях никогда не ошибается. И зачем я не сказал в эту минуту еще раз «вперед»? Я промедлил, а Кента перевела нос направо, опять быстро спросилась красными от напряжения глазами и тихонечко, переступая с лапки на лапку, повела вправо…
И как я не понял ее, ведь она мне говорила:
– Он здесь сидит, а то движется, и я должна идти туда, то важнее, то движется, это сидит и нас подождет, этот от нас не уйдет, а то скоро уходит.
Я не понял, даже не вспомнил, что след на траве был двойной.
Мы не долго прошли. Кента стала. Я обошел куст. В этот раз Кента нажала с первого слова. Тогда с треском и криком вылетел не черный петух, а серая матка.
Серое бы ее не спасло. Я не успел бы остановить приготовленное движение. Но крик дошел до меня, и я понял: это не петух, а запрещенная для стрельбы матка.
То не был, однако, крик испуга, очень задорный был крик торжествующей матери. Крик в то же время был и сигналом. Раздалось хлопанье крыльев и в том ольховом кусту, где мы так долго стояли: это улетел спасенный матерью петушок.
Теперь мне стало все понятно. С самого начала я шел не по чернышу, а по тетерке с петушком, и это не двоилось у меня в глазах от напряжения, а действительно след был от двух птиц. В ольховом кусту они были вместе: мать с сыном. Мать в последнее мгновение рискнула и на глазах у меня и собаки выбежала из куста, чтобы отманить собаку от сына и увлечь ее за собой. Кента обманулась. Я тоже обманулся. Матка спасла петушка, а я вернулся без дичи домой.
Три лесные птицы, очень близкие между собой родственники, совсем по-разному ведут себя, когда к их заповедным лесам приближается человек со своими полями. Глухарь, как старовер, не переносит близости человека, уходит все дальше и дальше в глушь. Спасти его от исчезновения на земле можно только охраной заповедников. Тетерев, наоборот, так прилаживается к хозяйству человека, что из лесного становится полевым и пасется во ржи, в овсе, в гречихе. А рябчик прячется, оставаясь на прежних местах, и, ничем не поступаясь, никуда не уходит, но и с полей ничего не берет. И пусть не глухие леса, а только кустарники останутся, он так и в мелком лесу спрячется, что никак его не возьмешь. Очень редко случается, рябчик выдержит стойку собаки и даст охотнику подойти на выстрел. Обыкновенно ведет, ведет собака, и вдруг где-то в кустах: «пр… пр… пр!» – порхнет. Недалеко и отлетит, растянется где-нибудь по сучку в густой елке, и ты его никак не заметишь, а он смотрит на тебя, выжидает и, когда подойдешь совсем близко, опять свое «пр… пр… пр!», только и слышишь.
Рябчик остается чисто лесной птицей, как глухари; там, где есть глухари, обыкновенно водятся и рябчики, хоть обратно нельзя сказать: часто бывает рябчиков множество, а глухари уже давно перекочевали в более глухие леса. Раз мы пошли на глухариные выводки. Собака скоро причуяла след и повела. Долго мы за ней ходили. Когда она останавливалась, с разных сторон обходили куст, чтобы не тому, так другому птица показалась и можно бы в нее было стрельнуть. В глухом лесу, в густых можжевельниках и кочках, волнуясь от всякого шороха, перекликаясь тихонько, чтобы знать, где товарищ, и не стрельнуть в его сторону, мы скоро измучились. Собака же вдруг, бросив подводку, стала носиться в разные стороны, спрашивая лес всеми способами, куда птицы пропали. И мы тоже думали о глухарях, что, вероятно, скот забрался сюда и перепугнул, а то, может быть, на поляне сверху их оглядел ястреб, бросился, разогнал и остались только следы, по которым напрасно мы бродим. Так мы думали о глухарях, а это были рябчики. Заслышав далеко наше приближение, они вспорхнули на елки и, когда мы ходили внизу по следам, принимая их за глухариные, смотрели на нас сверху все время.
Служба Пана
Приезжают ко мне гости из города и дивятся на моих собак: сидят собаки у меня в саду, привязанные к деревам на тоненьких веревочках, и ни одной не придет в голову сильно рвануться или перекусить.
– У других на цепях собаки, – спрашивают гости, – и то, бывает, железные звенья разгибаются, а у вас на нитке, и то ничего. Чем это объясняется?
– Поглядите, – отвечаю гостям, – на людей, тоже ведь и люди разные, – одни сидят на железных цепях, другие на веревочках.
Смеются гости.
Поглядите, седеет моя борода, а ноги еще стальные, много хожу в лесу, и голова моя мелет неплохо. Я часто вспоминаю Пана и перевожу его жизнь на людей. Сказать – ума у него не было, – не могу сказать, или он был бы от природы с какими-нибудь неисправимыми пороками, – тоже нет. Я считаю, нашим охотничьим собакам много лисьего передано, чтобы охотиться им без помехи в лесу, а человек это в них отнимает себе, и собака служит своим даром человеку. Вот и Пана я так приучал: привязываю к ошейнику веревку аршин в десять и пускаю бегать по болоту с веревкой. Когда он почувствует бекаса и станет, я беру колышек с рогулькой, втыкаю в землю и конец веревки привязываю к рогульке. Потом иду и шаркну ногой в том месте, куда смотрит Пан на стойке. Бекас взлетит, Пан сунется за ним бежать – нет, веревка его держит. Вот я так раз двадцать проделал, и Пан у меня на болоте стал ходить без веревки. Взорвется бекас, а он все стоит, потому что ему представляется, будто все еще его веревочка держит, и это, я считаю, не глупость, а ум: собака мне служит. Вот почему собаки мои сидят в саду, привязанные на веревочках, и ни одной из них в голову не приходит перекусить.
– Да вы-то, – говорю я гостям, – вот на службу ходите и все исполняете, вас ведь тоже этому учили на веревочке…
Опять они смеются, а у меня в глазах слезы.
Так вот было у меня и с Паном. Поставил я собаку на болоте хорошо и перешел к натаске в лесу. В болоте чистое место, все видно, как работает собака, в лесу ушла в кусты, и делай что хочешь. Конечно, в лесу я опять привязал к ошейнику веревочку и слежу больше не за собакой, а за кончиком веревки: остановится кончик, я привязываю его и подхожу к собаке. Сильно кончик побежит – придерживаю. Случилось однажды в папоротнике, вдруг веревка: «ж-ж-ж!» – не успел перехватить, и пропала. Я бежать вперед – нет за кустом, дальше – все нет, выбегаю на просеку и вижу: вдали по пеньям и кореньям заяц летит и вслед за ним мчится Пан. Такое вышло у меня упущение, такая беда. Не так легко выучить собаку, но во сто раз трудней поправить, когда хоть раз узнала она, что значит по своей воле ходить: трудно тогда, очень трудно сделать, чтобы ей снова представлялась веревочка… Стал я звать Пана – не приходит, свистать – все нет. Иду сам искать по просеке, потом вниз, а там внизу у нас великие пропасти, еловый подсед на болоте, частый, как конопля, волки выводятся. Лазил я лазил, кружил до вечера, свистал, затаивался, прислушивался, – тишина! Сел я на бревно, задумался и слышу – тихонечко лает лисица: «тяв-тяв!» Ближе и ближе ко мне лисий лай, такой редкий и тонкий. Заяц выскакивает на полянку, переходит, скрывается, и по его следу потом с лаем переходит лисица…
«Вот оно, – подумал я, – откуда это берется у легавых собак, чтобы гоняться за дичью, им лисье передано, а человек переделал это по-своему».
Темнело в лесу. Пришлось одному возвращаться домой, без собаки. Так подумал, что Пан побоялся наказания и вернулся домой. Подхожу к деревне, спрашиваю встречных, не видел ли кто рыжую собаку? Нет, никто не видал, и дома тоже не оказалось. Поутру осмотрел сарай, овин, заглянул на картофельник, – нет собаки нигде. И только было я собрался опять идти в лес на розыск, вдруг сват мой загорелся, и я бросился ему помогать. Сгорел сват дочиста, мне его жалко, забыл и про собаку.
– Не горюй, – говорю, – сват, не горюй, пожар стройки не портит, у меня есть лишнее колесо, у брата другое, соберем телегу, все соберем.
Собрали мы телегу и поехали за страховкой в город. С горя, конечно, там выпили, день прошел. На другой день выехали, дареные колеса рассыпались. Мы опять выпили. Другой день прошел. На третий день только мы домой. Ожеребилась кобыла, и опять возня, не до собаки. Потом я три дня искал в лесу, не нашел. Наказал ягодницам, грибницам, и они ничего не нашли. Осень прошла. Зима прошла.
Весной вышел я в пропастные места с ночевкой на глухарный ток. Засветло вечером добрался до места и стал тут себе искать для ночного костра сухостойное дерево. С горушки своей заметил внизу рыжую сосну, взял топорик, спустился. И вижу я, у самого этого сухостойного дерева лежат кости, начисто обглоданные лисицами. С косточки на косточку глазами перебрался я к черепу и на черепе увидел недоеденный нос, самый кончик с ноздрями, и по этим ноздрям узнал Пана. А рядом с черепом лежал ошейник, от ошейника веревочка тянулась к сухому дереву, вокруг которого была раз десять обвернута, и кончик захлестнулся в развилине…
Смотрите, седеет моя борода, но стальные мои ноги, натура моя зря не подается на жалость. И все-таки, признаюсь, уронил я слезу. Да я думаю, тут и каменное сердце не выдержит, подумайте только: все забыл, когда зайца увидел, вспомнил лисье житье, отдался на свою прежнюю волю, а когда веревочка его задержала, вспомнил службу, до смерти сидел и служил. Я из-за того слезу уронил, что обидно мне было – кому, для кого он служил? Только не говорите мне об уме, другой и глупый перекусит веревку, а этот умнейший был пес. Вот, люди умнее собак, а посмотрите, мало ли их тоже зря до смерти сидят на веревочке…
Рассказы и очерки
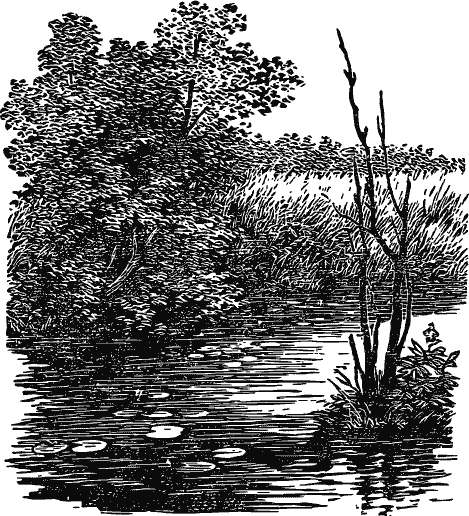
Нерль*

Мы ждали это 14 марта, но 12-го вечером появились признаки, что событие совершится, может быть, в эту же ночь, и потому я побежал в аптеку за сулемой и карболкой, а жена пошла в сарай за соломой. Когда я вернулся, солома была уже в кухне, я опрыскал ее сулемой, уложил в углу и весь этот угол отгородил бревном и, чтобы не откатывалось, прибил к стене гвоздями. Наша Кэт знала цель этих приготовлений по прошлому разу, дожидалась спокойно и, как только я кончил работу, шагнула через бревно и свернулась в углу на соломе.
Мы не ошиблись: в эту ночь Кэт родила нам шесть щенков: три сучки и три кобелька. Все три сучки были поменьше кобельков и вышли совершенно в мать, в немецкую легавую с большими кофейными пятнами на белом и по белому чистый крап. У одной на макушке, на белой лысинке, была одна копейка, у другой – две копейки, третья сучка была без копейки, просто с белой полоской на темени, и заметно была поменьше и послабее сестер. А кобельки вышли в отца, Тома; пятна были несколько потемнее, у двух почему-то на белом пока не было крапу, а третий был значительно крупнее других, весь в пятнах, крапе, таком частом, что казался весь темным, и вообще был тяжел и дубоват. Дубец – мелькнуло слово у меня в голове, я поймал его и вспомнил охоты свои по выводкам на речке Дубец. Слово мелькнуло недаром, я очень удачно охотился на Дубце, и мне показалось – неплохо будет в память этих охот назвать новую собаку Дубцом. Да и пора вообще бросить трафаретные клички и давать свои собственные, местные, ведь каждый ручеек, каждый пригорок на земле получил свое название без помощи греческой мифологии.
Из этого помета я решил себе оставить кобелька и сучку. Название для сучки мне сейчас же пришло в голову, как только мелькнул Дубец. Я назову ее Нерлью, потому что на болотистых берегах этой речки прошлый год много нашел гнездовых дупелей.
Но я не знаю, мне кажется, было что-то больше охоты на этой странной и капризной реке. Она такая извилистая, что местами от излучины до излучины через разделяющий их берег можно было веслом достать. Я плыву на челноке по течению, правлю веслом, чтобы не уткнуться в болотистый берег, подгребаю, завертываю. Впереди виднеется церковь, и кажется очень недалеко, но вдруг река завертывает в противоположную сторону, церковь исчезает, и через долгое время, когда я снова завертываю, село оказывается от меня много дальше, чем было вначале. Слышно, где-то молодой пастух учится играть на берестяной трубе, звуки то сильнее, то тише, но слышны мне – все тот же пастух, та же мелодия, те же ошибки. К обеду я подплываю, но село оказывается не близко от берега, мне идти туда незачем. Я отдыхаю на берегу Пастух перестал. А потом я удаляюсь вперед по реке, и пастух опять меня преследует до самого вечера Только уже когда садилось солнце, мне была милость река выпрямилась, увела меня от села далеко, и в крутых лесных берегах пение птиц перебило оставшееся в ушах воспоминание неверной мелодии. Вода очень быстро несет меня, только держи крепче весло в руке. Я не пропускаю глазами проплывающую в воде щуку, голубую стрекозу на траве, букет желтых цветов, семью куликов на гнилом краю затонувшего челнока, сверкающий в лучах вечернего солнца широкий лист водяного растения, на трепетной струе поклоны провожающих меня тростинок. Какой бесплодный день на реке и какое очарование: никогда не забуду и не перестану любить.
Дикая Нерль, я воплощу твое имя в живую собачку, для которой великим счастьем на земле будет с любовью смотреть на человека, даже когда он запутается в излучинах своей жизни.
Со времени рождения моих щенков я устроился обедать в кухне: очень удобно во время еды с высоты стола наблюдать и раздумывать о судьбе этих маленьких животных. Там, внизу, кишит пестрый мир слепцов, и вечно глядят на меня поверх них глаза матери, стараясь проникнуть в меня и узнать судьбу, но я тоже не волен, я не знаю еще, в кого удастся мне воплотить имена Нерль и Дубец. Я же понимаю, что вес и форма не все для рабочей собаки, в собаке должно быть прежде всего то, что мы условились называть умом, а это сразу узнать в слепом потомстве красавицы Кэт невозможно. Моя рабочая собака прежде всего должна быть умная, ведь даже слабость чутья вполне возмещается пониманием моего руководства, и с такой собакой больше дичи убьешь, чем с чутьистой, но глупой.
Так я обедаю, ужинаю, чай пью и думаю о своем, и беседую с женой, и глаз не отвожу от гнезда. А если читаю газету, то слышу, как спящие видят сны: в жизни едва рот умеют открыть, а там во сне на кого-то уже по-настоящему лают собачками. Но я бросаю газету, когда они просыпаются и начинается у них интересная борьба за существование. Тогда каждый щенок пускает в ход свою силу, ум, проворство, хитрость в борьбе за обладание задними, самыми молочными сосцами. Как только этот спящий пестрый клубок маленьких собачек пробуждается, все они бросаются в атаку на сосцы. Лезут друг на друга, одни проваливаются и там залегают под тяжестью верхних, неудачники скатываются вниз, мелькая розовыми, как у поросят, животами, оправляются, снова взбираются. У некоторых даже есть свое «ура» при атаке, есть писк обиды у неудачников, а у овладевших большими сосцами причмокивание довольства – все есть, как в борьбе людей между собой за хлеб насущный. Можно бы, конечно, разделить слабых и сильных, кормить их отдельно. Но как узнать действительно слабых и сильных? Сегодня лучшее достается сильным мускулами, завтра сильный умом перехватил добычу у большого и сосет на первой позиции. Я сдерживаю в себе жалость к более слабым на вид и, пока не найду своей Нерли, не позволю себе вмешаться в дело природы.
Тот чумазый щенок, который помог мне выдумать кличку Дубец, в первые же дни настолько окреп, что теперь сразу всех расшвыривает, захватывает самую лучшую заднюю сиську, ложится бревном, не обращает никакого внимания, что на нем лежат другие в два яруса, и знай только почвякивает. А хуже всех маленькой сучке, у которой на темени белая лысинка без копейки, ей достаются только самые верхние сосцы-пуговки, и, верно, она никогда не наедается.
В собачьем понимании мы, конечно, настоящие боги, сидят боги за столом, как на Олимпе, едят, обсуждают судьбу своих собак. А мы каждый день спорим с женой. Женщина жалеет маленькую собачку, говорит мне, что она самая изящная, вся в мать, и нам непременно надо вмешаться в дело природы и не дать ей захиреть. Жалость помогает ей открывать новые и новые прелести в любимой собачке и соблазнять ими меня. Мне и с одной женой трудно бороться за свой план, но однажды на помощь ей к нашему Олимпу присоединяется новая богиня жалости. Это была одна наша знакомая, хрупкая телом, но сильная. Она вмиг поняла другую женщину, и обе стали просить у меня за слабое животное. Я очень уважаю эту Анну Васильевну, мне пришлось пустить в ход все мои силы.
– Не бросайтесь жалостью, – говорил я, – поберегите ее для людей, подумайте, что другие просто морят ненужных щенков, а я имею план выбрать себе друга, уважая законы природы. Мы часто губим добро неумной жалостью.
Анна Васильевна попробовала стать на мою разумную точку зрения:
– Да ведь она же больших денег стоит, вы погубите не только собачку в своем опыте, но и деньги.
Я не поверил искренности Анны Васильевны, когда она, бессребреница, заговорила о деньгах, и ответил решительно, чтобы нам больше не спорить и начать о другом:
– Не нужны мне деньги, и пусть собачка погибнет, берегите свое для людей; там, в этом мире…
Я указал вниз на борьбу за сосцы:
– Там не боятся погибели, там смерть принимают как жалость природы.
Мы сели обедать молча. Жена подала Анне Васильевне постное: грибы и кисель. Я очень люблю постное, мои говяжьи котлеты приобретают особенный вкус, когда вокруг постятся. Я ем говяжьи котлеты и стою за посты.
Я извинился перед Анной Васильевной за свои котлеты и, чтобы смягчить резкость своих слов перед этим, стал рассказывать о множестве исцеленных желудков во время голодных постов революции.
Когда мы доедали последнее блюдо, маленькие животные там, внизу, насосались молока, стали позевывать, укладываться друг на друга, пока, наконец, не сложились в свою обыкновенную сонную пирамидку. Для тепла и покоя мы прикрываем их сверху моей старой охотничьей курткой, а мать наконец-то освобождается, отправляется в другой угол к миске с овсянкой, приправленной бульоном из костей. Кэт справляется со своим блюдом скорее, чем мы с одним своим третьим, возвращается к гнезду и укладывается возле щенков.
Но, конечно, спор, не доведенный до конца, течение мысли, остановленное насилием, в глубине нас продолжается, и, благодаря этой неуемности мысли, появляется вдруг как бы чудом вне нас повод для продолжения спора и заключения.
Мы говорили о полезном значении постов для здоровья, а в то же время все смотрели в гнездо. И вот под курткой начинается какое-то движение, тихое, осторожное, показывается голова с белой лысинкой и, наконец, вся она, та самая, слабая изящная сучка, из-за которой весь сыр-бор загорелся. Все остальные щенки спят крепко и взлаивают. Нет никакого сомнения, что маленькая сучка задумала нечто свое. Сначала, однако, мы думали, что это она, как все щенки, отходит немного в сторону от гнезда, чтобы освободиться от пищи. Но сучка, выбравшись из-под куртки, ковыляет по соломе прямо к матери, сосет из задней сиськи, наливается, засыпает у нее под лопаткой, сытая и в тепле, гораздо лучше, чем под моей охотничьей курткой. Нас всех, конечно, это поразило: ведь только что спорили о жалости, и все обошлось само собой, сучка сыта.
– Вот, дорогая Анна Васильевна, – сказал я, торжествуя победу, – вы же сами не раз мне говорили, что в тяжелой борьбе этих лет за кусок хлеба вы завоевали себе нежданное счастье, какое не снится сытым и обеспеченным, что вы благословляете за это даже тех, кто хотел вам причинить зло. Как же должно благодарить меня это маленькое животное, что я не позволил вам его прикармливать и вызвал простую догадку в ее крошечной, только что прозревшей головке!
В другой раз, вечером того же самого дня, когда наши щенки пробудились и начали атаку, маленькая сучка с белой лысинкой в этой борьбе не участвовала. А утром я нашел ее не под курткой, а под лопаткой у матери. Мы очень обрадовались и, не решаясь только за одно это признать ее Нерлью, смеясь, пока стали называть ее Анной Васильевной, которую очень любили. Через несколько дней, когда наша новая маленькая Анна Васильевна очень поправилась, мы заметили, что она гораздо тверже других щенят начала наступать ножками, и появилась у нее новая особенность: она стала бродить по гнезду, совершая путешествие в уголки, все более и более далекие от матери. Все другие щенки знают только два положения: спать и бороться между собою за сосцы. Анна Васильевна догадалась исключить из своей жизни грубую борьбу за существование, силы ее с каждым днем прибывали, и мы вполне понимаем с женой и очень радуемся, что освобожденную энергию она использует для любознательности. И так спокойно было изо дня в день, погружаясь в природу собак, понимать свою жизнь, свои достижения: ведь тоже почему-то приходилось мною бродить.
Пределом путешествий Анны Васильевны было бревно высотой в четыре вершка. Для маленькой тут кончались все путешествия: она могла только поставить передние лапки на бревно и отсюда заглядывать на простор всего пола, как мы любуемся далью полей. Туда, в эту даль, уходила мать к своей миске, что-то делала там и возвращалась обратно. Анна Васильевна стала дожидаться матери на бревне, а когда она возвращается и ложится, обнимает лапками ее нос, полизывает губы, узнавая мало-помалу вкус бульонной овсянки. И вот однажды, когда Кэт перешагнула через бревно, Анна Васильевна с высоты барьера вгляделась в нее, лакающую бульон, и стала сильно скулить. Мать бросила еду, вернулась, опрокинула дочь носом с барьера и, наверное, думая, что она не может освободиться от пищи, стала ей делать обыкновенный массаж живота языком. Дочь скоро успокоилась, мать вернулась к еде. Но как только Кэт удалилась, Анна Васильевна поднялась на барьер и принялась еще больше скулить. Мать оглядывается, не может понять, переводит глаза на меня и начинает тоже скулить.
В глазах ее: «не понимаю ничего, помоги, добрый хозяин».
Я говорю ей:
– Пиль!
Это значит разное, смотря по тону, каким говорится; теперь это значило: «не обращай внимания, принимайся за еду и не балуй собачку». Мать принимается лакать, а дочь, обиженная невниманием матери, делает вгорячах рискованное движение, переваливается через барьер и раскорякой бежит прямо к миске.
Нам было очень забавно смотреть на мать и дочь у одной миски: Кэт, вообще не очень крупная собака, с превосходным розовым выменем, вдруг стала огромным животным, и рядом с ней точно такая, с теми же кофейными пятнами, с тем же крапом, с таким же на две трети обрезанным хвостом и во время еды с длинненькой шейкой, крошечная Анна Васильевна, стоит и тоже пробует делать, как мать. Но скоро оказывается, ей мало, чтобы лизать край миски, она поднимается на задние ноги, передние свешиваются за край. Ей, наверно, думается, что это вроде барьера, что стоит приналечь, переброситься, и тогда откроется вся тайна миски. Она делает такое же рискованное движение, как только что было на бревне, и вдруг переваливается в миску с бульонной овсянкой.
Кэт уже довольно много отъела, и Анне Васильевне в миске было неглубоко. Скоро она вываливается оттуда без помощи матери, вся, конечно, покрытая желтоватой овсянкой. Потом она раскорякой бежит обратно, начинает скулить у бревна. В это время случилось, пробудился Дубец и, услыхав какой-то визг за бревном, сам ковыляет туда. А маленькая Анна Васильевна в это время была уже сама на бревне и вдруг – здравствуйте: перевалилась прямо к Дубцу за барьер. Дубец понюхал ее, лизнул – очень понравилось.
Но что всего удивительней было нам, это когда на другой день из-под куртки вылезла Анна Васильевна, вслед за ней высунул здоровенную башку и Дубец, поплелся за ней к барьеру, перевалил через барьер, проковылял к миске, втяпался в нее передними лапами и залакал. После того оказалось, что первое путешествие Анны Васильевны в миску в мире маленьких собачек означало то же самое, что в нашей человеческой жизни открытие новой страны. За Колумбом, известно, все повалили в Америку, а у собак – в миску. Маленькая сучка с белой лысинкой научила Дубца, и потому что он такой громадный и на нем есть что полизать, когда он выгваздывается в овсянке, то первыми припали к нему обе сучки с копейкой на лысинке и с двумя копейками. Обе эти сучки скоро поняли все и тоже стали путешествовать к миске. Но долго еще два больших белых без крапу и с розовыми рыльцами кобелька держались отдельно от веселого общества и ничего не знали об открытии Америки. Нам пришлось поднести дикарей к тарелке и насильно, уткнув их носы в молоко, держать там, пока не поймут и не хлебнут. И голос наш, призывавший: «тю-тю-тю», первая поняла Нерль, и Дубец пустился бежать по примеру ее, потом вслед за Дубцом бежали и сестры ее, сучки с копейкой и двумя копейками на лысинках, и под конец согласились дружные дикари с розовыми рыльцами. А когда однажды во время нашего обеда собачья публика пробудилась и тоже захотела обедать и Нерль, почувствовав голод, бросила скулящих сестер и братьев, подбежала к Олимпу и стала теребить богов за штаны и за юбку, то нам не оставалось никакого сомнения, что маленькая изящная собачка с белой пролысинкой была именно наша задуманная Нерль.
Флейта*
Был в нашем уезде дуроломный князь, вы, верно, про него слышали: бывало, пьяный на своем коне к себе в спальню въезжает на второй этаж, и раз этот самый ученый конь Арап доставил хозяина в земское собрание, и въехал князь в зал заседания на коне, как царь Иван Грозный в покоренный Псков. Через этот случай князь получил известность, во всех газетах это было описано под заглавием «Живая старина». И попутал же черт меня с этим дуроломным князем связаться: заарендовал я у него маленькую мельницу-колотовку, соблазнился местом из-за охоты. Говорят, сам Грозный сюда ездил: в одну сторону леса идут, и хоть сотню верст, хоть другую отсчитай, все будут леса, облоги и пустоши; в другую сторону болота никому не доступные; там на островках разводится всякая птица, всякий зверь, и временами выходят, вылетают в леса и на пустоши. Между лесами и болотами ручей бежит, и на ручье стоит моя мельница. Весною вся утка, весь гусь валят над моей головой, осенью вся дичь рассыпается по кустам, по плесам, отдыхает, и какая жирная – убьешь одну штуку, и сала фунт, так и считаешь: фунт. Но у всякого охотника свое пристрастие, иной по волкам, иной по птицам, я любитель охотиться с гончей по зайцам. В то время, случись, издохни у меня от старости славный мой гончар-костромич. Туда-сюда поискал я, и скоро мне мужики привели польскую сучку, тоненькая, словно пружинка, и зовут Флейтой. Наговорили, как водится, про собаку семь коробов и что будто бы даже в княжеской охоте такой собаки не бывало, а хозяин ее убит на войне.
Было это дело осенью, вышел я в лес пробовать собаку еще при звездах: потому всегда рано выхожу на зайцев, что поутру они еще не крепко лежат, скорее подымешь. Пока я переходил с княжеских мест на крестьянские, пала роса-узерка. Я люблю крепкую узерку лучше даже, чем первую порошу, по ней следы зайцев тоже видны отчетливо, зелененькие по седому, а деревья стоят золотые, и собачий голос в одетом лесу мне приятней – ну, просто прелесть как хорошо! Вижу я по узерке след: три лапы заячьих, а четвертая как-то ни на что не похожа, ни человечья нога, ни коровье копыто, скорее лошадиная подкова. Так я подумал: это чей-нибудь конь в заячий след попадал, но прошел по следу довольно, и нет, – это лапа такая у самого зайца, вроде как бы лошадиная. Пустил я сучку по этому следу, и враз она зайца этого невидимо мне в густели подняла и залилась тонко и очень приятно, будто флейта в лесу сыграла. Диковинный голосок, и сразу мне очень понравился. На первом кругу зайца я проморгал, или так уж он невидимо прошел в густели, – не привелось даже и поглядеть. Перебегаю поляну, становлюсь на другой круг, Флейта нажимает, ближе, ближе – нет зайца, а собака проходит сзади меня: значит, пока я ждал его впереди, он аккуратненько сзади меня в двух шагах прошел и не показал мне свою окаянную лошадиную ногу. Лес мне совсем незнакомый; гон подвигается в неизвестную мне сторону, и я не мог, как ни стараюсь, не только убить, а даже и повидать косого черта. Затерялся я на кругах, раз зараз перекрутился вокруг себя, все на свете забыл, и какое время, и где нахожусь; мне большая радость слушать собаку, только бы не бросила, а я своего добьюсь непременно, и хоть убить не убью, а такого случая не бывало никогда со мной, чтобы не повидать тонного зайца, если собака его гоняла весь день. Мне страсть стала поперек горла, чтобы повидать, узнать, отчего у зайца такая нога. Но, замечаю, уже вечерние звезды показываются, и тут я опомнился: надо как-нибудь домой попадать или готовить ночлег в лесу. Пошел я наудачу по первой зеленой тропе, шел, шел, и открывается мне луговина без края, и по ней стога сена вдаль уходят без конца, без счета. Я выбрал себе стог возле самого леса против просеки, омял ямку для ночлега и начал трубить, отзывать собаку. Сколько ни трубил, не подается собака, и слышу – парко так гонит и, кажется, прямо на просеку. В это время поднялся огромный месяц над луговиной и, как у него всегда бывает, сначала ходко пошел вверх, а потом остановился, будто опомнился, в свой вид пришел и засиял – вот как засиял, что мушку совершенно видно, как днем. Вдруг сердце у меня упало: при месяце вижу – просекой лупит на меня этот самый заяц, летит, растет, растет, и когда на выстрел набежал, так и стрелять стало страшно: какой-то с теленка ростом, но уши и все обыкновенное заячье, правая же передняя лапа балда, просто пудовая здоровенная балда.
Наждал я его близко, шагов на двадцать навел, как на стену, и выпалил. Он сразу осел, подрыгал ногами и растянулся. А собака моя все нажимает и нажимает – что такое? Глянул туда, а просекой другой заяц бежит и опять прямехонько на меня. Я и с другим скоро управился, а там третий, четвертый. Стреляю, а они все бегут, и все стреляю, и все они бегут и бегут. Понимаю, наконец, это не просто все, и надо мне самому удирать поскорей: хотя сам и не верю в глупости, а тут потерялся. Бросился я от стога по луговине, а зайцы эти убитые за мной, который на двух ногах, который на трех, у которого ухо отстрелено, и у всех кровь капает, впереди же всех тот первый огромный с лошадиной ногой, уши на небе, как тополя стоят, дробинками все, как сито, пробиты, и сквозь ситинки звезды блестят.
Теперь я все понимаю, к чему мне это показалось в лесу, было это мне к скорби. А я тогда ничего не понял и, как поутру очнулся на стогу сена, как услыхал, что собака все лает, – до того обрадовался! Такой собаки у меня никогда не бывало, чтобы день прогоняла и всю ночь. Гляжу я, а заяц и правду просекой бежит на меня. Убил я его, осмотрел: ничего особенного, просто у него давно была перебита передняя лапа и разрослась в огромную мозоль. Пока Флейта до меня добежала, я еще, не сходя с места, убил двух шумовых да по пути домой, не моря собаку, свернул с лежки двух русаков.
Взвалил я все пять зайцев на плечи и нарочно прохожу по княжескому двору, чтобы егеря знали наших, видели, какая у мельника собака.
Иду по двору козырем, хвост пистолетом. А вечером, только сел я чай пить, входит ко мне княжеский егерь, выложил на стол двадцать пять рублей.
– Ну, ну, Михаиле, – говорит егерь.
– Без тебя, – отвечаю, – знаю, что я – Михаиле, чего ты нукаешь?
– Ну, ну, – говорит, – князь твою собаку покупает, прислал деньги, давай собаку.
Поднялась из меня глубина: пушил я, пушил и князя и егеря. Но спокойно так, принукивая, дал мне егерь понять, – ежели деньги не возьму и не отдам Флейту, он сейчас только свистнет, и собаку силой возьмут. Так и приказано, если мельник не отдаст, взять силой собаку, а самого гнать в три шеи с мельницы. Стало мне на душе мелко, бесприютно, упрашивал я, даже о стену головой стукался, ревел… Егерь знай свое бормочет, как тетерев: «ну, ну». Он из латышей был, упрямый. Так вынул из меня душу, на кой же черт мне без собаки и мельница. С этого вечера завинтил я на всю зиму без просыпа.
Очнулся я ранней весной, когда на снегу только-только забормотали тетерева. Слышу – все говорят: «Революция, арестовали царя». Не будь этой обиды с собакой, ничего бы со мной и не было, потому что по природе я тихий человек и верил в постоянство: солнце, к примеру сказать, постоянное, а ветер непостоянный, солнце ветры всегда перемогает; и в человечестве тоже, казалось мне, существуют цари, князья, образованность, это все постоянное, без этого нельзя, а что разные бунты, то это, как ветер, переходит, – сделает свое дело сеятель, посеет, а потом работает солнышко. Об этом мы, бывало, много спорили с одним моим приятелем, Семеном Демьянычем – он мастеровой человек, в Сибири на каторге страдал за политику и сейчас жил – только одной картошкой с машинным маслом питался.
– И солнце, – говорит он, бывал; – тоже движется.
– Слышал, – отвечаю, – и солнце и вода трепещется, а все-таки приятней нам всем бывает, ежели ветер стихнет и воды лягут.
– Тебе бы только приятней, – скажет Семен Демьяныч, – не в приятности дело.
Я это очень даже хорошо понимал, что не в приятности, и Семена Демьяныча за то уважал, но что же мне делать, если натура у меня такая: сам я тихий человек, робкий, на людях сам себя скоро теряю, а в сторонке живу хорошо.
Но пришла и мне, тихому человеку, пора заволноваться; как услыхал я, что революция произошла и царь арестован, подымись и во мне этот ветер из-за собаки, конечно, и прямо я к Семену Демьянычу в город на совет. Выслушал он меня и так говорит:
– Тебе бы, Михаиле, надо на платформу стать.
– Что ж, – отвечаю, – станови!
– Ладно, – говорит, – придет время, станем, а вот тебе мой совет: по-го-ди.
– Для осторожности? – спрашиваю. – Это хорошо, только на этой платформе я всегда стоял, покойная платформа, да вот только собаку у меня отняли.
– Это хорошо, – говорит. – что у тебя ее отняли, хоть мало-мальски стал сознавать. Нет, за меня ты не беспокойся, я не для осторожности тебе это говорю, а потому, что наше с тобой время еще не пришло. Что бы тебе ни говорили, – не верь, как бы ни ласкали – не отвечай, и, может быть, и собаку назад отдавать будут, – не принимай, мы ее сами возьмем. По-го-ди!
Умнейшая голова у Семена Демьяныча, – как сказал, так в точности все и вышло. Никаких перемен в нашей деревенской жизни поначалу не было, жили все равно, как и птицы при царе, а все-таки в конце концов и дождались: представили князьям выдворительную, чтобы в двадцать четыре часа вон, и с собой воз мебели. Уехали князья, и началась какая-то путаница с перебоями, какие-то чужие люди показались издали на телегах, живут при дороге, в парке, слетелись, как вороны на падаль.
Смешно теперь подумать о себе, какая в душе моей жила осторожность: собака моя собственная Флейта живет на барском дворе, и царя нет, и князей нет, а я все опасаюсь пойти и просто взять свое. Будь, конечно, люди вокруг, и я бы другой был, а то какие люди; знаете, как у нас: мужик скажет: «В черта не верю», – а в сумерках побоится в овин сходить, сами лезут грабить, а сами же перешептываются, будто князь по саду ходит и говорит: «Все грабьте, оставьте только веревки вас перевешать». Понимаю теперь и свои сомнения: хотя Семен Демьяныч и страдал, но ведь Христос еще больше страдал, и все-таки до сих пор от этого не перевелись ни книжники, ни фарисеи.
День ото дня, однако, все тревожней становится, и в себе чувствую вроде как бы приказ: «Не зевай, Михайло!» Собрался я в темную глухую ночь, прокрался на собачий двор, сгреб Флейту и на конюшню, в стойло, где стоит тот самый знаменитый Арап, на котором князь въехал в земское собрание. И только-только вскочил я на Арапа, слышу – начинается грабеж, валит народ в барский двор. Держу я Флейту в одной руке, на луке, в другой повод, и умывать, и умывать! Тридцать верст проскакал, будто живой рукой за молнию держался. Сказал зятю: «Спрячь, держи, чтобы ни одна живая душа собаку не видела», – дал Флейтушку, и опять умывать назад.
И когда я увидел, как все грабят княжеское добро, – я гвоздя не взял. И коня возвратил. Я охотник, ничего мне чужого не нужно, а свое задушевное я вернул.
Архары*
Было это на Иртыше. Я вылез на палубу из вонючего пароходного подвала, где были сгружены переселенцы. От моих ста рублей не оставалось и половины, а я ничего не мог написать о переселенцах. Это были несчастные, жалкие люди, и я понял, что писать надо не о них, а о похождениях переселенческих чиновников, что для этого требуется длительное изучение на месте.
Интереснейшие степные картины мало-помалу обратили на себя мое внимание, я принялся, кроме того, просматривать единственную взятую с собой книгу – географию Семенова – и скоро вычитал там, что где-то около Каркаралинска в степных горах водятся архары. Непобедимое желание овладело мной: бросить переселенцев, плюнуть на аванс и заняться архарами.
Пароход между тем подплывал к пристани города Павлодара, и, когда остановился, на палубу вошел молодой еврей, щегольски одетый. Он сел возле меня и спросил, куда я еду.
– А вы куда? – оборвал я его встречным вопросом.
– Я, – ответил он, – еду в Семипалатинск жениться.
– То-то вы таким щеголем, а откуда едете?
– Из Каркаралинска.
Я оживился и спросил:
– Есть там архары?
– Подальше, в горах Кызылтау, много: стада.
– Вот бы убить… – сказал я.
Тогда молодой человек начал меня уговаривать ехать в Каркаралинск к его родному брату Лазарю Исаичу: он – фабрикант фруктовых вод и, главное, торгует мясом, у него масса знакомых в степях, он всегда может достать лошадей.
– А ружье? – сказал я. – У меня ружья нет!
– И ружье достанет Лазарь Исаич. А лошади… вон лошади, пристраивайтесь попутчиком.
Я взял записку от Аарона Исаича, очень задешево устроился в кибитке и поехал за шестьсот верст от Иртыша к какому-то фабриканту фруктовых вод Лазарю Исаичу за архарами.
За этот смелый поступок впоследствии я был награжден: мое степное произведение «Черный Араб» освободило меня от необходимости писать в газеты на злобу дня, но свою охоту на архаров я не описал в этой легенде о Черном Арабе. Между тем именно вот эта трудная цель – без средств, даже без ружья убить архара – позволила мне так хорошо ознакомиться с жизнью сибирских горных степей.
У Лазаря Исаича в Каркаралинске я попал в целый еврейский муравейник. Все собрались посмотреть на нищего путешественника, наготовили для меня, наставили на стол всяких закусок и Роза Львовна беспрерывно мне говорила:
– Кусайте, позалуста!
Беда вышла из-за того, что, как после оказалось, в 1905 году Лазарь Исаич поднял красный флаг и проехал с ним на верблюде: все еврейское население с тех пор находилось под надзором у местного уездного начальника.
На другой день я был вызван к допросу. Начальник оскорбил меня, я оскорбил начальника, и, впредь до выяснения моей личности, я был связан подпиской о невыезде из Каркаралинска.
Я был действительным членом Географического общества, список членов имеется в каждом губернском городе. Лазарь Исаич нашел какую-то оказию в Семипалатинск, кто-то сходил к губернатору, какой-то лесничий привез от губернатора нагоняй уездному начальнику.
Я сидел у евреев на их празднике «Страшный суд», ритуал которого состоит в том, чтобы двадцать четыре часа не есть ничего, а потом уже сразу ужасно наесться. Я тосковал, проводя уже третью неделю без всякого дела на подножном корму у приютивших меня людей. С тоски я решил голодать на их «Страшном суде» двадцать четыре часа, сидел и пощипывал незаметно сунутое мне Розой Львовной в карман миндальное пирожное. Вдруг появляется городовой и требует меня к уездному начальнику немедленно.
Помню, только старик остался на месте, все же другие, забыв о «Страшном суде», стали со мной прощаться, уверенные, что меня или посадят, или отправят. Никто не знал, что это приехал лесничий с нагоняем от губернатора. Меня ввели в большую комнату с длинным столом, нагруженным всякими яствами и винами. Уездный начальник встретил меня с распростертыми объятиями: у него сын студент, дочь хорошенькая курсистка, лесничий восхищался моими литературными произведениями, все были совсем либеральны. Я не стал церемониться и, поголодав уже довольно на «Страшном суде», принялся есть и пить.
Несмотря на все намеки уездного начальника и предложения поселиться чуть ли не у него в доме, я не изменил Лазарю Исаичу, продолжал жить у него и по всему городу разгуливал под руку с Розой Львовной, предпочитая ее всем дамам, с которыми познакомился в доме уездного начальника; мое поведение окончательно расположило Лазаря Исаича в мою пользу, так что он и сам решил ехать со мной в экспедицию за архарами. Мы достали несколько казачьих винтовок, два дробовика; к экспедиции присоединился знаменитый охотник Хали-Мергень, выставщик зверей известной в Сибири Верещагиной, снабжавшей Гамбургский зоологический сад. Еще вошел в экспедицию секретарь уездного съезда, очень влиятельный в степи человек, Дмитрий Иванович, и Токмет, бедный казах, на своем верблюде повез за нами юрту и съестные припасы. «Длинное ухо», казахская почта, передавая всякий слух от всадника к всаднику, от аула к аулу, лучше всякого радио распространило весть о выезде в степь важных лиц: секретаря уездного съезда, петербургского писателя и фабриканта фруктовых вод. К нам стали присоединяться любители охоты из богатых казахов, нам надавали много запасных лошадей, появились казахские гонцы – борзые собаки, беркуты и другие ловчие птицы. Редко приходилось есть баранину, для дорогих гостей всюду резали молодых жеребят, и, наверно, вышло бы порядочное озерко, если бы можно было собрать в одно место весь выпитый нами кумыс.
Мое одинокое путешествие превратилось в охотничью экспедицию, материалы рекой потекли в мои записные книжки. Я до сих пор не могу их использовать. Только два-три момента, предшествовавшие охоте на архаров, я могу передать здесь, опасаясь растянуть свой рассказ.
Однажды, рано утром, когда все наши, опившись ночью кумысом, спали в ауле, мы пили чай с Токметом на воздухе. Какие-то темные птицы, совершенно как у нас грачи, большой стаей разгуливали по дороге. Присмотревшись к ним, я, к величайшему своему удивлению, узнал тетеревов. «Раз они так изменили свои привычки в степной природе, – подумал я, – то, может быть, они и допустят нас пеших на выстрел?» Подумав так, я взял плохонький дробовичок и стал подходить к ним дорогой, громко разговаривая с Токметом. Когда птицы стали вытягивать шеи, на довольно большом расстоянии я выстрелил. Все поднялись, но один петух, подстреленный в крыло, с большой быстротой пустился наутек. В тот самый момент и Токмет пустился за ним, догнал и ножом перерезал ему горло. А когда я подошел, то, как это часто бывает, один затаившийся петух вдруг вырвался около нас, и я успел его убить на лету. Он был убит наповал. Токмет не побежал за ним, ему эта птица не нужна: по их мусульманским законам, нельзя есть животное, у которого не спущена кровь. Резаную птицу я отдал Токмету, убитую взял себе. Обрадованный Токмет ответил мне пословицей:
– Воздух и вода принадлежат всем, дело рук охотника пополам.
Вся огромная стая тетеревов должна бы, по их степным законам, улететь в горы и рассесться на остриях камней, как у нас на березках, но им на пути было соленое озеро с большими зарослями, они решили рассыпаться здесь, переждать и потом опять выбежать на дорогу. Мы отправились туда. Плохонькое ружьишко очень живило. Токмет после выстрела бросался, резал горло. Большая часть птиц досталась ему, и когда мы потом сели на камень отдохнуть, он сказал:
– Хорошее ружье, очень хорошее?
– Плохо стреляет, – ответил я. Он покачал головой и сказал:
– Худай береды.
Я перевожу это: «Ружье плохо стреляет, а бог посылает».
Я мотнул головой в знак согласия, а Токмет, обрадованный, изрек:
– Кто много ездил, тот знает, что далеко и что близко: кто много пережил, тот знает, что сладко и что горько.
Я уже знал, что пережил Токмет: он был джетак, значит, самый бедный казах, у которого джут (гололедица) от всего стада оставил только одного верблюда. Такой самый несчастный человек в степи не может больше кочевать и должен заниматься земледелием. Зная все это, я сочинил пословицу в степном духе и сказал:
– Кто много и радостно кочевал, тот знает жизнь в ширину, кто пострадал и стал земледельцем, тот узнал жизнь в глубину.
Джетак, изумленный, спросил:
– Откуда ты узнал такую хорошую пословицу?
Я ответил:
– Кто много ездил, тот знает, что далеко и что близко, кто много пережил, тот знает, что горько и что сладко.
– Миргень, – ответил Токмет.
Это значит: отличный стрелок.
Секретарь уездного съезда Дмитрий Иванович, добродушный, страшной толщины человек, пользуется в степи большой популярностью, казахи зовут его Ветр Иваныч. Он ни одного аула не пропустит, чтобы не попробовать крепость кумыса, и всегда к этому добавляет из своего запаса казенного вина. У него своя лошадь, своя тележка. Выпив, он мечтает бросить службу, сесть в тележку и ехать от аула к аулу: везде будут гостя кормить, и так можно всю жизнь ехать и охотиться.
– Хорошо бы дрофу убить, – сказал я, – совсем не знаком с этой охотой.
– Самое пустое дело, – ответил Ветр Иваныч, – вот как только выедем в степь, так и убьем.
И, правда, дрофы скоро показались. Я пересаживаюсь в тележку Ветр Иваныча и правлю, он с ружьем в руке сидит, выжидая момент, когда ему удобней всего соскочить с тележки. Расчет известный: мы едем спиральными кругами, приближаясь к птицам: когда будем на выстрел, Ветр Иваныч соскочит с тележки, будет выцеливать из своего винчестера а дрофы будут смотреть не на него, а на продолжающую свой путь тележку. Однако Ветр Иваныч, тучный, на коротеньких ножках, не мог просто соскочить в степь, ему нужен был камень. Я наметил крупный булыжник, постепенно подъехал, спустил Ветр Иваныча, двинулся вперед, глянул на дроф и ужаснулся: Ветр Иваныч на камне оказался куда значительней тележки, дрофы смотрели не на тележку, а на Ветр Иваныча…
Они быстро побежали и поднялись, вслед им полетели безвредные пули. Я вернулся. Ветр Иваныч налил себе шкалик из фляги, выпил и сказал:
– «Матрешкина мать собиралась умирать, умереть не умерла, только время провела».
Синие горы похожи на палатки великанов, кочующих в этих степях. Наши горы, где мы будем стрелять горных баранов, называются Кызылтау, значит, красные горы.
Издали они нам казались тоже синими, а когда подъехали, стали черными, окаймленными желтеющими кустарниками. В долине Бий-Джина нас прельщает веселый ручеек, и, несмотря на протесты Токмета, мы решаем тут поставить наш дом. Наш караван останавливается.
– Чок, чок! – кричит Токмет верблюду.
Он подгибает колени, ложится. Отвязываем большой круг – основание юрты. Палки вставляются, обтягиваются кошмой, сверху тоже накидывается кошма, наверху само собой получается отверстие для дыма.
Я просыпаюсь ночью от ужасающей боли и вижу такую картину: все наши, совершенно голые, сидят у огня и ругаются, работают по своему телу ножами. Мое тело тоже покрыто черными точками, совершенно похожими на шляпки забитых в тело гвоздей. Токмет оказался прав, что настаивал не ночевать у ручья: возле воды при перекочевках останавливаются пастухи с баранами, и тут всегда остается много бараньих клещей. Очистив тело от клещей, мы делаем факелы из бараньего жира и при свете их переносим наш дом. Зуд от клещей долго не дает уснуть, и, кажется, вот только что уснулось, раздается голос Хали, повторяющий одну и ту же фразу:
– Айда, Ветр Иваныч, вставай архар стрелять!
Хали такой ловкий, проворный, заботливый, я верю его рассказу, что он раз для Верещагиной руками за уши поймал дикую свинью и ехал на ней, пока не скрутил. Верней всего, он не соснул ни минутки. И трудно ему с толстяком. Мы уже одетые пьем чай, а Хали все повторяет:
– Айда, Ветр Иваныч, вставай архар стрелять!
Хали беспокоится, потому что архары очень рано, еще до свету, спускаются со своей горной лежки кормиться в долину и, чуть солнце разогреет, подымаются. Времени для охоты не так уже много… по росе мы будем искать следы, с гор высматривать пасущихся.
Тяжело подымается Ветр Иваныч, причесывается и говорит:
– Пока не причешешься, все что-то в голове копается.
Пьет чай, обжигаясь, ворчит:
– Черт его знает, отчего это. Как это только из дома выедешь, на пальцах начинаются заусенцы.
Ветр Иваныч считает себя опытным охотником и не раз заявлял нам, что на архаров он будет охотиться самостоятельно. Подвесив себе огромную флягу, конечно, уж не с водой, он подводит своего коня к камню и с него грузно взваливается на седло. Он долго едет за нами таким важным полковником в рыжей шапке под цвет рыжего архара и осенних рыжих кустов, в рыжем бешмете. Он эту охоту на архара долго, годами лелеял и все предусмотрел. Одно только он упустил, что животик его от кумыса с годами рос, рос и до того теперь дошло, что если поднимется, как приходится, вверх почти по отвесным скалам, то лука непременно просверлит ему брюхо. Зоркие казахи и насмешливые: Хали относительно луки и живота все предусмотрел, все перешептал мне и задумал во что бы то ни стало отделаться от такого охотника. И, конечно, он нарочно выбирает путь через кручу. Чтобы не упасть вниз, я хватаюсь за гриву лошади и, когда становится уже не страшно смотреть вниз, вижу, как там куда-то в сторону шагом пробирается Ветр Иваныч. Улыбаясь, Хали говорит:
– Ветр Иваныч архар испугал!
Это значит, что нельзя охотиться с ним, он испугает архара.
Мы поднимаемся выше и выше, жутко подумать, что потом придется спускаться по такой крутизне. Когда становится невозможным подыматься на лошадях, мы их просто бросаем, они никуда не уйдут и будут только переходить от ямки к ямке, налитой растаявшим снегом. Мы ложимся на высоте и стараемся разобраться в грандиозной картине долин и сопок. Очень трудно отсюда различить архара от рыжего кустика. Сам Хали спрашивает меня, указывая в одно подозрительное место, архар это или камень. Бинокль необходим, а нет. Кажется, архар стоит, наклонил голову, щиплет травку…
Мы решаем спуститься к нему, но перед этим надо хорошо изучить местность, иначе заблудишься и ничего не найдешь. Хали изучает памятью, я набрасываю план на бумаге. За это время раз совсем близко от нас перемахнул беркут, и вскоре лисичка высунула мордочку и долго глядела ему вслед.
Такая прозрачная осенняя тишина в этих предгорьях Алтая и Тарбагатая, тут, может быть, не ступала нога человека, вон там белеется череп какого-то умершего своею смертью животного… А там вон внизу в ясной долине из-за черного камня показывается живое существо, за ним другое, третье… Мы насчитали их девять и стали спускаться.
– Кульджа есть! – шепчет мне Хали.
Кульджа – название самца. Есть кокпеккульджа, большой трехлетний самец, и еще бывает лучший, самый большой актамак (белогорлый).
Почему же тот, первый, которого мы заметили, не спускается в долину? Хали думает, что это сторож и к этим он не спустится.
Нам надо очень спешить, а то к тому часу, когда в городах пьют чай, архары возвращаются в горы, чутко спят; к ним тогда не подкрадешься, и если разоспятся, сторож их разбудит своими рогами.
Через какую-нибудь сотню шагов вниз моя карта ничего не говорит мне, я не узнаю долин и сопок, и если бы остаться одному, я, может быть, не нашел бы не только архаров, но и своих лошадей. Я спускаюсь по крутизнам, подражая кошачьим движениям Хали, иногда обсыпаю камешки, и тогда Хали останавливается, оглядывается и приставляет палец ко рту.
Меня очень удивляет, как Хали мог пройти эту трещину в скалах и ничего не заметить. Но я и сам прошел ее и только после сообразил, что фотография, мгновенно сделанная лучом солнца в моем глазу, означала стадо архаров. А Хали подходил уже к самому краю скалы и непременно должен им показаться и сразу спугнуть. Шепнуть нельзя – далеко, крикнуть – опасно. Я схватываю камешек и, наметившись, пускаю им в спину Хали, потом зову к себе руками. Пропускаю его мимо себя и любуюсь, как он ползет к трещине. Мне так не суметь, я боюсь шевельнуться, а он, рассмотрев, зовет меня рукой, и я ползу. Теперь он смотрит я едва ли любуется.
Стадо от нас всего на полтораста шагов. Кульджа – огромный, со спирально закрученными рогами – еще ближе. Я пристрелялся к казацкой винтовке и знаю, что на таком расстоянии нужно целить под нижнюю шерстку.
Но я не могу стрелять, мушка танцует. Пусть стреляет Хали, а я бы полюбовался этой желтой долиной в черных горах, я бы очень хотел передать ему ужасно волнующее действие. А он смотрит на меня и дожидается: он ни за что не станет стрелять, хочет, чтобы я: он много убил архаров. Нечего делать, укладываю винтовку на камень, устанавливаю мушку под шерстку, спускаю курок…
Все брызнуло, и через мгновенье они гирляндой стоят на скале от нас на триста шагов. Хали стреляет туда, а мой стреляный кульджа почему-то бежит не к стаду, а к нам. Я стреляю в него на бегу быстро на вскидку, как из дробовика, и с отчаянием вижу, как пули возле него столбиками подымают пыль. Он рухнул почти у самого нашего камня. А те после выстрела Хали опять брызнули вверх и опять на большой высоте остановились гирляндой. Одна осталась внизу неподвижной. Не переставив прицел, я стреляю вверх, и все, как сон, исчезают.
Дрова*
Ложится пороша, другая, третья. Санный путь установился. Является с возом старенький-престаренький мужичок, складывает себе потихоньку полено за поленом на дворе, а хозяйка моя, славная такая, сердобольная женщина, жалеет старика, что далеко ему возить, что зябнет он.
Поставила хозяйка самовар, все выложила на стол: сахар, булки, студень, огурцы.
Пришел старик к нам в дом. Уж он молился-молился в угол, потом стал отговариваться от угощенья, как это уж всегда полагается у крестьян. Ссылался и на дальний-то путь и на волков, что какие-то волки особенные у них в Голоперовских лесах, с гривами и на людей бросаются: одну старуху прошлый год в клочки разорвали, и сказывала старуха, что волки эти были сибирские.
– Как же так она могла сказывать, – спросил я, – когда они ее в клочки разорвали?
Старик принялся смеяться и грозить мне, насмешнику, пальцем: само собой, это уж другая старуха сказывала, самовидцем была.
После этого смеха хозяйка сказала:
– Ну, садись, дедушка, будем чай пить.
Старик сел и такой оказался речистый, насказистый. Сел он за чай надолго, пока весь самовар не выпил, и потом студень ел с хлебом потихоньку. Рассказывал же он больше все про божественное: что будто бы там у них в Голоперовских лесах есть гора и на той горе дивное место: ступит лошадь копытом – и сразу же начинает из-под копытины выступать вода, а ведь высокая гора, и никак нельзя и думать бы о воде на таком нагорье. Вот на этой удивительной горе есть у них святой ключ, вокруг колодца березки, на каждом сучке у берез рубашки висят: это значит, у кого больное дитя бывает, приносят, окунают в холодную воду, а рубашонку его оставляют на березке и с рубашкой – болезнь. Много чудес бывает… Старик все и рассказывает про чудеса, а хозяйка моя натерпелась за революцию безбожия и вот как рада повидать и послушать настоящего православного человека.
Так и пошло у нас через день, потому что далеко старику, день лошадь отдыхает, а на другой уж старик везет свою четвертинку. Уж он складывает-складывает, а хозяйка непременно ставит самовар и обед ему готовит. Так и пошло у нас через день: с утра сидит за чаем старик и рассказывает про чудеса ихнего загорья.
Мне даже скучно стало, когда старик кончил возку: все, бывало, будто сытый кот мурчит.
– Ну, – сказала хозяйка, – теперь мы обеспечены на всю зиму: при такой кладке не меньше как два сажня уложил старик лишнего.
– Не лишнего, – заметил я, – ведь он одного студню-то сколько поел!
Хозяйка на меня и рукой замахала, вроде как на безбожника.
– Не простой это старичок, – сказала она. – Мне от него стало, вроде как наш дом господь посетил.
Ноябрь месяц морозы были несильные, мы топились старым, летним запасом осиновых легких дров, и дом не выдувало. Стариковы березовые дрова хозяйка берегла на лютое время. И она была права: в декабре, когда начались настоящие морозы, как мы ни топили осиновыми дровами, прохолодило дом сразу.
– Ну, – сказала однажды хозяйка, – с завтрашнего дня принимаемся за березовые дрова, эти уж не подведут, а осина – не дрова, осина – прах.
Утром я залежался в постели: страшно было вставать, дожидался, пока хозяйка затопит печку новыми березовыми дровами. И вот слышу крик, вот шум, вот брань великая. Подумал – не сцепилась ли моя хозяйка с соседкой. Прислушался, – нет, и соседка в один голос с моей хозяйкой обе кого-то отделывают.
Я поскорее оделся и вышел на помощь женщинам. Тут все сразу и оказалось, почему старичок тогда при кладке так долго всегда возился: дрова-то были осиновые, а он их снежком притрушивал, от этого дрова становились белыми, и по белому старик тыкал мошок, убирал снегом и мохом поленце к поленцу под березовые, и глазом бы ни за что не узнать, а как взял в руки – снег осыпается, и сразу береза становится осиной.
И так благочестивый старик целых пять сажен осиновых дров расписал под березовые.
Заутреня*
Ранняя и дружная весна прекрасна в мечте, но живет не для меня: мне с такой весной не справиться, она прошумит, а я останусь ни с чем. Затяжная весна с возвратными морозами, – вот это по мне. Когда затянется весна, я думаю: ну уж, если не совсем ладно, то мне-то и вовсе простительно. И когда среди ненастья, морозов и бурь проскочит райский денек, так обрадуешься, что о себе и забудешь. А в этом и есть секрет всякого настоящего счастья – совсем забыть о себе…
Были день и вечер и утро этой незапамятной затяжной весной, когда вокруг стало понятно, для чего было столько бурь, дождей и морозов: все это было необходимо, чтобы создать такой день.
Я нанял извозчика ехать по шоссе до Мараловой гати, чтобы потом пройти верст десять пешком по непроезжим местам и встретить утро на пойме. Люблю пойму весной воды, но только очень немногим охотникам и натуралистам мог до сих пор рассказывать о болотных концертах, и то без удовольствия себе самому: редкий охотник не спросит: «А сколько убил?» – редкий натуралист не придерется к рассказу с точки зрения какой-нибудь своей орнитологии или зоологии. А просто музыкальный человек, любитель концертов, театров, стихов – понятия не имеет о пойме и ее болотных концертах. Кому, правда, захочется в болотных сапогах, с риском окунуться в грязь по шею, пройти какую-нибудь Маралову гать?
Маралова гать – это прутья, настланные по болоту, но прутьев теперь почти и не видишь: черная бездна грязи, и в ней плавают обломки передавленных коровами палочек. Нужно становиться ногой на одну из таких палочек, которая, утопая, сама себе находит другую, третью, и вместе они не дают ноге совсем провалиться. Ходить можно только очень опытному или доверчивому человеку; недоверчивый подойдет и не тронется с места. Приезжие московские охотники, которым раз в год не жалко истратиться, за большие деньги нанимают себе извозчика: всегда есть дурак, жадина, рискующий за какие-нибудь двадцать рублей погубить свою лошадь. Я нанял себе экипаж только до гати.
Леса шоколадные, от земли поднимается марево; хозяйственно, не делая ни одного лишнего движения, цапля летит над полями. Такая ширь, такой простор открылся за городом! Но лошадь остановилась. Степан посвистел. Лошадь ничего не сделала. Он понукал. Лошадь ни с места.
– В чем дело?
– Чересседельник высок.
Слез и поправил.
Лошадь не трогалась. Прохожий сказал:
– Дай ей хорошенько.
– Нельзя, – ответил Степан, – все поломает, а все равно не пойдет.
– Ну, проведи.
– А ты сам попробуй.
Прохожий потянул и не стронул.
– В чем же дело?
Степан ответил:
– Затрёкалась.
Прохожий сказал:
– А если затрёкалась, надо бить по передним ногам.
Подошли плотники и пильщики с продольными пилами, сели у канавы отдыхать.
Кто-то из них спросил, глядя на лошадь проницающим взглядом:
– Что ей подеялось?
– Затрёкалась баба, – ответил Степан.
Один плотник поднялся, решительно взял под уздцы, потянул с криком и гиком. Лошадь попятилась, оглобли стали под углом к экипажу. Я вышел и сказал:
– Ничего не выходит.
– Ни мур-мур, – ответил Степан.
– Надо бить по передним ногам, – снова подал голос первый прохожий.
Но плотники посоветовали:
– Остепенитесь, посидите, скоро цыган подойдет, цыган стронет.
Все сели у канавы, свернули по козьей ножке и закурили.
Плотники долго рассказывали, откуда идут, на что надеются. Докурив, Степан спрашивает:
– Далеко ли цыган?
– В Ивановском трактире чай пьет, – ответили плотники.
– Так бы и сказал! – осердился Степан. – Он, может быть, там целый день пропьет – дожидается ли другого цыгана или что высматривает, – а ночью пойдет по делам.
– Я говорю, – вмешался прохожий, – верно, все равно и цыган это скажет, я от них и слыхал: надо бить по передним ногам.
Степан подал кнут.
– Ладно, все надо испробовать.
Прохожий взял кнут, стал рядом с лошадью, сделался страшно серьезным, спросил лошадь:
– Не кусала тебя вошь за ухо?
Лошадь молчала.
Он тихонечко стал подхлестывать по жилкам и каждый раз спрашивал:
– Не кусала тебя вошь за ухо?
Лошадь дрожала. Подогнула одну ногу, подогнула на смену другую, обе подогнула и упала на коленки.
– Не кусала? – громко крикнул хирург и со всего маху ударил по крупу.
Лошадь вскочила и вдруг бросилась в сторону. Через мгновенье тележка лежала на боку с поломанными оглоблями, мой дорожный мешок с провизией со дна полной канавы пускал пузырьки.
Пришел цыган. Оглядел лошадь. Она мелко дрожала, и от нее валил пар.
– Не была ли она на Мараловой гати? – спросил цыган.
Степан ответил:
– Была-то была…
– Кончай дело, – сказал цыган. – Не пойдет нипочем.
Вспоминая, как сам, бывало, стоял перед гатью в нерешимости, я все понимал. Надо иметь какую-то младенческую доверчивость к бездне: что плавающий в грязи сучок опустится под ногой на другой, сыщет себе третий и нога утвердится. Недоверчивый так и будет стоять. Лошадь вспомнила гать прямо за городом, и ей представлялось теперь, что стояла она перед ужасною черною бездной.
Вытащив из канавы свой дорожный мешок, я отправился пешком, только чтобы послушать на пойме любимый мой птичий концерт.
Я проснулся до рассвета. Лень было протянуть руку, чиркнуть спичкой и посмотреть на часы. Но дрожащий от звуков пойменный воздух или земля по доскам пола и по ножкам кровати передали мне на подушку один звук и я догадался, что во мраке ночи начался первый свет и, значит, на часах теперь половина второго. Я проверил звук, сосчитав его до четырех: четыре – и оборвалось. Потом опять началось; я сосчитал до пяти. Не было никакого сомнения, это ухала выпь в зарослях поймы. Хозяин вышел задать коню овса: мы с ним сегодня дальше поедем. В тот момент, когда дверь отворилась, я успел расслышать последнюю вопросительную фразу токующего тетерева. Он токует для новичков непонятно, кажется – просто бормочет, но для меня он отчетливо выговаривает:
– Обор-ву, обор-ву.
– Кру-ты перья, кру-ты перья!
Пропев это, он спрашивает противника:
– Кру-ты перья?
Чмокнет и опять:
– Обор-ву, обор-ву…
Петух меня вызывает. Я не могу, услышав это «оборву», оставаться в покое. Быстро натянув сапоги и накинув куртку, выхожу на темный двор, мимо коня и коровы пробираюсь к выходу на огород, на гумно и дальше…
Из-под синего видна полоска зари. Замираю под звуки молящихся птиц: на небе рассыпаются барашком сотни бекасов; на земле, где-то очень близко, священнодействует тетерев; трудится, ухая, как бык в пустую бочку ревет, тоже по-своему любит и молится выпь.
Не буду скрывать, я тоже, обращенный в ребенка, пытаюсь прочесть «Богородицу», но скоро, выискав в ней непонятное мне в детстве слово ее плодчерева, повторяю молитву вкратце за птицами:
– И благословен…
Какой-то:
– Плод-че-ре-ва…
Кряковые утки кричат, селезни чвакают. Мало-помалу показывается белый, как накрахмаленный очень туго, подхвостник тетерева, и наконец весь он виден, ходит кругами, подняв свою лиру, пригнув к земле голову с красным цветком, неустанно твердит:
– Кру-ты перья, кру-ты перья?
И я вслед за ним:
– Плод-че-ре-ва, плод-че-ре-ва?
Потом журавли дали сигнал. Этот их пронзительно-радостный клик на восходе нельзя передать прямо словами, но это все равно, как если бы по-человечески таким же их голосом крикнуть:
– По-бе-да, по-бе-да!
Брызнуло золотом света само солнце, и тогда все журавли хором ударили:
– Победа, победа!
Я замер в ознобе восторга. Я хорошо помню, отчего это случилось со мной: тень прошла во мне от «последней рассеянной тучи», луч пронзил меня и с ним: «Вот теперь это прошло уже навсегда!»
Солнце поднялось над поймой, а леса так и остались синими.
Хозяин вышел на двор. Конь наелся овса и как из пушки ударил.
– Будь здоров! – ответил хозяин коню.
Одинокий журавль*
По утрам прилетал на пойму одинокий журавль и не трубил, а только свистел. В деревне его заметили и каждый раз о нем разговаривали.
Почему он свистит?
Одни говорили – болен. Другие – стар. Третьи догадывались – во время перелета убили его самку. Последняя догадка была бы совсем хороша, но только являлся вопрос, почему же он не подобрал себе другую? Тогда опять приходили к тому, что стар, не хватило бы сил отбить себе. Слушая все это, я спросил:
– А осенью, когда молодых самок будет довольно, может ли по журавлиным законам он, старый, выбрать молодую жену?
Охотник Федор Иванович, отлично знающий жизнь журавлей, ответил:
– Возьмет молодую.
Жена его заворчала:
– Молодую, молодую, а что будет хорошего, – сам старый свистун, а она молодая.
– Ну, с молодой-то, – ответил Федор, – он перестанет свистеть, с молодой женой и старик затрубит.
Все засмеялись. А жена Федора очень разозлилась и сказала ему при всех в глаза:
– Бессовестный!
Она очень его ревновала.
Башмаки*
По Савеловской железной дороге от станции Талдом до Кимр на Волге (18 верст) лежит глухое болото Ворогошь, в старые времена приют беглецов от церкви, государства и общества. На берегу этого болота теперь живут ремесленники, разного рода сапожники, башмачники, скорняки, портные; всего в краю насчитывается двенадцать или тринадцать ремесел, но в подавляющем числе талдомские – башмачники и кимрские – сапожники. Не надо себе представлять, что ремесленники распределены только в этих крупных центрах; их гораздо больше в деревнях, и так, что если портные, то вся деревня – портные, и даже две-три подряд; скорняки, так опять все начисто скорняки, а башмачники даже по своим специальностям: несколько деревень подряд занимаются детской обувью, дальше – тяжелой обувью, еще дальше – легкой, красивой; есть деревня, где живут одни пастухи, которые ранней весной являются в близлежащий центр со своими рожками, трубят там на базаре, играют и нанимаются на лето. Чрезвычайно интересный край для исследователя, благодарный в высшей степени, потому что мало-мальски вдумчивому человеку легко можно ввести всевозможные улучшения в рутинные приемы всех этих ремесел.
Что это – скудность болотистой почвы оторвала население от исключительного занятия земледелием или может быть, промышленная инициатива явилась наследством относительного чувства свободы, которую обрели себе ворогошские беглецы – изгои церкви, государства и общества? Я ничего не могу ответить на этот вопрос, потому что нет никаких источников для изучения края и скудны сведения, с большим трудом добытые, взятые мной из неизданных записок бывшего священника, отца Михаила Крестникова (в революцию он снял с себя сан и отдался истинному своему призванию – кооперации).
Талдом, – записано у М. Крестникова, – вернее всего, слово татарское и значит стоянка, а может быть, и финское – желтая земля. Есть и простодушная легенда о русском происхождении слова: было местечко Великий Двор, куда съезжались для отбывания общественных работ крестьяне, приписанные к монастырям; однажды этот двор сгорел, и когда выстроили новый, архиерей сказал: «Вот и стал дом», – с этого будто бы и начался Талдом. В восемнадцатом веке тут проходила дорога от низовой Волги на Петербург, талдомцы ездили по ней в Саратов, там ознакомились с кожевенными товарами и начали свое местное производство обуви. На первых порах обувь эта была «кирпичи», – так назывались мужские башмаки, потому что в них между стелькой и подошвой прокладывался слой глины. О тяжести такой обуви можно судить по преданию о силаче Ефреме Соколове, который снес в Москву в один день (сто верст) сто пар кирпичей, весивших девять пудов. Переворот в производстве этой первобытной обуви произвело знакомство с товаром «выросток», после чего началось производство культурного осташевского типа обуви (осташей). С половины девятнадцатого века начинается плисовая и бархатная обувь на меху, ныне совершенно исчезнувшая («и очень жаль, – написано у отца Михаила, – в холодное время было так хорошо засунуть ногу, голую, без чулка, прямо в мех»). С половины девятнадцатого века поездки молодежи в Москву повели, наконец, к знакомству с юхотными товарами, появились специалисты, отличающие козла от барана, и началось современное производство, в некоторых отношениях превосходящее европейское и американское.
В записках имеется маленькая хронологическая таблица главных событий в истории торгового села Талдом, – вот она:
Год 1901. Постройка железной дороги Москва – Савелово.
Год 1906. Начало мостовой в селе Талдом.
Год 1907. Первый фонарь на улице села Талдом.
Год 1912. Почта переезжает в собственное здание.
Год 1920. Село Талдом переименовывается в город Ленинск условно, если докажет свою экономическую и финансовую жизнеспособность.
Год 1923. Электрификация города Ленинска.
Этой таблицей этапов цивилизации села Талдом заканчиваются записки бывшего священника отца Михаила, и в распоряжении исследователя остаются только устное предание и своя личная догадка.
Оставляя местную историю и переходя к описанию современного быта, я рекомендую своим московским читателям, желающим недорого купить дамские башмаки, отправиться с первым утренним трамваем на Савеловский вокзал, найти там вблизи бывший трактир Кабанова, занять там столик и за чаем дожидаться прибытия поезда из города Ленинска. Через несколько минут после прибытия поезда – весь большой трактир наполнится башмачниками с корзинами обуви, каждый из них займет место за столиком, а кто не успеет – на полу, потом быстро все распакуют корзины, и весь трактир превратится в выставку женских башмаков и сандалий. Редко является сюда тот покупатель, кому нужно купить товар для собственного потребления; покупают же те самые люди, которые и в старое время стерегли мужика с хлебом на большаке и, скупив его, везли в город продавать сами. Так бывает и тут: спекулянты отправляются куда-нибудь на Сухаревку, а мастера возвращаются на места. Спрашиваешь себя: разве мало теперь кооперативных союзов, устроенных именно с целью устранения посредника между мастером и потребителем? Почему же мастер, теряя время, едет сам и все-таки товар попадает купцу? Скажу даже больше: почему ремесленник предпочитает брать товар у купца и готовить товар на его заказ, а не на кооператив? Я очень много расспрашивал про это явление и не узнал полной правды, потому что в этом вопросе, видимо, узлом сходятся новые идеи государственного строительства и традиции населения; в общем, мастера ссылаются на бездарность или неосведомленность лиц, назначаемых в кооперативы, а сами кооператоры объясняют все горе темнотой населения, предпочитающего отдаваться в руки спекулянтов поодиночке, чем коллективно бороться с ними через кооператив. Словом, в этом пункте начинается какое-то большое дело, но быта еще нет, потому что быт, в моем представлении, является после борьбы…
Рекомендуя для покупки обуви трактир Кабанова, я все-таки рискую подвести неопытного покупателя: многие мастера, наверное, и потому избегают кооперативы, что обувь их блестит только снаружи. Мне думается, что развитию кооперативного дела служит одним из главных препятствий естественный индивидуализм ручного труда, на одном полюсе которого находится мастер «художник», закладывающий внутрь башмака бумагу, на другом – волчок, как называется в обувном деле артист, изготовляющий настоящую художественную обувь. Ни жулику, ни волчку не выгодно идти в кооперативы, а станешь думать о среднем товаре, то это тебе только он кажется средним – сам мастер себя, наверное, считает выше среднего. Много я перевидал разных мастеров в надежде найти среди них волчка и познакомиться с жизнью, казалось мне, средневекового типа ремесленника, но тех, на кого мне указывали, – после оказывалось, – нельзя было считать волчками, и жизнь их была самой обыкновенной.
– Кто это вам указал, – говорили мне, – какой это волчок? Живет сыто, семейно, обут, одет.
– А настоящий? – спрашиваю я.
– Настоящий волчок ходит в двух фартуках.
– Для чего в двух?
– Без штанов – прикрывается спереди и сзади фартуками. Попробуйте поговорить с Мишей Шпонтиком, – тот, кажется, настоящий волчок.
Нахожу Мишу Шпонтика, спрашиваю:
– Вы настоящий волчок?
А он как будто даже немного обиделся.
– Я, – говорит, – мастер обыкновенный, гоню со своим помощником в неделю восемнадцать пар, а волчок делает в неделю только две. Может быть, и правда, я был бы волчком, если бы мне можно было работать только две пары.
– Я считал за честь быть волчком, – ответил я, – и хотел сказать вам только хорошее.
– Ничего нет в этом хорошего, одно самолюбие: ему надо сделать напоказ, чтобы все видели и удивлялись ему, а я человек семейный, у меня в сарае крыша развалилась, мне надо обязательно выгнать в неделю восемнадцать пар. Нет. вы ошибаетесь, – я по своему характеру не могу быть с волчками в контакте.
Я догадался о настроении Миши Шпонтика и сказал:
– Значит, волчки занялись советской работой, но ведь и вам путь не заказан.
– У меня нет их словесности, и ему это просто: у него ни кола ни двора, занимайся чем хочешь, а у меня – жена, дети, дом свой, сарай, везде дыры, я привязан к своей собственности и с волчками не могу быть в контакте.
В конце концов этот волчковый вопрос распутался таким образом. До революции множество мастеров жили в Москве и в Петербурге, а во время голода и обнищания городов перебрались в деревню к себе, занялись земледелием. Теперь, когда условия городской жизни улучшились, волчки, как легкие на почин, перебрались в столицы, а средние мастера все боятся бросить земледелие – разорительное, но все-таки обеспечивающее на какой-нибудь случай. Мне почему-то казалось, что волчок – явление самобытно-русское, но оказалось, что другое название им – «немецкие мастера», и свое искусство взяли они у иностранцев, что и за границей есть свои волчки, отстоявшие свое капризное существование у машины, за счет быта своих отцов. Я слышал, что не этого рода обувью мы славимся за границей, а работой такого среднего мастера, как Мишка Шпонтик, который, не имея у себя на родине механического конкурента, может дешево дать на иностранный рынок более ценный там продукт ручной работы. И само собой ясно, что, при широком распространении у нас механической обуви, грубой, но прочной, исчезнут средние мастера и останутся только волчки, но вовсе не как национальная гордость и самобытность, а как всемирный противник механизации, артист.
С первых же дней моего пребывания в краю приволжских болот я услышал повторение слова Поймо и стал интересоваться им, догадываясь, что оно много значило в этом краю.
И так, я думаю, всегда надо поступать журналисту-исследователю: в беседах с местными людьми полусознательно нащупать все самое важное, имеющее отношение к их жизни, и постараться поскорее на это взглянуть. Сначала я выбрал себе Поймо просто по «чудесам», которые рассказывали про это болото, а после оказалось, что болотистая местность, в которой трудно существовать земледелием, была естественным условием развития здесь в населении башмачного промысла.
Интерес мой к Поймо передался к самим рассказчикам, и некоторые из них захотели меня туда проводить, чтобы новыми глазами посмотреть на привычное. Так и составилось из совершенно случайных людей, кустарей, наше, тоже случайное, общество изучения края. Теперь я с радостью встречаю появление в печати двух очень ценных краеведческих работ, сделанных самими этими кустарями, членами временного нашего общества. Я не беру из этих работ для своего описания ни одной черты, ни одного слова, – зачем это? У меня свои глаза: сила журналиста-исследователя главным образом и состоит в том, чтобы именно своими, а не чужими глазами смотреть. Наш союз был только для того, чтобы скорее находить, сильней увлекаться, помогать друг другу в пути, но каждый должен был делать работу по-своему. При устройстве таких кружков это непременно надо принимать во внимание, потому что вначале каждый младший всей душой хочет отдать свой труд авторитетному старшему, а после, когда пробудится индивидуальность в новичках, начинаются недоразумения, и я слышал от краеведов, что на этой почве большинство кружков и распадается.
Спевшись в этом до некоторой степени, однажды, в очень жаркий июньский день, сняв сапоги и привесив за плечи, мы отправились в свое путешествие, присоединяя на пыльной дороге к следам лошадей, коров, баранов, свиней, а также зайцев, лисиц – отпечатки и своих, человеческих ног. Нежно ласкала бархатная пыль наши привычные подошвы из собственной кожи, в тени лесных деревьев сильно жалили комары наши потные лица и руки, на солнце стегали слепни. Только на холмах с возделанными нивами мы отдыхали от укусов насекомых и любовались полетом безобидных стрекоз. Отхлопав таким образом от станции Талдом верст двадцать, мы пришли в деревню Костолыгино, расположенную почти у самого края Дубенских болот, называемых Поймо.
Поймами называются в географии места илистых отложений на берегах рек, а здесь окончание слова на о очень намекает на озеро. Правда, внешний вид этой поймы похож на огромный, бескрайний луг, на котором косят и ходят, иногда даже пасутся животные, хотя под верхним, довольно тонким растительным слоем стоит вода, и довольно глубокая: мы вытаскивали стебли водяных растений от пяти до семи аршин. Нильским плодородием будет обладать этот илистый слой почвы, когда удалят воду и он опустится вниз. И такой драгоценной земли тут двадцать пять тысяч десятин.
Без привычки очень трудно идти по такому озеру-лугу, где перед вами, как в море волна, вырастает громадная зеленая подушка, и кустик на ней, бывший до того времени на земле, вдруг при вашем приближении оказывается высоко на фоне неба. Но вы смело идите на этот кустик – ничего не будет, он непременно опустится, и тогда уж другой, вскочивший наверх, не испугает. Иногда сплетение стеблей водяных растений, удерживающих вас над водой, довольно тонко, а иногда и совсем обрывается – это окна, ближе к реке Дубне переходящие в плесы. Провалиться в окно не очень опасно, если идти босиком – рука мгновенно хватается за край, но если идти в сапогах, то вода зальется за голенище и утонуть, говорят, можно. Впрочем, окна легко заметны глазу по цветущим на них белым кувшинкам или по их желтым остаткам.
Через это заросшее озеро Поймо в далекие от нас времена был канал для лодок, существующий и теперь под названием борозды. Вероятно, не очень легко было вначале прорезать верхний слой болота и так сделать этот канал-борозду. В иных местах, где много древесных зарослей, борозда сильно сужается, и лодку тут невозможно провести на веслах, – тогда все, кроме кормщика, выходят на берег и волокут лодку на веревках по той и другой стороне, при этом впереди идет с веслом в руке щупало и предупреждает тянущих от погружения в окна.
До проведения Савеловской железной дороги борозда была частью пути местных кустарей-башмачников в Москву для сбыта товаров и для сезонных работ в Москве, что называлось походами. Мастеровые люди при этом держали путь на Сергиев посад. Эти давние походы, о которых вы можете расспросить первого встречного кустаря как участника, дают полное представление о передвижениях древних новгородцев: через Дубенские болота, по многим свидетельствам, пролегал их путь. И если бы теперь школьный учитель пожелал наглядно показать своим ученикам, как наши предки славяне тащили свои суда волоком, то наш нынешний дубенский путь бороздой ему должен служить примером этого древнего переволока.
В настоящее время борозда служит для местных хозяйственных целей в сухие годы во время покоса поймы и для охоты. Но за несколько лет до войны покосами поймы не пользовались, потому что ее арендовали для охоты; потом долго были мочливые годы, и борозду не прочищали. А прежде, бывало, соберутся всей деревней с косами и топорами, одни подрубают укоренившиеся по берегам борозды кустарника, другие вытягивают подводные растения, осот, третьи подрезают косами края.
Нам предстояло передвижение до Дубны по заросшей борозде, довольно трудное в июне, когда подводные растения своими напряженно-острыми зелеными концами выходят из воды, и лодка, продвигаясь по ним, даже визжит.
Мы, пятеро, должны были ехать на одном из древнейших судов, хозяин которого, дед Наум, остановился в исчислении своих лет почему-то на цифре 87. Он занимается, по старинке, ныне совершенно невыгодным в этом краю сельским хозяйством и охотой на уток, сыновья же – кустари-башмачники. Не будь за нашей спиной первых лет революции, когда все должны были заниматься сельским хозяйством, быть может, и хозяйство Наума в глазах сыновей было бы только забавой старика, но теперь он иногда с презрением может сказать сыновьям: «Башмаки не едят!» Точно в таком же положении и мы были в отношении к деду Науму; едва ли он знал что-нибудь об электрификации и хоть какое-нибудь имел представление о СССР, но он был единственный, кто мог бы разобраться в протоках Дубны и вполне гарантировать нам безопасность. И его древнейшее судно одно только и могло пройти по борозде.
За материалом для своего судна ездил Наум в Переславльские леса и там выбрал огромную осину. И нужно же было такую махину выдолбить ручным способом посредством тесла. Начерно выдолбленное судно подвешивается, наливается водой, и под ним разводится костер. После того как дерево от горячей воды распарится, между бортами вставляются распорки, отчего судно и делается таким широким и уемистым. Нам обещали Наумову старую растрескавшуюся душегубку, и вместе с точным описанием ее производства она должна быть одним из очень любопытных экспонатов музея.
Борозда начинается небольшим прудиком, на который мы спустили свою душегубку; ближайшая прилегающая сюда пойма называется исады. Как только мы, упираясь веслами в болото, вдвинули душегубку в борозду, из болота поднялась большая птица с длинным, в четверть аршина, кривым клювом. Это был обитатель болот – кроншнеп, такой же остаток древнего мира, как мудрость деда Наума. Трудно себе представить жизнь этой птицы, когда болота будут осушены, – некуда будет ей воткнуть такой длинный кривой клюв.
Борозда вначале так сильно заросла, что продвигаться на веслах не было никакой возможности. Мы сняли сапоги, вышли на качающиеся берега и потянули лодку вместе с кормщиком, дедом Наумом. С той и другой стороны впереди, чтобы не провалиться в окна, шел щупало.
Волнуя живые берега, мы тянули лодку около версты, и все время с криком, открывая длинный кривой клюв, носилась, описывая круги над нашими головами, большая птица, переносившая воображение в далекие от нас времена.
Местность, где мы могли опять сесть в лодку и продвигаться на веслах, называлась Первый разлив. Тут берега борозды были покрыты мелким кустарником ольхи, и с поймы за кустами нас совершенно не было видно. Но мы-то сами отлично видели через кусты все, что там делается. Со всех сторон, привлеченные шумом нашей работы, высунулись из травы журавли и, чтобы рассмотреть нас, старались как можно выше задрать свои маленькие головы на длинных шеях. Один из них перестарался в своем любопытстве: к сожалению, я никак не мог рассмотреть, на что такое он хотел взобраться, – это под тяжестью большой птицы, вероятно, обвалилось или отломилось, журавль свалился в воду и оттуда опять показался совершенно серебряный, ослепительно сверкая на солнце.
Больше всего было, конечно, уток, – здесь можно было бы устроить настоящее хозяйство с дикими утками. Казалось, у этих птиц было два мнения о способах спасения себя при нашем приближении: одни взлетали на воздух, свечой поднимаясь над тростником, другие удирали, шевеля травой или ныряя в воду. Тихо подобравшись к одному плесу, мы видели из куста, как утка ласкала селезня, обирая ему перышки, и, когда он уснул, завернув голову назад в перья, уплыла куда-то, шевеля травкой. Дед Наум знал, куда она уплыла, и рассказал нам про эту утиную семью. Селезень, по его словам, чтобы подольше удовлетворять свою страсть самца, наверно, перебил яйца, и теперь утка, устроив новое гнездо, усыпляет селезня, чтобы он не видел, где она плавает в новое гнездо.
Промышленники выезжают на уток с вечера, повечеру не стреляют, чтобы не портить выстрелами добычливого утра. Раз так вечером выехали два охотника; один сел у плеса Луковник, другой отправился к Разъезду Острова. Ночью сидевший у Луковника услыхал сзади себя всплески и треск. Заложив пулю, охотник присмотрелся, увидел темное пятно зверя и, приняв за лося, выстрелил. В кустах ужасно взревело и стихло. Охотник решил, что убил лося. На рассвете полетели утки, сделал но ним восемнадцать выстрелов, после чего является другой охотник я спрашивает, по чем он вчера стрелял. Услыхав, что по лосю, дальний охотник сказал:
– Нет, брат, не но лосю, лось не ревет черным голосом.
– Лось, – уверенно сказал стрелявший, и оба без ружей пошли посмотреть на убитого зверя.
И только что подошли к тому кусту – вдруг оттуда медведь, поднялся на задние лапы и сгреб стрелявшего в него охотника. Другой бросился к лодке за ружьем. Выстрелить, однако, ему было невозможно: медведь провалился в окно, над исчезнувшим зверем показался плывущий охотник, потом вскоре и зверь, – охотник и медведь были вместе, стрелять нельзя. Медведь вобрал в пасть голову охотника, и послышалось из пасти:
– Пропадаю, стреляй!
«Теперь все равно», – решил другой и прицелился. В этот миг оборвался край борозды, медведь и охотник исчезли в воде, стрелять опять нельзя. После того, быстро плывя бороздой, у лодки показался охотник, схватился за борт; на него было страшно смотреть, из головы текла по лицу кровь, и вся грудь была изорвана.
– Не стреляй, не стреляй! – кричал он в ужасе, видя, что другой охотник целится в медведя.
Из-за этого крика опять не удалось выстрелить, и медведь, увидав двух, выбрался на берег и ушел в кусты.
Рассказав нам случай с медведем, Наум осудил охотников: оба растерялись и струсили, а вот, будь на их месте Андрей, тот бы управился. Ехал раз этот Андрей по борозде, и вдруг медведь поднялся и загородил лапами все: вперед нельзя ехать и назад повернуться никак нельзя, а ружье заряжено утиной дробью. Андрей все-таки ударил утиной дробью медведя прямо в глаза. Ослепленный зверь рухнул в воду, вылез и побежал, – то окунется, то побежит.
– Неловкий, – сказал дед Наум, – ни плавать хорошо не умеет, ни бегать, да еще и слепой. Вот лось, тот молодец: летит по кустам, по корьевнику, и ольха ему нипочем, и ежели попал в окно, – одни уши только торчат, – враз весь на суше, и опять летит.
Мало-помалу в нашем продвижении перед нами сильно стали мешать кусты, – одни из нас работали веслами, другие просто хватались за кусты и подтягивались. Воды и следа не было, она была густо покрыта осотом, и, правда, когда мы сильно налегали, лодка наша визжала. Бывало и так, что кусты с тростниками сплетались над нашей головой, и мы продвигались по зеленому туннелю. Ослепительно сверкали на солнце разные, как шпаги острые, напряженные, водяные растения. Мы усердно искали между ними единственно только здесь, в Дубенских болотах, живущую водоросль claudophora – большой, в детскую голову, плавающий шар изумительной красоты, когда он в воде. Но стоит только его вытащить на воздух, как сжимается и делается маленьким мячиком. Здесь эти водоросли называются просто шарами, и дети ими играют, как мячиками.
Перегретые жарким солнцем болотные испарения при усиленной нашей работе давали ощущение ужасающе изнуряющей жары. С кустов, с тростников сыпались к нам в лодку всевозможные насекомые, разные цветные гусеницы, голые и мохнатые, червячки, бабочки. В брачном полете носились стрекозы, голубые самки, зеленые самцы, были и темно-синие, как итальянское небо. Сквозь льющийся по моим глазам пот я видел, как у моего товарища, начиная со лба, в его поту плыла гусеница, как она задержалась на усах, как губы шевельнулись, и гусеница исчезла во рту… Бесчисленный мир насекомых волновал даже воду на плесах: не шевелился ни один листик при полном безветрии, а вода рябилась и волновалась. При свете солнца на нас нападали всей силой слепни; невозможно было, работая, обороняться от них: там и тут слышались ругательства укушенных. В тени кустов встречала туча комаров, но всех несносней были влипчивые, неотгонимые потыкушки, И все это гудело, жужжало, мелькая между зелеными саблями растений. Сила жизни в накаленном дне была так велика, гуд насекомых так силен, что казалось – мы находимся среди великой фабрики, на которой бесчисленные силы рабочих ковали земную кору.
И так почти оно и было: так веками создавался перегной земли.
Мы думали, что когда достигнем берегов Дубны, покрытых настоящими деревьями, то выйдем на берег и отдохнем от насекомых в дыму костра. Но когда один из нас вышел на этот твердый будто бы берег, то провалился почти до шеи, так что нам пришлось его вытаскивать. И старый Наум, глядя на берег, сказал:
– Прель!
На этой прели и росли деревья, создавая обманчивый берег. Бесчисленные островки разделялись бесчисленными протоками. Плавучие острова называются плавинами, а протоки – просями. Немногие могут разобраться в протоках, и заблудиться тут очень легко. Страшно представить себе судьбу человека, если он уснул где-нибудь на берегу, а плавина, гонимая ветром, оторвала и унесла челнок. Легче переплыть море в долбленке, чем выбраться из этих жидких берегов.
– Однажды в сухой год, – рассказывал нам дед Наум, – косили Поймо, наставили много стогов. И вдруг вся эта пойма, сухая сверху, от берега с деревнями до берегов Дубны, верст на семь, вспыхнула огнем, и пожар пошел вдоль. Сход нарядил Василия Бедного скоро бежать в село и звонить. Вмиг собрались из разных деревень больше тысячи человек и бросились тушить. Но пожар скоро летел, и как остановить его на воде – никому не приходило в голову. У Василия же Бедного был один только стог, и когда он, прибежав из села, увидел, что огонь подбирается к его стогу, схватил с него метелку, бросился на огонь и забил его в воду. За ним все бросились и застегали.
Мои записки на Пойме ограничились немногими словами, которые были, как названия полученных мной впечатлений. В деревне я стал во всем разбираться, и вот точно так же, как Поймо, мне сразу показалось самым интересным и характерным местом природы этого края приволжских болот, так и среди полученных мной впечатлений центральным было – девственность болотного ландшафта и что это все находилось так близко от Москвы и в то же время так далеко от цивилизации, будто побывал на каком-нибудь отдаленнейшем островке Тихого океана. Расположив свои частичные наблюдения вокруг этого центрального ощущения, я написал очерк и, прежде чем отправить его в редакцию, вышел на улицу и прочитал рукопись кустарям. Впечатление было такое же, как если бы они в первый раз увидели свою фотографию. Через несколько дней является ко мне представитель союза башмачников Логгин Яковлевич Страхов и просит меня описать жизнь человека этого края, башмачника, и сообщает мне, что он, как и многие кустари этого края, в детстве был продан в Петербург.
Я изумился и попросил его рассказать мне все о себе, сам же приготовился слушать с большим вниманием, волнуясь, как перед началом очень трудного дела. Оно и правда – очень трудно выслушивать чужую жизнь, чтобы она проходила так близко около тебя, как будто была своя собственная. Для этого вовсе не обязательно любить человека, а надо только обладать тем чувством общественности, которое так часто прорывается у русского человека в вагонных беседах и непременно должно быть в таких странах устного предания, какой была до сих пор Россия. С ходом цивилизации это чувство у простых людей ослабляется, разговор заменяется чтением, но журналист, по-моему, должен сохранить его в себе, как сохраняют художник и поэт чувство природы.
Обывателю его беседы даются даром, но ведь журналисту нужно в конце концов что-то сделать из этого материала; естественное внимание разбивается постоянным отбором материала, сочувствие человеку обрывается скукой, если он, как это бывает всегда, вдается в рассказе в ненужные подробности, или, наоборот, вдруг влечет какой-нибудь неожиданный оборот речи, явится страх, как бы не забыть его, и очень мешает вниманию. И самое ужасное, что в те минуты, когда или от скуки, или от наплыва мыслей, посторонних разговору, исчезает из сознания собеседник, – лицо журналиста должно оставаться обманчиво-внимательным и сочувствующим. Невозможно, совершенно немыслимо все это проделать, если не обладать чувством родственного внимания к другому человеку, не иметь в душе своей смутную надежду, что испытанием другой души раскроется и своя собственная, что человеческие отдельности в конце концов только разные переживания единого в себе лица.
Впрочем, охота за живым словом, которого нет ни в каких словарях, – словом, выросшим из жизни человека, как цвет из темной земли, – эта охота журналиста увлекает вперед через скуку и для другого может быть совершенно достаточна. Как бы там ни было, но, выслушав тысячи жизней людей всевозможных положений, я все равно, как раньше, волнуюсь, приступая к жизни простого башмачника.
– Ну, расскажите, как вас продали, – сказал я своему собеседнику.
Торговцы живым товаром были ярославские или олонецкие, из тех, кто служил в шестерках, то есть получал по шесть рублей в месяц в трактирах, кабаках, публичных домах. Верно, их было перепроизводство, и потому они стали заниматься доставкой деревенских детей в Петербург.
Шестерочник является к деревенским беднякам, которые ищут, куда бы ссунуть с хлеба девятилетнего мальчишку или девчонку. Всякие турусы на колесах разводит шестерочник, обещает выучить мальчика какому угодно ремеслу. Родители отдают с радостью. А шестерочник спрашивает:
– Нет ли тут еще у кого?
– Мало ли их… – отвечают и указывают других бедняков.
Так собирается человек десять мальчиков и девочек. По соглашению с кондуктором, живой груз направляется зайцами в Петербург. Там, в Апраксиной переулке, были большие пятиэтажные дома, населенные исключительно кустарями: сапожниками, слесарями, фуражечликами. Схватив рублей по десять с головы, шестерочник спуливает иногда человек десять в одну только квартиру и получает новый заказ. Покупатель живого товара беспокоится, спрашивает:
– Ты вот мне его ставишь, может у него тут есть родные?
– Не беспокойтесь, – отвечает шестерочник.
Ремесленники живут в одной квартире человек по шестьдесят. Окно – главное условие производства, и потому у каждого окна помещается по два хозяина. Впереди сидит сам хозяин со своим подручным и мальчиком, дальше, в глубине комнаты, работает за столом на швейной машине жена хозяина, заготовщица. Еще дальше к стене кровать, люлька и девочка-нянька с детьми. И таких семейных углов по два на каждое окно. Кроме хозяев, все остальные спят на полу.
На всех жильцов квартиры готовит артельная кухарка, которая называется матка.
– Теперь и в жар и в холод бросает со стыда, – сказал кустарь, – как вспомнишь маткино дело.
Шестьдесят человек не могут поместиться за одним столом, сидит только первый ряд, а сзади стоят с ложками в два ряда. Заднему приходится нести свою ложку через головы двух передних рядов. Трескотня, сутолока, насмешки и беспрерывное маткино слово бывают в тот момент, когда застольный хозяин перекрестится, стукнет своей ложкой по краю чаши, что бывает сигналом брать со всем, с мясом: тут одному попадает два куска, другой напрасно невод завел.
Рабочий день мальчика начинается в тот час, когда открывают трактиры, – летом часов в пять, и кончается к двенадцати ночи. Ходит он всегда сонный и бывает – исчезает куда-то. Хватятся, а он спит в отхожем месте или в куче мусора, который заставили его вымести из квартиры. Конечно, ему тут же на месте бывает хвощение. При тесноте и постоянном раздражении вообще нужно считать в среднем, что мальчику не миновать хвощения раза три в день. В субботу на воскресенье работают больше, до часу ночи, после чего мальчик чистит хозяину сапоги и получив за это две копейки на гулянье, кланяется в ноги хозяину и говорит: «Спасибо, дяденька». В воскресенье мальчик несет на рынок отделанную обувь и возвращается вечером, так что праздник отличается только тем. что ложатся не в час ночи, а в десять. Точно такая же жизнь и у девочек, с тою только разницей, что им приходится больше нянчить хозяйских детей, чем быть на побегушках.
В долгие вечера вся молодежь поснула бы и не посмотрела бы ни на какое хвощение, но дело спасают кудесники, – рассказывают непрерывно сказки и разные анекдоты. Рассказы перемежаются с пением; любимая была: «Ваня, разудала голова». А бывает, кто-нибудь затянет:
Не по морюшку лебедушка плывет,
Выше берега головушку несет.
Не ко мне ль то родна матушка идет?
Ты поди, поди, государыня моя,
Навести при большом горе меня,
Как я маюсь, во чужих людях живу,
Я чужому отцу-матери служу.
Не по плису, не по бархату хожу,
А хожу, хожу по лютому ножу.
Когда запоют эту песню, во всех углах начинается плач мальчиков и девочек, вспоминающих свою мать.
Часто от горя дети кончали самоубийством. На памяти рассказчика погибло четверо, – один мальчик бросился в решетку лестницы, один – в окно, два удавились.
Настоящий праздник бывает только раз в году и называется засидки, или же омовение ламп. Это бывает в Успенье, когда начинаются осенние вечера. До этого дня работали от первого света до темна, теперь начинается работа при лампах, и так как свет – главное условие работы, то лампы непременно надо омыть. В этот большой день у кустаря бывает также и продажа глаз, – хозяин уславливается со своими помощниками, до какого часу они будут работать при лампах. Засидки начинаются обложением всех работающих в квартире некоторой суммой, на которую покупается водка, пиво, красное вино, дешевые закуски, селедки, огурцы, яблоки. Когда стол готов, хозяин квартиры уговаривается, до какого часу сидеть, и после обыкновенных споров устанавливают, например, сидеть до двенадцати в будни и до девяти в праздник. Тогда хозяин наливает себе полный стакан водки, выпивает и говорит: «Ну, вы продаете свои глаза!» – и выливает оставшиеся капли себе на голову. После этого все пьют поровну, и даже девятилетние продавцы глаз, мальчики и девочки. Пьянея, все начинают сначала рассказывать свою жизнь, потом кричать, драться; всех рвет дешевыми закусками, яблоками, огурцами, крыжовником. Что делается в одной квартире, то и в другой, и у сапожников, и у башмачников, слесарей, фуражечников, – у всех в доме и в целом ряду домов, огромных, пятиэтажных, по Апраксину, пропивают глаза. А что во дворах-то делается: пляска, плач, драка, кого тащат в больницу, кого отливают. Наступает утро, все дворы, все лестницы огажены; там голая девчонка спит, уткнувшись в мусор на лестнице; там мальчишка. В это утро по Апраксину дома далеко смердят.
На другой день мастера погуливают на Волковом поле, и после того начинаются долгие рабочие вечера.
Чтобы представить себе дальнейшую судьбу мальчика, надо знать немного технику башмачно-сапожного ремесла. Нормальная работа бывает вчетвером: хозяин-мастер, жена, его заготовщица, подмастерье (подручный), мальчик. Искусство мастера сводится к тому, чтобы владеть ножом, как хирург! Малейшее нарушение равновесия – и он может срезать лицо товара, – рука должна чувствовать острие ножа. Мастер должен еще уметь затянуть, чтобы правильны были шевки, заботиться о фасоне подошвы и каблука. Подмастерье дополняет затяжки, доканчивает работу, иногда заменяет мастера. Никогда мальчик не может заменить мастера уже просто по недостатку физической силы. Раньше семнадцати – восемнадцати лет ему не справиться с затяжкой. Ножом мальчику тоже не дают резать. Его дело вшивать стельку, красиво и скоро подбивать гвоздями. Поработав года четыре-пять, мальчик делается подручным. Через несколько лет работы подмастерьем, годам к двадцати, приходит наконец роковое время в жизни каждого ремесленника. Чтобы сделаться самостоятельным мастером-хозяином, непременно нужно жениться: без заготовщицы нельзя начинать дело. Невеста всегда тут, под рукой, потому что девочки всегда тут же проходят свою школу. Выбирается, конечно, не по любви (мало ли что нравится, да хозяину должна тридцать рублей). Окончательный момент вылета из гнезда нового хозяина – последние месяцы беременности жены, необходимо иметь свой угол для кровати и для люльки. Новый мастер является, например, к Иванову, на которого работал его хозяин, и предлагает ему свой товар, хвалится, что работал, например, у Карпова. Иванов отлично знает положение нового мастера, пользуется, жмет.
– Твой-то хозяин, – говорит, – хороший, а ты чего принес.
После долгого спора новый мастер видит, что деваться ему некуда (жена вот-вот родит), и говорит:
– Ну, ладно, выручай.
И отдает за дешевку («даром прошил») в надежде, что Иванов сдержит слово и в другой раз заплатит как следует, по цене его старого хозяина. Между тем, уступив дешевле, он сбил цену и своему старому хозяину. Иванов тому говорит:
– Да вот от тебя мастер ушел, он не хуже тебя работает, а дешевле.
Между тем у нового мастера жена родила, и он спешит к Иванову.
– Я хоть и обещал тебе, – отвечает Иванов, – да теперь цена стала другая: твой старый хозяин мне поставляет вот за сколько.
Так выходит, что новый мастер и второй раз даром прошил. В понедельник у кустарных домов, как воронье, дежурят особые маклаки, – они дожидаются, когда мастера начнут выносить одежду, рубашки. После катастрофы остается еще один путь – «художество», то есть изготовление обуви с фальшивыми подошвами, задниками – на неизвестного покупателя на рынке. Это называется – бегать по воле, или разувать публику.
Такая жизнь продолжалась до 1905 года, а кажется, будто это было очень давно.
– Почему так кажется? – спросил я собеседника.
– Потому что, – сказал он, – совершается переселение душ.
И пояснил свои загадочные слова, рассказав, как ему удалось устроить свою дочку в гимназию.
– Прихожу ее проведать, смотрю – кроватка у нее отдельная, чистенькая, и на столе булочка лежит. Вот тут я и вспомнил свое время и подумал: воистину переселение душ.
– Переселение с булочкой?
– Ну конечно, ребячью душку и подкормить надо, – поест и повеселеет.
«Мой юный друг… мы живем в эпоху пневматической почты и телеграфа. Где только можете, сокращайте фразу. А сократить ее можно всегда. Самая красивая фраза? Самая короткая». Анатоль Франс.
В таком сокращении весь секрет мастерства, которому научиться можно каждому, мало-мальски способному, и гораздо легче, чем терпению выслушивать чужую жизнь и в то же время, не обижая, не отпугивая собеседника, направлять рассказ его в сторону своих вопросов.
Страстью к сокращению фраз легко можно заразить, и что бы это было, если бы все молодые журналисты стали над этим работать. Тогда бы можно было силу слова довести до очевидности физической силы. Но ужасным препятствием этому служит оплата работы построчно. Одно совершенно исключает другое, как будто, работая пальцами, нужно их подрезать.
В этом подрезании пальцев и состоит жизненная школа мастера литературного дела.
Но, мой юный друг, так бывает не только у журналистов, желающих сделаться исследователями жизни. Я очень подозреваю, что и мастерство наших башмачников, по существу, такое же, как и литераторов. Это подозрение единства жизни увлекает исследователя и облегчает испытание. На людях и смерть красна.
В двух верстах от меня проживает в огромном каменном доме старик, сам когда-то бывший учеником-башмачником, потом подмастерьем и мастером. В зрелом возрасте жизнь его стала узкой – быть жертвой и отдаться хищнику в клюв или самому стать хищником. Он выбрал последнее я дисциплинировал свою волю железной аскезой: даже волосы у него подстригает жена, и белье свое он стирает сам, когда моется в бане. Он увеличивает свою мастерскую, подбирая возле казенок бродячих мастеров. Никаких технических улучшений ему невозможно вводить, даже простого разделения труда, потому что сегодня мастер здесь, а завтра ушел. И он выжимает свое, работая часто просто кулаком (не отсюда ли и пошло слово «кулак»?). Его «фабрика» из года в год все расширяется, в ней уже работает сто – сто пятьдесят рабочих, и все по-прежнему без разделения труда, погонной работой на выработку недельного числа башмаков на мастера, подмастерье и мальчика. Так я называется все это производство словом погонщина.
На такой фабрике под глазом и кулаком хозяина и не могла зародиться мысль о какой-нибудь организации. Столкновения с хозяином были больше из-за харчей.
Ой, полна, полна коробушка,
Только слушай да молчи,
Как у нашего хозяина
Есть хорошие харчи
Каша пшенная немытая,
Масло с дегтем пополам,
Вместо чаю горсть цикорию
Засылают в чайник нам.
Мы весь день не разгибаемся
По семнадцати часов,
Спать ложимся мы на мусоре
Возле грязных верстаков.
В 190* году из башмачной мастерской Б-ва в Талдоме вышли на улицу мастера и, привязав к длинной дратвинке гнилого снетка, поволокли его с Горы на базарную площадь. Одни мастера делали вид, будто с трудом что-то тащат, другие изо всех сил бьют по тащимому предмету. Со всех сторон стали собираться любопытные и, ничего не понимая, массами присоединяться к процессии. Разглядеть тащимого снетка было тем более трудно, что снег уже сбежал и на земле совсем незаметна была темная дратвинка. Конечно, интерес от этого только усиливался, и когда мастера доволокли снетка до базара, то вся площадь, с церковью и ратушей на одной стороне и богатыми купеческими домами – на другой, была наполнена любопытными. И вот когда внимание все было достаточно сосредоточено, мастера подняли снетка над толпой, объявили его, показали и предали новому истязанию, приговаривая: «Не ходи, не ходи же больше к нам в щи».
Тот хозяин, с которого я начал свой рассказ о погонщине, когда разбогател, выстроил себе новый дом с ореховой дверью и с электрическим звонком. Раньше он ел вместе с рабочими – теперь только для виду посидит с ними: рабочим в суп дает он мясные пленки, а сам потихоньку ест наверху у себя мясо. Вот рабочие однажды вынули из котла все пленки и обили ими всю ореховую дверь с электрическим звонком.
Однажды хозяйский кот пожелал пообедать вместе с мастерами. Мастер-великан, по прозвищу Халуй, взял кота и швырнул в кипящий котел. Подходит грозный хозяин:
– Ты что это сделал?
– Вот что, – ответил Халуй и вылил на хозяина из котла все щи – вместе с вареным котом.
Бывало, заслышат в мастерской с улицы песню:
Заводы, мои заводы кирпичные!
Это значит – пьяный Халуй идет покупать жене баранки. С этого непременно и начинается. Отвалив же но полный фартук баранок, Халуй отправляется на свой великий запой. Всюду известен Халуй, – его и в Москве знают и в Марьиной роще, но там его больше звали Степаном Разиным. И за Спасской заставой, и у Симонова монастыря, и у Рогожского, и в Дорогомилове, везде, где только живут башмачники, известен Халуй, косая сажень в плечах, Степан Разин.
Бывало, заунывно тянут мастера:
Измученный, истерзанный
Работой трудовой,
Идет, как тень загробная,
Наш брат, мастеровой.
Вдруг с улицы близко:
Эх, вы, горы, горы Воробьевские!
Мастерам становится весело, кричат:
– Хозяин, Халуй идет!
У того и душа в пятки.
Является в дверях:
– Хозяин, давай на бутылку.
Молчит хозяин.
– А не дашь… – Моргнет мастерам и: – Не дашь… сяду.
И запоет:
Церковь золотом облита.
Перед голодною толпой
Проповедует народу
Поп в одежде парчевой.
Но это очень длинная песня о том, как черт уносит попа в сапожную мастерскую. Хозяин дает на бутылку – только отвяжись.
Так, пока не пройдет полоса, обходит Халуй хозяев и собирает свою дань. Он чуть-чуть не дожил до большой революции; между пятым и семнадцатым годами окончательно его заела тоска. Пришел он однажды к своему хозяину и стал жаловаться на свою эту тоску. И вдруг схватил нож и раз! – в себя.
– Что ты со мной сделал, – сказал ему друг, – из-за тебя мне теперь пропадать.
– Не пропадешь, – ответил Халуй.
Встал, вышел на улицу и на перекрестке грохнулся мертвым.
Песни каждого башмачника, которые он, сидя на липке и помогая работе, распевает часто с утра и до вечера, резкой чертой разделяются на городские и деревенские, потому что все башмачники часть времени проводили в Москве и часть в деревне как сельские хозяева. Эти кочевья кустарей назывались походами, – вероятно, потому, что до проведения железной дороги совершались пешком. Было три похода: зимний – от после Рождества до начала весенних работ в деревне; летний – до Петрова дня; осенний – от конца уборки хлеба до Рождества. Мастера-башмачники, работавшие в Москве походами, селились – как и ремесленники средних веков – на определенных улицах, определенных районах: в Марьиной роще, за Спасской заставой, у Рогожского, у Симонова монастыря. Московские сезонные походы чередовались с деревенскими работами, и так складывался быт сезонно мерный, – как у перелетных птиц.
Сразу обращаешь внимание на резкую разницу песен городских, большей частью революционных, и деревенских – старинных обрядовых, и удивляешься, как это не смешивается, не вытесняет одно другое, и, кажется, даже наоборот: кустарная мастерская лучше сохраняет древнюю песню, чем изба настоящего крестьянина, имеющего дело только с лесом и полем.
Объяснение этого странного явления мне пришло в голову однажды вечером в большой деревенский праздник. Вся молодежь тогда ушла в село, а в деревне остались только пожилые мужчины и женщины. Отставшие давно от обрядовой песни женщины сидели на завалинках и судачили о своем житье-бытье. Мастера же мало-помалу веселели, наливаясь самодельным пивом, приправленным самогонкой и для особенной крепости и вкуса – табаком. Когда брага, самогонка и табак окончательно взяли власть над башмачным песенным сердцем, мастера выбрались на улицу, составили хоровод и до глубокой ночи пели старинные обрядовые песни.
Ни одна женщина, однако, не тронулась к хороводу с завалинок. Женская душа окончательно порвала с древним обрядом, а просто так петь было совестно и ни к чему. Так, наверно, деревня, утрачивая древний обряд, забывает и древнюю песню, а кустарная мастерская сохраняет ту же самую песню обрядовую как песню производственную: она помогает им при работе.
Слышал я, будто портные поют больше башмачников, но сильно в этом сомневаюсь: больше башмачников петь невозможно. Среди них, наверно, есть много и поэтов. Я знаю одного в деревне Терехово, гусарочника Ивана Романова, – он сочинил, по-моему, недурную производственную песню:
Башмачник
Грязный, мусорный верстак
Прилепился у оконца.
Я на липке шью башмак,
За окном играет солнце.
За окном весенний запах
Так и дразнит, так и манит,
Мнет хозяин кожу в лапах.
Осердясь, зубами тянет,
В пальцах шило, словно вьюн,
Руки врозь и снова вместе.
Вот вымешиваю клейстер,
К верстаку тащу чугун.
Затягиваю, подшиваю,
Выворачиваю!
На колодку надеваю,
Околачиваю!
А урезы обрезаю,
На стали ножом играю.
Не подрежу, не изгажу,
Как стекло урез наглажу,
В этой песне все производство башмачника-выворотника, и что он тянет зубами кожу – совершенно совпадает с рассказом Санчо Пансы Дон Кихоту об испанских башмачниках, которые и в то время, в XVI веке, тянули кожу зубами. И сейчас, когда в нашей деревне уже электричество, мне стоит только отдернуть занавеску окна, присмотреться к работе соседа-башмачника, и очень скоро я увижу, как при электричестве он тянет кожу зубами.
Так смотришь на производство и переносишься в далекие от нас века ремесленной Европы. Занятый своим исследованием, я не очень боюсь потеряться в этом прошлом человечества и отстать от времени, потому что никуда не уйдешь от электрической лампочки и ремесло в обстановке новой экономической политики при Госторге и кооперации – нечто совершенно другое, чем рыцарские времена, и та, для которой тысячи мастеров этого края делают башмачки, – иногда с изумительным изяществом, – совсем не похожа на несравненную, прекрасную даму Дульсинею Тобосскую.
Каждую ночь огонек рабочей лампы моего соседа через прогон тускло освещает мою деревенскую хижину. Он работает башмаки пару за парой, иногда по три дня подряд, засыпая на короткое время тут же у верстака, подложив под голову пиджак. Наработав их целую корзину, он несет их куда-то сдавать. Глаза его – как снятое молоко, ветер как будто его пошатывает, или походка такая оттого, что грудь колесом? Только нос браво торчит, но ведь и у покойника нос тоже торчит. Душа этого мастера, как корзина с башмаками, плотно занята мечтой выстроить себе новый дом. Бревна уже положены перед его завалюшкой, и над ними предохраняющий от дождя навес. Если и успеет мастер выстроить дом, в нем ему долго не жить…
Не все такие, конечно, – многие из кустарей были удачливые, достигали высокого положения хозяев больших мастерских в столицах. Другие еще больше достигали как торговцы кожей и обувью. Но всех их – богатых и бедных, удачливых и несчастных – роднит одна мечта: выстроить себе в деревне прекрасный дом. Строили из столиц за глаза, и некоторые, если бы не революция, так никогда бы и не повидали выстроенного ими в деревне прекрасного дома…
Так создавалась на Руси деревня промышленного типа, совсем не похожая на соломенную земледельческую. Тот крестьянин, побывав в такой деревне, повидав двухэтажные дома, иногда с ореховой дверью и электрическим звонком и с лозинками, подстриженными под кипарисы, – сказал бы, что тут господа живут, а не крестьяне.
Но все эти дома одно время были похожи на призраки Они стояли почти совершенно пустые, разве только какая-нибудь богомолка спасется, – старая дева или больная. Революция всех кустарей выгнала из столицы, – мастерские рассыпались, и хозяева и рабочие все стали кустарями-одиночками и земледельцами.
Мечта осуществилась: кустари вернулись к земле.
Мой сосед справа – мастер очень порядочный, на него можно надеяться, – и потому у него верный сбыт обуви с рук на руки человеку новой экономической политики, обеспечивающему кустаря материалом. У других неровно и с перебоем совершается сбыт в еще не окрепшие промысловые кооперативы, но огромная масса кустарей по четвергам и воскресеньям несет свою обувь на огромный талдомский базар. И если в минуту бездумья летом, сидя на лавочке какого-нибудь московского бульвара, вы заметите совбарышню в башмачках, но с покривленными французскими каблуками, то это значит – совбарышня купила эти башмаки на Сухаревке у торговца, который ездит по базарным дням закупать свой товар в Талдом. Не кустарь виноват в этих кривых башмаках, расползающихся при первом дожде бумажных подошвах: Сухаревка ставит ему спрос именно на такие изящные и дешевые башмаки. В этом отношении среди башмачников есть удивительные мастера, и первый такой художник – мой сосед с левой стороны, прозванный Шмелем. У этого мастера и дома своего нет, он живет на квартире в такой завалюшке, что в дождливый день забирается вместе со своей женой в печку, куда дождик не проникает. И в печке и на воле он вечно жужжит на свою жену-заготовщицу, за что и прозван Шмелем. Под базар Шмель с женой всю ночь работают и все больше клеем. Ругаясь друг с другом, Шмели выходят из дому на базар – он впереди и она довольно далеко назади. Возвращаются супруги, сильно выпивши, вместе и весело распевают свои башмачные песенки.
Раз я, по неопытности, дал Шмелю рубль до четверга. Не отдал в четверг, и в воскресенье, и в другой четверг, да так и пошло. Он очень боится встретиться со мной на дороге. И тоже постоянный страх у него, когда я прохожу мимо окна: ему надо быть настороже, чтобы не встретиться со мною глазами. И что ему рубль, – он в один базар их пять пропивает. Так и живет в деревне Шмель со всеми, как и со мной, и считается художником, напоминая мне собой одного приятеля из литературной богемы.
В наше время, когда все складывается по-новому, не угнаться за жизнью самому подвижному исследователю: весной я набросал картинку базара, куда Шмель носит продавать свою художественную обувь, – тогда было много купцов, а осенью уравнительный налог их сильно подорвал на местах, к новой весне они, быть может, не явятся на базар, и картина будет другая. Так с оговорками, с датами только и можно писать.
Весной к началу сезона в 1924 году базар был очень оживленный. Люди стоят в два ряда аллей с отчищенными, сверкающими на солнце башмаками в руках, и только-только пройти. Идет заезжий гость из Астрахани в шапке с бобровым верхом, во всем новеньком, и все к нему протягивают костлявые руки, как сучья, с висящими на них башмаками. И какие лица у них при этом, – будто не коммивояжер из Астрахани, а «се жених грядет в полунощи».
Одна бледная женщина протянула было свою пару, а он и не посмотрел, будто это была спящая дева с погашенным светильником; другая отдернула руку – верно, догадалась по ястребиным глазам, что такие непременно разглядят под кожей бумагу. Ему нечего показывать, он сам видит свое. Вот вдруг кинулся, быстро поставил карандашом свой знак на подошве и велел принести к себе на квартиру. За женихом астраханским идут женихи мариупольские, крымские, кавказские, даже сибирские.
– Концов нет, – послышался из их среды голос, определяющий все качество базарного товара.
Я зашел в одну знакомую комиссионную лавку узнать, что значит эта коротенькая и значительная фраза: концов нет.
Это значит, оказалось, что на базаре есть порядочная середина, а на одном конце нет очень изящного башмака, на другом – простого прочного бабушкина, какие носят пожилые и рабочие женщины. Хорошие концы – объяснили мне – были в прежнее время, когда не базар судил о качестве башмака, а заказчик-купец. Тогда специализация была строгая, и тот, кто делал гвоздевую обувь, не рискнул бы заняться рантовой или же легкой, выворотной; изготовляющий детские гусарики не взялся бы за бабушкины. Теперь же все равно, что ни делать, только бы брали, и замечательный выворотник стал гвоздевиком, гвоздевик – рантовиком. Не в своей специальности можно сделать только средину, и вот почему говорят: концов нет. Получив эти сведения, я иду опять на базар, подхожу к тому жениху в бобрах и говорю сокрушенно:
– Концов нет!
– Да, – ответил он очень приветливо, – весь товар на совбарышню.
Слова жениха меня поразили. Наверно, у экономистов это не новая мысль, что женщина в огромной степени дает тон художественной промышленности. Журналисту известна литературная формула критиков cherchez la femme[10], но переход из одной плоскости в другую с этой оживляющей мыслью дает необыкновенный толчок воображению. Каралось до сих пор невозможным, с гибелью трубадуров и прекрасных дам, сделать вновь интересным этот русский ремесленный быт, как будто именно за свою серость и называемый кустарным, – и вдруг найдена Дульсинея: кустарь работает на совбарышню.
У меня не хватало технических знаний для продолжения разговора с женихом от кустарной промышленности, пришлось сознаться в своей профессии журналиста и тут же выразить свое изумление перед идеей разделить всю промышленность на два отдела: для нее и для него.
– Например, – сказал я, – соседний Кимрский район сапожников: какая там бедность типа обуви, какой неуклюжий человек сапожник…
– Рыжий, – подсказал жених.
– Правда, – говорю, – много рыжих почему-то, с окладистыми бородами, в староозерских кафтанах, нелюдимые.
– Ост-Индия, – почему-то определил жених Кимрский край.
– Несколько минут езды, – продолжаю, – из этой Ост-Индии, как вы называете, – и совершенная ему противоположность: башмачник легкий, подвижной человек, – чем не француз?
– Двести цветов нежнейшего шавро, – ответил жених, – существуют только для нее, а вы сами знаете, какое однообразие в нашем черном или рыжем сапоге. Потому же ведь и называется прекрасный пол. Намедни в Москве, на Кузнецком, я купил такую диковину: дамские голубые гетры.
– Голубые!
– Не то удивительно, – улыбнулся жених, – что голубые, – я сказал, шавро существует на двести цветов, а что эти гетры были выворотные и чисто бальной легкости. Да, но я уважаю и рабочий бабушкин башмак, а это что… На кого эта работа – вы видите сами: чистенькая, можно в этой обуви блеснуть три дня, а потом все пойдет вкось; рыхлый башмак, ни на высшую даму, ни на жену, ни на бабушку, ни на работницу – вся затея на совбарышню.
– Середина!
– Ну да, а концов нет и быть не может. Сухаревка мастеров развратила.
После базара я зашел в моссельпромную пивную «Лира» поработать в живой беседе над своими базарными впечатлениями. Тут за одним столом сидела буржуазная компания во главе с женихом, и недалеко заседал со своей женой и приверженцами башмачник Шмель. Я пристроился сначала к столику буржуазному. Тут из разговоров в короткие минуты можно было понять, в каком конце громадной страны тихо или бойко протекала экономическая жизнь. Я узнал, что очень оживленно теперь в Средней Азии, то же бывало раньше и в Астрахани, потому что она связана с Кавказом, а теперь там тихо. В Саратове тоже мертво. Ничего не идет в Вологду. В Сибири очень хорошо, на юг пошла легкая обувь…
И еще я узнал, что вояжеры и приказчики тоже художники, и, во всяком случае, больше художники, чем мастера.
– Мастера, – сказал жених, – должны подходить к товару, а вояжер и приказчик умеют подходить к человеку – это много труднее. Вояжер начинает с самых низших служащих и от них все выведывает, потом берется за средних. С теми шуры-муры, с этими сам играет в ресторане, намазывает и пускает все. Человек должен быть легкого нрава и на все способный, а как трезвенник поедет – богобоязненный или экономист…
– Экономист?!
– Обыкновенно, как интеллигент, с идеей, с политикой, – бывают и такие, – ну, это самый противный, на него и не смотрят. А приказчик должен быть человек занозистый и весь как уксусная эссенция, не лизнешь языком. Он сразу видит, ежели она в магазин пустая пришла, – он с такой и разговаривать не станет. Если же дело видит, сейчас же попросит ее показать ногу. Память должна быть у него не липовая, – как взглянул на ногу, сразу должен понять, откуда башмак, какая мастерская, кто делал. Если заколебался, попросит снять. Когда снимет, ногу похвалит, и она сама не своя. Видит, нет такого башмака, нет в магазине, – скажет, башмак ей не к лицу или не подходит к фасону платья. Он каждую уговорит и уверен в себе: если захочет, все может продать. Даже если на номер тесно бывает, он так наденет, такое наговорит, что ей хорошо покажется. А придет домой – никуда не годится. Нет, куда тут мастеру, – тот только и умеет по коже, настоящий же художник должен подходить к человеку.
После этих слов жениха Шмель, уже довольно выпивший пива, не выдержал унижения художника и на всю пивную объявил купцам:
– Барахло!
За буржуазным столом не обиделись и засмеялись. Тогда Шмель начал свое представление.
Если художники от купцов такие знатоки, то пусть отгадают:
– Сошью башмаки, – сказал Шмель, – подбивать не стану и подшивать не стану, стежки не дам и гвоздя не вобью, а носиться будут три недели и не развалятся – как это можно?
Никто не мог догадаться, и торжествующий Шмель заявил:
– Понятие в этом может иметь только тот, кто изучил анатомию женской ноги при императорском дворе.
Да, он, Шмель, постиг анатомию в совершенстве: нога бывает полная и тощая, прямая, крупная, мелкая, мозолистая, чистая и совсем никуда не годная – чухмак. Но это многие знают, анатомия не в этом, анатомия, чтобы снять мерку и к ноге не прикоснуться.
– Она ведь мерку-то снять с себя не дает.
– Кто она? – спросили мы.
– Фрейлина или царская дочь.
– Знаю, – сказал один молодой башмачник, – нужно обмерить след на снегу или на песке.
– Сказки, – засмеялся Шмель.
И, выскочив из-за стола, представил, как она входит, останавливается, выдвигает из-под юбки свою маленькую ножку… Быстро схватив чей-то стакан с пивом, Шмель поставил его на пол для обозначения места, где стала недоступная для обмера нога, и рядом поставил свою медвежью ногу и притом в валенке.
– Понимаете?
– Объясни.
– То-то вот, объясни: коснуться не имею права.
– И что же дальше?
– Ставлю рядом свою ногу, мысленно перевожу на сантиметры и записываю.
– Как же так мысленно?
– Посредством анатомии, мысленно касаюсь…
Я сказал:
– Это скорее скульптура.
– Вот именно, сплошное художество. А нынешние говорят: мы тоже художники. Ну, какая нынче нога?
– Что же, революция разве и на ноге отразилась?
– Вот именно: женская нога расползлась. Я подумал, что после революции исчезли фрейлины, а нога трудящихся женщин больше.
– Лет двадцать до войны нога заметно стала мельчать и перед революцией была вроде китайской, специальная женская нога. И вдруг все оборвалось.
– Исчезла фрейлина?
– Куда она исчезла, – тут она, а нога исчезла. Возьмите с себя пример: ходите зимой в валенках, и как потом трудно весной надевать башмаки – почему? Потому что зимой нога расползлась. А в чем ходили женщины во время революции? Значит, и у самой фрейлины за революцию нога расползлась.
– Будет врать, – перебил Шмеля молодой башмачник, – никакой анатомии нету, бывает только след на снегу или на песке.
И запел прекрасным голосом:
Над серебряной рекой,
На златом песочке
Девы, девы молодой
Я искал следочки.
Путь исследования журналиста в моем опыте сопровождается все время, с одной стороны, расширением кругозора до того, что в дело пускается все пережитое, прочитанное и продуманное, а с другой – поле зрения сужается исключительным вниманием, со страстью сосредоточенным на каком-нибудь незначительном явлении. И от этого почему-то чужая жизнь представляется почти как своя. И вот, как только это достигнуто, что свое личное как бы растворяется в чужом, то можно с уверенностью приступить к писанию, – написанное будет для всех интересно, совершенно независимо от темы, Шекспир это или башмаки.
При исследовании меня все время сопровождает такое чувство, будто я открываю для других какой-то новый мир, до сих пор не известный. Это Поймо с пасущимися на тонком сплетении стеблей болотных растений стадами, с чудесами джунглей – и в четырех часах от Москвы; этот огромный в России ремесленный мир – башмачники, тянущие зубами кожу при электрической лампочке; почему о народе обыкновенно так много писали с каким-то бездушным состраданием и так мало просто для себя им интересовались; и как это вышло, что почти совсем пропустили ремесленников, обслуживающих помимо фабрик тех же мужиков?
Я – журналист с бродячей мыслью и, конечно, говорю о своих исследованиях, как мальчик, но эта выводимая мной линия исследований чужой жизни, как своей собственной, с родственным вниманием к предмету, выслушиванием простого рассказа и мастерской записью, подход к изучению местного края через местного человека прежде всего, – все это, я говорю уже совершенно серьезно, почти каждому гарантирует если не открытие нового мира, то его обживание, что иногда не менее важно, чем самое открытие.
Я, журналист, по природе своей человек веселый, и мне больно смотреть на ремесленников башмарей, в огромной своей массе занятых погонной работой. Бессознательно я ищу между ними людей, мне близких по чувству свободы, и вот я благодаря этому делаю открытие: я нахожу среди них людей с таким же чувством свободы, лично совершенствующих свое мастерство до художества, общественно всегда готовых идти в бой.
Я узнал, что из массы кустарной телятчины там и тут выбивается мастер, делающий мастерство своим призванием; он берет не количеством, а качеством своей работы. Погонный мастер и сейчас, будучи самостоятельным хозяином, делает в среднем в неделю пар двадцать, а есть мастера-художники, способные в неделю изготовить только две пары и даже одну. Эти мастера в бывшем Петербурге назывались немецкими, а в Москве – волчками.
Происхождение названия немецкие мастера понятно: наши мастера учились у немцев, австрийцев, венцев. Но, объясняли мне сами мастера, в наше время ученики обогнали своих учителей.
– Ученик, – говорили они, – всегда перегоняет учителя: выучится, все возьмет от старого и свое прибавит, – получается сложение, понимаете?
Волчок, так мне рассказывали в Талдоме, человек самолюбивый, шьет часто в ущерб своему хозяйству: крыша развалилась – нет ему дела до крыши; штаны износились спереди – ничего, закроется фартуком; просиделись сзади – опять ничего, надевает другой фартук, сзади. Погонные мастера часто смеются над волчками: работает на красавицу, а сам ходит в двух фартуках.
И бывают из них путешественники, даже и за границу; волчок – человек легкий, поднялся и пошел. А за границей давно уже научились использовать страсть к бродяжничеству, присущую волчкам всех народов: везде в крупных центрах есть такие мастерские для бродячих мастеров, – там волчок сделает пару башмаков и дальше пошел.
Среди таких подвижных мастеров всегда было много революционеров, многие из них участвовали в подпольных организациях и всегда были организованы профессионально.
Много узнал я о волчках в Талдоме, но одно оставалось мне неясным, – почему их называют волчками, что это за волки такие? Ничего мне об этом в Талдоме не могли сообщить верного, и специально за этим я отправился в Афины башмачного дела – в Марьину рощу.
В записках моих есть рассказ одного еще не очень старого мастера, как он походом нес корзину башмаков в Москву, как ехал на душегубке через Поймо, как тащил лодку волоком и вообще путешествовал для сбыта обуви, совершенно как и Андрей Боголюбский.
Я же сел в вагон и через четыре часа был возле памятника Пушкина. Не успел я обрадоваться цивилизации, как трамвай (минут через десять от памятника) доставил меня опять в глушь, на улицу из небольших домиков желтого вида, от которых сжимается сердце каким-то особенным русским тараканьим страданием.
– Гражданин, – остановил я прохожего мрачного вида, – скажите мне, кто живет в этих жалких домиках?
– Фальшивомонетчики, – ответил мне гражданин и больше не стал со мной разговаривать.
Дождавшись другого, более веселого спутника, я узнал, что в домиках живут исключительно ремесленники всевозможного рода, – сапожники, башмачники, портные, много зеркальщиков и, действительно, есть фальшивомонетчики. Этот спутник указал мне Веткину улицу, 3, и тут я нашел волчка Савелия Павловича Цыганова, который и посвятил меняв свое волчковое дело и раскрыл мне все, до сих пор не понятное.
Оказалось, вовсе неверно, что всякий волчок ходит в двух фартуках, и относится это только к тем, кто зашибает вином. Такой мастер садится за работу обыкновенно в четверг, в субботу он выпускает пару, получает у хозяина на баню и пару белья, в понедельник мастер начинает линять, то есть спускает с себя все, что только можно продать, все пропивает и к четвергу действительно остается в двух фартуках, – и то хозяйских. Бывает, такой мастер-запивоха назлобит хозяина и тот его выгонит. Вот тогда некуда деваться, и отличный мастер принужден бывает работать в мастерской из талдомских и кимрских обувников, называемых в общем кимрским стадом. Само собой, такой искусник с презрением смотрит на грубую работу кимряков, и у них ему все не по вкусу: стеж дал – не годится! дунешь, и то не так, – он и дунет по-своему. Держится такой мастер отдельно, сидит себе где-нибудь в сторонке и ворчит: вот за это и прозвали кимряки таких ворчунов урчуны, или волчки.
Кимряки имели дело только с пьяницами-волчками и потому, наверно, изображают их так, будто все они живут без крова и ходят в двух фартуках. Верно из рассказов одно, что волчок работает вовсе не так, как мастер погонный: волчок, бывает, прошьет только одну строчку – и в трактир, выпьет стакан чаю или бутылку пива – и одумается, вернется к верстаку и небывалым способом пройдется по рантовой пятке желтой стежой кругом под растычку – залюбуешься!
Слышал я в Марьиной роще рассказ про чудесную француженку, – не знаю только, правда ли это или только легенда о работе волчков. Приехала будто бы из Парижа одна француженка в Марьину рощу, и сделали ей тут две пары башмаков. Одну пару она окунула в грязь и, будто бы ношеную, завернула в газету, другую надела, а свою парижскую бросила. По приезде в Париж она отчищает загрязненную пару, продает и окупает этим расходы и на другую пару, и на поездку в Марьину рощу к волчку, известному под кличкой Цыганок.
– Савелий Павлович, – говорю я, – давайте сделаем с вами музейный башмак с социальным уклоном.
Цыганок в 1905 году был сильно избит мужиками за пропаганду революции в деревне, и все социальное ему не чуждо. Он не очень удивился моему предложению и только спросил:
– Как же это мы сделаем?
– Очень просто, – говорю. – Прежде всего нужно, чтобы этот башмак был такой, каких на свете не было. Мы поставим его в музей, чтобы американцы, французы, венцы приходили и говорили: «У нас этого нет».
– Можно, – сказал Цыганок, – сейчас подумаем.
И послал мальчика за другими волчками Марьиной рощи. Когда волчки собрались и выслушали меня, то кто-то задал вопрос:
– На какую же даму мы будем работать такой башмак?
Я ответил:
– На неизвестную.
Я хотел сказать: просто на женщину вообще, а вышло, как у Блока, вроде как бы на Незнакомку.
Волчки зашумели.
– Невозможно сделать на неизвестную, – дама должна быть с определенной ногой.
Я уступил:
– Пусть это будет рабочая женщина, например, какая-нибудь красивейшая заготовщица. Есть у вас такая?
– Есть, только все-таки надо нам знать, – сказал самый лучший мастер по коже Николай Евдокимович Рожков, – в каком виде будет заготовщица, в рабочем или в гулящем?
Вопрос этот всех ошеломил, все крепко задумались, повторяя:
– Никак не придумаешь – рабочая или гулящая. На своем полном румяном лице удалой Цыганок отер пот и наконец сказал:
– Товарищи, да ведь баба одна!
Все поняли усилие Цыганка обобщить распадающуюся в жизни женщину в одно существо – в женщину будущего, но ведь шить сейчас нужно, и как об этом подумаешь, так неизменно, как Незнакомка у Блока, распадается на рабочую и гулящую.
Рожков говорил:
– Ежели она в гулящем виде, то башмаки надо расшить на одном ранте, тремя пряжками.
– Не хотим расшивать, – вскричал Цыганок, – наша дама должна быть скромная.
Я все время молчал, с интересом дожидаясь, чем кончится вся эта затея. После долгих споров волчки постановили: взять женщину между рабочей и гулящей, башмак с виду должен быть скромный, из темно-желтого хрома цвета наших дорог, но все-таки сработан башмак должен быть так красиво, прочно, чтобы его действительно можно было поставить в мировой музей.
После того начались длинные прения, кому делать музейный башмак. Спор был всех против Рожкова, все говорили, что башмак может сделать только Рожков, но тот, страшно застенчивый, не брался.
– Уговорим, – шепнул мне Савелий.
Я вышел искать по Москве материала для небывалого башмака.
Кошмарную эту повесть, кажется, невозможно передать коротко – и разве только написать в форме сценария для кино. Мне было ясно, что сработать на тему, создать свою форму сознательно у волчков не хватит смелости, и я в этом им должен помочь. Но для этого мне надо было во всем разобраться, достать превосходного материала, распытать все о колодках, моделях, о технике, а известно, какая глубина раскрывается, когда погружаешься в бездну технических приемов, созданных, конечно, многими столетиями и не в одной только России.
Самое же отвратительное, что в глазах не лица, а ноги. Хорошо иным мечтать об избранной ноге, но масса ног, мелькающих на бульварах, на Тверской, на Кузнецком, – давит, сплющивает.
…Гетры, полугетры, полуботинки, туфли лодочкой, туфли с одним ремешком, с двумя ремешками, лодочка с фонариком, ботинок с каблучком, с пяточной, с маленьким носком, с накладным верхом, польский ботинок, выше полуботинка и пониже гетр, румынка с отрезами и сдельная…
И все это мелькает часто в загрязненном виде на кривых каблуках, на безобразной ноге. А способностей таких, чтобы заняться всем этим в меру, не хватает: все хочется как бы поскорее разделаться с наседающей темой и взяться за другое – выбиться на волю из-под столичного башмака.
Журналист-исследователь должен быть как бы помешанным, но в то же время не терять способности использовать концентрированную волю маниака для проникновения в жизнь.
Я доходил до того, что не мог пропустить мимо себя ни одну женщину, не посмотрев ее ноги. Раз я так увидел пожилую даму и с ней очень изящную молоденькую девушку в очень простеньких пальто, – на девушке была красная шапочка и на ногах бабушкины башмаки. И так мне отрадно было в этом простом изящном явлении жизни вспомнить сказку о Красной Шапочке. Всего только раз и отдохнулось.
Однажды в Столешниковом переулке мне мелькнуло на витрине что-то очень красивое, я остановился и сразу узнал волчковую работу Марьиной рощи. Вхожу к хозяину магазина распытать, как создается фасон. Тот с презрением отзывается о волчках как о творцах фасона, – они делают, как им велят. Но кто же велит – дама с Кузнецкого моста?
– Дама с Кузнецкого моста просто овца, – отвечает хозяин. – Прежде всего велит венский журнал, моя жена дам уговаривает, я слегка подтачиваю колодки согласно желанию – и так получается мода.
– Мода предполагает даму-овцу?
– Овцу, – потом венский журнал, мы с женой, а волчки просто наши исполнители.
Сильно это меня задело, потому что в прежнее время все издатели так думали и о нас, журналистах, и разве уж какой-нибудь особенным талантом прославится и начнет издателей бить гонорарами и невозможными капризами. Было время, и мне раз удалось одного заставить привезти к себе коробку сигар мексиканского листа…
Обиженный хозяином за волчков, я придумал попробовать приспособить волчков для самостоятельного творчества в условиях фабричного труда, и с этой целью я еду в Кожевники, на крупнейшую в Москве фабрику башмаков Парижская коммуна.
Заводоуправляющий фабрикой «Парижская коммуна» не сразу освободился для разговоров со мной, и мне пришлось подождать его в конторе на диване под стенной газетой. Накануне был праздник женщины, и потому вся газета была посвящена именно той женщине будущего, для которой мы с волчками задумали сделать небывалый башмак. Статьи были написаны очень грамотно, и от них веяло целомудрием и холодком первого снега. Особенно растрогала меня этой снежной наивностью заметка, посвященная одной легкомысленной фабричной девушке Тане. Тут же была нарисована и сама девушка-франтиха в юбке потому уже красивой, что на ной сходились все оттенки цветных карандашей, и также очень красива была шляпка на девушке – какая-то бабочкой, и особенно башмаки. Рассмотрев рисунок раньше текста, я подумал было, что это наивная попытка изобразить красоту будущей женщины, и вдруг с изумлением прочел текст под картинкой:
Несознательная Таня, которую нам нужно просветить.
Суровый заводоуправляющий, в высшей степени деловой человек, прямой, как полоса стали, нетерпеливо выслушав мой рассказ о волчках, заявил мне, что волчки работают на буржуазию, а фабрика стремится создать массовый механический башмак для рабочей женщины. Искусство выпадало из этой формулы, а с ним и я со своими волчками. Но так не должно быть, без красоты люди жить не могут.
– После переговорим, – сказал заводоуправляющий и передал меня техноруку.
Я целый день бродил по фабрике, представлявшей собой душу мастера-башмачника, вывернутую вовне и разделенную на сто пятьдесят операций, зафиксированных в железе и стали. Тут не было места песне кустаря – пели машины, и многие лица выражали напряженную волю.
Совершенно изумила меня затяжная машина, похожая на механического человека с руками и пальцами. Возле нее стоял рабочий-гигант, ожидавший меня с радостным волнением. Я сразу заметил в его настроении ту профессиональную гордость и задор, какие видел и у волчков Марьиной рощи. Он рассказал мне о своей любимой машине, как о своей жене: он переживает уже третью. На первой он выучился работать, и она была ему как первая любовь; вторая – хорошая, верная жена, третья – расхлябанная, работает только на пятьдесят процентов.
Мало-помалу сознание и воля стального механика меня начали увлекать, как вдруг, переходя из отделения в отделение, с изумлением я увидел волчков, работавших ручным способом изящную обувь. Оказалось, что эту обувь на французских каблуках – польку, румынку – невозможно сделать механически, а так как у «Парижской коммуны» есть свои магазины и покупатели требуют изящную обувь, – то пришлось обратиться к волчкам.
– Это не принципиально, – сказал заводруправляющий, – это временно допущено в силу необходимости, эти мастера – наши блудные дети.
В модельном отделении со мной разговаривали, однако, не так прямолинейно и вполне разделяли идею сотрудничества волчка с машиной, восполнение мастером тончайших операций, недоступных машине, – коллективную выработку народной формы. Один рабочий даже принял это горячо к сердцу, как, может быть, вернейший путь просвещения «несознательной Тани».
По разным причинам, на этом весеннем путешествии в Москву окончилось мое исследование башмачного дела, и я не довел его до того момента, когда исследование переходит в дело изменения самой жизни. Осенью мне встретился на железной дороге Цыганок. Он жаловался на плохие дела: что предприниматели прекращают дела, а кооперация слишком медленно восполняет пробел. Особенно же плохо, что дети не учатся их мастерству, и волчковое дело, верно, уйдет вместе со старыми мастерами в могилу.
Однако довольно было несколько моих слов о будущем: что волчковая работа сольется с массовым производством фабрик, что машины будут размножать волчковую строчку и рабочий будет участвовать в творчестве…
– Сознаю, – сказал Цыганок.
И перешел к радостным воспоминаниям о нашем заседании в Марьиной роще. Оказалось, что мы плохо подумали о костюме прекрасной заготовщицы, – без фасона платья невозможно создать и фасон башмака женщины будущего, и в Марьиной роще уже придумали, из какого материала надо сделать такое платье.
– Из какого же? – спросил я.
– Из серебрёного шавро, – ответил Цыганок.
– Ну, вот видите, разве можно унывать: вы – художники.
– Сознаю.
– И революционеры?
– Без всяких.
Торф*
Возле конторы стояли рабочие-торфяники, читали объявление выдаче зарплаты. Я надел очки и тоже стал разбирать бумажку.
– Стекла приставил и видит, – сказал один торфяник, – как умственно!
Очкам не удивится даже самый серый мужик. Очки были поводом выразить неприязнь к новому человеку. Это особенность русского быта: неприязнь к новому.
– А по какому делу вы тут смотрите?
Я сказал, что приехал по поручению газеты.
Не успел я выговорить эти слова, как все эти рабочие окружили меня и стали жаловаться на плохую выпечку хлеба и на разное другое.
С этого времени все стали звать меня рабкором, и от этого мне плохо не стало: в рабочей среде я сделался желанным человеком, а половинка кирпича в затылок из-за куста, как настоящему рабкору, здесь, в государственном предприятии, мне не угрожала.
Но я не только совсем корреспондент. Меня интересует и просто болото, непроходимое, невылазное. Какой-то задор берет меня пролезть в неизвестное, и пегому я называю свои записки исследованием.
Извините меня, – раз уж исследование, то надо было начать с какого-нибудь предисловия. А теперь я перехожу прямо к своим рабкоровским болотным приключениям.
Есть известная сказка о Берендеевом царстве. И ученым известно, что некогда было озеро Берендеево. Теперь же на месте Берендеева царства и озера лежит болото с богатейшей залежью торфа: четыре с половиной тысячи десятин торфа с глубиной, в среднем, на две сажени. В сторонке от болота, на его высоком берегу – железнодорожная станция Берендеево.
Сюда я приехал издали на лошадях с тем, чтобы оставить тут где-нибудь свои необходимые для болотного путешествия вещи, съездить по делам в Москву, а потом вернуться и начать свои наблюдения.
Возле станции был торговый поселок.
Я спросил, нет ли тут постоялого двора.
– Нет, – ответили мне, – у нас такого нет ничего, каждый живет сам по себе.
Я спросил о столовой, – пообедать.
– И этого нет, – ответили, – у нас харчуются всяк в своем доме.
– Что же у вас есть для других?
– Для других у нас есть только два пассажирских поезда.
После того меня повели к одному странноприимному человеку, какому-то Сергею Порфирьевичу.
Когда мы вошли в его избу, то с печки послышался жалобный голос и поднялась голова, как бы у воскресающего Лазаря, вся обвязанная погребальными платами. Это и была голова странноприимного Сергея Порфирьевича, страдающего мучительной зубной болью с флюсом.
Здесь я оставил свои вещи, отправился в Москву, переделал там тысячу дел, и, когда через неделю вернулся к торфяным разработкам, мне казалось – целая вечность прошла. Но вечность прошла, а Сергей Порфирьевич, оказывается, лежит в совершенно том же положении на горячей печке.
– Сергей Порфирьевич, – сказал я, – да вы бы, чем так мучиться и терять золотые дни, зуб-то бы выдернули.
– Пробовал два раза, – ответил мученик, – два раза обломали и не выдернули.
– Кто ломал?
– Фершал.
– Чем ломал?
– Ключом.
Я иду к фельдшеру, обслуживающему тысячу рабочих торфяной разработки Владимирского треста.
Первая комната в барачной больнице была совершенно пуста, в другой стояла единственная лавка, в третьей на табуретке сидел седой фельдшер и фильтровал болотную воду через вату из четверти Госспирта в банку из-под варенья. Воронка была огромная, какие употребляются при разливе пива из бочек в бутылки. Две или три табуретки – была вся мебель больницы.
Фельдшер был похож на колдуна, почему-то работающего йодом. Он показал мне журнал, и оказалось, что за полтора месяца торфяной разработки было смазано йодом около тысячи человек.
Мне объяснили, что причиной бедственного положения амбулатории был спор между трестом и здравотделом, во время которого больница была как бы без хозяина. Но я мало понял из этого объяснения.
По пути из больницы в контору – направо и налево бараки, мужские и женские, целая улица, и все пусто, потому что все на работе. С высоты, бывшей берегом умершего озера, открывается вид на болото – дно этого озера, теперь покрытое мелкими соснами, частыми, как конопля. Там, далеко, в середине разделанной поляны, были машины, маленькие отсюда, как журавли, когда они ранним утром выходят побродить по болоту.
Жарко и очень сухо. Грачи и галки сидят с раскрытыми клювами. Вдали на журавлиной поляне показывается дымок, усиливается, растет и растет. Слышатся тревожные свистки всех машин. Из конторы выбегает кто-то с биноклем, смотрит и приказывает:
– Все на пожар.
Люди схватывают висящие на бараках огнетушители и бегут на болото.
Мне пришлось бежать по клюквенной тропе за рабочим с огнетушителем. Было вязко и жарко. Солнце палило сверху, снизу распаривало болото, всей силой гудели слепни.
Мы бежали как-то наперерез огню версты три. Ветер был не особенно большой, и мы скоро настигли огонь. Тут собрались другие рабочие с огнетушителями, но главная сила тушения была у множества женщин, которые макали метлы в канавы и пристегивали огонь.
В общем поверхностный пожар на этот раз не причинил вреда, но сколько богатств сгорает у нас каждый год всегда при наступлении сухой погоды!
Кто не помнит из нас этот дым, через который солнце глядит, как через закопченное стекло. И знаете, сколько сгорает добра: количество теплотворности одной десятины торфа толщиной, как в этом болоте, в среднем две сажени равняется теплу от шестидесяти десятин леса. Значит, какие же богатства спят в этих необозримых наших болотах, и что это будет в стране, когда организованный труд человека разбудит эту спящую красавицу?
Так вот с пожара начались мои болотные наблюдения, и я этим доволен: подход вышел непреднамеренный, а это очень важно при такого рода исследованиях жизни путем личного опыта. Я воспользовался этим случаем и тут же, на болоте, перезнакомился с людьми и машинами.
Ненадежна дощечка, положенная на шпалы узкоколейки: то вдруг окажется, что это не дощечка, а горбыль, полукруглый с другой, невидимой стороны, ступишь – горбыль обернется, и нога провалилась; а то бывает, ступишь на край, а другим концом доска тебя по лбу. И так идти версты три до первой машины и до последней верст пять. И все-таки эти дощечки – благодеяние сравнительно с тропой на сырой, вязкой торфяной массе очень плохо осушенного болота.
Вот этот путь от барака к машине в три, в четыре и даже в пять верст является серьезной величиной при учете рабочим условий труда на том или другом болоте. Этот путь рабочего, час туда и час назад, как в нашем случае, не входит в состав десятичасового дня при выработке нормы в тысячу кирпичей торфа на одного человека.
Мне дали в конторе точную справку о сносе лаптей с учетом прохода в этих лаптях от барака к машине. Назвали одну разработку с меньшим переходом и дали цифру расхода лаптей там: пересчитав расход с поправкой на наше расстояние, мы получили совершенно одинаковую цифру сноса лаптей на работе там и тут.
Вот теперь и задумаешься об иных чудесах организации производства: в отношении сноса лаптей существует самый точный учет, а расход живой силы человека на этом же пути, на том же расстоянии не принимается во внимание.
Я признаю при сезонной работе в два-три месяца необходимость десятичасового рабочего дня с нормой в тысячу кирпичей на человека, но если сноска лаптей от барака к машине учитывается, то расход человеческой энергии на вертящихся горбылях должен же как-нибудь тоже учитываться!
Иногда малые причины имеют огромные последствия. Из таких малых причин и сложилась беда этого сезона: везде ломались артели.
Так пишет своему куму один торфяник:
«Иван Петрович, в первых строках моего письма… а у нас машина рядом с бараком, будет тебе ноги ломать, гони к нам».
Иван Петрович читает письмо товарищам, те складывают это с другими мелочами, и вот артель «воткнула лопаты». Пока сформируется новая артель, трест потеряет на простоях машины в десять раз больше, чем на оплате часов прохода рабочего по горбылям и дощечкам к машине.
Дико болото, часто заросшее низкими корявыми соснами, утомительно однообразно; потому, когда открывается вдруг простор поляны, разделанной руками человека для выработки торфа, становится радостно, и далекие машины с трубами кажутся журавлями, бродящими по открытой поляне. Даже частые свистки, подгоняющие бегунков с вагонетками, похожи не на свистки локомобиля, а на трели огромных куликов.
Есть в тех же торфяных разработках машины, поражающие своей освободительной силой. Такие машины приняты при гидроторфе, где торфяная масса разжижается, всасывается машиной и прямо выливается для сушки.
Но недобрые и недалеко ушли от природы элеваторные машины, принятые в болотах, не обеспеченных массой воды, необходимой для гидроторфа. Не считая некоторого, сравнительно небольшого, подъема торфяной массы, эти машины берут на себя более легкую часть всего труда по добыванию торфа: перемешивают его и формуют, выдавливая через свои мундштуки.
Машина стоит на поверхности, как барыня, спустив вниз свой шлейф-элеватор, а люди внизу на двухсаженной глубине в черной воде канавы, называемой карьером, лопатами с железными насадками режут черную, насыщенную водой массу торфа и, тяжелую, швыряют на элеватор машины.
Итак, не машины совершают самую важную, питательную часть производства, а эти подземные люди, стоящие иногда по колено в грязи, облепленные то слепнями, то комарами, люди с огромной грудной клеткой, с выпирающими мускулами, похожие на сказочных атлантов, подпирающих земной шар.
Все эти люди, похожие на атлантов, не первой молодости, их мускульное сознание достигло необходимой мудрости в экономии энергии, не позволяющей делать лишних движений. Сила деревни, сила природы выперла таких гигантов труда.
Торфмейстер дал мне справку об их работе, каждый из этих карьерщиков, закидывающих в элеватор торфяную массу, ежедневно поднимает около тысячи пятисот пудов на высоту в среднем одного аршина.
Подняв голову из-под земли, один из атлантов спросил меня, кто я такой, и когда я ответил, что от газеты, все нижние, стоящие по колено в черной воде атланты, не оставляя работы, в один голос сказали:
– Сапоги, сапоги!
Их ноги были обуты в брезентовые бахилы, пропускающие воду. Я очень обрадовался точности требований, и мне казалось – этого-то уж мне будет нетрудно добиться. Но когда я стал о сапогах говорить где надо, выяснилось, что раньше всегда сапоги выдавались, и никто никогда из атлантов ими не пользовался: сапоги бережно хранились на время обратной поездки в деревню.
Только уж когда этот факт был установлен повсюду, сапоги заменились брезентовыми бахилами, которые предохраняли ногу все-таки больше, чем простые портянки.
Так вот и оказалось, что даже в таких, кажется, совершенно ясных обстоятельствах бывает очень трудно помочь человеку, деревенскому атланту.
В Берендеевском болоте залежь торфа очень глубокая, в среднем на две сажени, но достать в большинстве случаев можно только половину, потому что болото плохо осушено, и на глубине вода заливает вырываемую яму.
Верхний слой еще не совсем разленившегося мха – не ценное вещество, как торф, и у наг бросается, но оно обладает высокими свойствами всасывания жидкостей, за границей используется как отличная подстилка скоту, из нее делается торфяной порошок, уничтожающий запах в отхожих местах.
Чем глубже, тем торф смолистее и дороже как топливо, и там, где работа у нас останавливается вследствие плохой осушки болота, как раз и начинается самый ценный торф.
Карьерщики, эти атланты, подымающие в день на высоту аршина тысячу пятьсот пудов торфяной массы, стараются залезть в торф как можно глубже, и, если бы возможно, они добрались бы до самого дна, потому что мелкая выработка требует более частого продвижения машины, – значит, потери времени, необходимого для выработки нормы в тысячу кирпичей на человека.
Самое продвижение машины примитивно, канатами. При мне в одно только продвижение два раза лопались пеньковые канаты, потом связывались. Проволочка времени меньше часа в расчет не принимается, а сверх часа оплачивается только в том случае, если вина была не со стороны рабочих. Но часто трудно бывает установить, кто виноват, и отсюда вытекает главный поток всяческих недоразумений.
Рабочим, конечно, было бы много лучше работать в сухом болоте и выбирать торф до дна. Иногда им и удается погрузиться довольно глубоко, и вдруг кто-нибудь кричит: «Вода!»
Фонтан бьет иногда из-под низу, а то, бывает, прорвется где-нибудь сбоку. Рабочие стараются закидать фонтан торфом. Кто-нибудь приминает прямо ногами.
Но обыкновенно за одним фонтаном начинает бить другой, третий. Тогда скорее лепят перемычку в карьере, чтобы эта вода, наполнив карьер, не перелилась к дальше копаемой яме.
И вот так, по мере продвижения машины вперед, сзади нее остается река, разделенная перемычками. Когда река будет доведена до конца расчистки болота, параллельно ей ведется другая река, другой карьер, разделенный с первым бровкой.
Сняв потом перемычки и бровки, можно после разработки оставить на месте прежнего болота озеро, пригодное для разведения рыбы.
Можно воду спустить по магистрали, осушить и опять разрабатывать до дна, еще осушить и получить после разработки прекраснейший луг.
Только у нас обыкновенно до сих пор после первой выработки болото бросалось, и на нем становилось хуже, чем было.
Хорошо осушенное болото – вот счастье производства и выгода рабочего: рабочий ищет, где суше болото.
А еще важно рабочему, чтобы в его карьере было как можно меньше пеньков, корчаг и других древесных остатков, требующих для выборки очень много времени, за которое никто ничего не заплатит. На одном и том же Берендеевском хорошем болоте карьеры все-таки очень разные: в одном все возятся с пнями и корнями, в другом карьере при другой машине рабочие режут торфяную массу без перерыва, как хлеб.
Надо бы, кажется, разбираться в этих условиях и назначать разные нормы. Я этого не видел.
Я ходил от карьера к карьеру, расспрашивал рабочих, не попадалось ли им в торфе скелетов каких-нибудь животных или остатков орудий и утвари первобытного человека.
Несомненно, что это болото было дном большого озера, что по озеру на плотах плавали первобытные рыбаки и часто роняли в воду разные вещи: сосуды, орудия лова, защиты; под этим огромным слоем торфа, отлично сохраняющего в себе животные остатки, могла бы найтись своего рода Атлантида неолитического человека.
Но нет, атлантам, работающим в карьере, не было времени сосредоточивать свое внимание на постороннем, главное же, об этом им никто никогда не говорил, и, если бы им и попались под лопату кремневые орудия и черепки от сосудов, они бы не придали им никакого значения.
Все-таки в одной артели мне рассказали, что однажды на глубине двух сажен они нашли корову в полной сохранности, с мясом, и шерсть у нее была рыжая. Но как только корова была вынута из недр торфяной массы и немного полежала на воздухе, сейчас же началось разложение с очень сильным зловонием. Тогда рабочие столкнули ее обратно в карьер и залили водой.
Сколько лет эта корова лежала погребенной в торфу? Торфмейстер хорошо знал это болото и место, где корова была найдена. Это место, по его словам, было закончено в торфообразовании, как и другие места этого болота, и утонуть корове в недавнее время было нельзя.
Но возможно, что это место было затянуто торфом после других, в позднейшее время, в таком случае корова пролежала под торфом немного, всего лет двести.
Я не специалист в археологии и мало знаю о консервирующей способности торфа, не знаю даже, может ли сохраниться в торфе скелет утонувшего в озере первобытного рыбака. Мне смутно припоминается, будто где-то я читал о ценных находках в карьерах.
Староста, у которого я расспрашивал о найденной корове, был очень взволнован моим коротким рассказом о тайнах земли, даже сами атланты внизу, в карьере, непрерывно втыкающие в торф свои лопаты с железной накладкой, повертывали сюда свои потные лица, забывая сгонять с них насевших слепней и потыкушек.
Я схватил этот момент оживления на грубых лицах людей, погребенных в болотной грязи: что могло быть для них интереснее знания, направленного как раз в точку. приложения ими своего повседневного тяжелого труда?
Всякая специальность углубляет человека в предмет, и специалисту необходимы очки общего знания, соответствующие его специальности.
Вот это до сих пор плохо понимают наши культурники, идущие к рабочим с темами вне сферы применения ими своего труда: непременно же надо подходить к ним изнутри, чтобы знание казалось усталым рабочим людям солнечным светом.
Обслуживание рабочими торфяной элеваторной машины резко разделяется на работу в карьере внизу и работу наверху, после того как масса вылезает из мундштука машины бесконечным пирогом с квадратным сечением.
Подняв торф, заброшенный в элеватор карьерщиками, машина перетирает массу, перемешивает, прессует и выдавливает переваренную пищу.
С одной стороны вылезающего из мундштука машины пирога стоит мальчуган – разлипало, дело которого состоит в том, чтобы подкладывать под пирог дощечку определенной длины: одну за другой, весь день.
На другой стороне выходящего пирога против разлипалы стоит такой же юноша – секач, он рассекает пирог по размеру подложенной разлипалом дощечки и на каждой дощечке отсекает длину торфяных кирпичей.
Точно размеренные, определенные ходом машины движения двух мальчуганов вызывают в памяти образ мальчика, которому надоело делать однообразные движения и он придумал маленький фокус и сделался изобретателем современной паровой машины. В этом случае для устранения мальчиков не нужно быть даже гениальным.
Немало весит этот пирог из сырого торфа, разделенный секачом и устроенный на дощечку разлипалом, но приемщик живо схватывает его и устраивает на вагонетку.
Торфмейстер дал мне расчет: приемщик в день перекладывает семь тысяч пятьсот пудов – значит, все-таки меньше по весу, чем работа атлантов внизу. Только здесь требуется большая живость, и согласно с этим в приемщиках мы видим людей более молодых.
А еще более молодые люди – возчики вагонеток, проворные гонщики, или бегунки. Они катят по рельсам вагонетки с торфом вначале с большой натугой, потому что нагрузка все-таки сорок – пятьдесят пудов, но потом их гонит сила инерции, бегут, сдают свой груз настильщикам, и потом уже с пустыми вагонетками мчатся во весь дух обратно к машине.
Машинист зорко смотрит за их работой и, чуть только случится заминка, – дает свисток. Благодаря посвистыванию и вообще всему ходу машины, требующему непрерывного подвоза вагонеток, эти гонщики пробегают в день по пятнадцать верст с грузом в сорок – пятьдесят пудов и пятнадцать верст порожняком.
Вот этот весь процесс работы, от выхода торфяной массы из мундштука и вплоть до стилки, при электрификации совершенно выпадает: там дощечки с торфом движутся по тросам на место стилки и пустые по тем же тросам возвращаются обратно.
Последний этап работы мужской артели при машине – стилка.
Стильщики принимают торф с вагонеток и настилают его для сушки по карте. Тут десятник отмечает в своей книжечке цифру выходящих кирпичей, и эта цифра администрации потом встретится с цифрой артельного старосты.
Вся мужская артель при машине состоит из тридцати человек: карьерщики 12, секач 1, разлипало 1, съемщики 2, бегунки 7, стильщики 6 и староста 1.
Меня изумил один староста своим знанием политграмоты. Это был обыкновенный деревенский мужик, а между тем он говорил свободно о Большом и Малом Совнаркоме.
Словом, староста был тем же самым, что рядчик в землекопных артелях, тоже человек разбитной, умеющий обойтись со всякими учреждениями и лицами. Этот староста – душа артели.
Во время производства он вертится волчком. Несколько раз, бывало, при разговоре со мной он замечал усталого человека в карьере, бросался в яму, как коршун, брал у него лопату и работал все время, пока тот отдыхал. А то раз, когда во время перевозки машины часть рабочих села покурить, он довольно резко крикнул на них:
– Эй, вы, полденщина!
С другой стороны, когда один бегунок зашиб себе ногу, староста отправил его в больницу, хотя бегунок сопротивлялся и хотел только отдохнуть. Он и ругается, и жалеет, и заботится о всей жизни артели. Но душа артели – староста – находится под вечным контролем тела – артели, и при малейшем нездоровье души тело восстанавливает себе новую душу совершенно так же, как пчелы восстанавливают себе утраченную матку.
Там, где-то в глубине Брянских лесов, в деревнях Жиздринского уезда, вырастают эти крепкие организации рабочих землекопов и торфяников.
Туда зимой приезжает вербовщик от треста, заключает договор с артелью.
Вот и не надо смотреть на эту серую массу, будто она совсем безразличная. Я знаю одного старосту, который двадцать лет был при своей артели, и за двадцать лет все ее члены остались на своих местах так же, как этот староста. Можно же себе представить, какая за двадцать-то лет должна была выработаться стойкая рабочая ячейка!
В этом году в торфяном деле огромный спрос на рабочие руки, но, несомненно, в этом году дорого обойдется трестам торфяной кирпич, и вот именно вследствие пертурбаций в рабочих артелях, в которые, вследствие спроса на рабочие руки, влилось много рабочих, никогда не державших в руках торфяную лопату.
Заведующий торфяной разработкой мне говорил, что в артелях встречались столяры, плотники, даже портные, и раз один из них задал такой вопрос:
– Для чего к торфяной лопате приделывается железная насадка?
Нужно считаться с привычками этих странствующих артелей: они привыкают к определенной машине из года в год, привыкают к болоту, и пусть лучше брянские проедут во Владимирскую губернию, где им привычно, а владимирские – куда-нибудь подальше, чем стали бы мы в перевозке самовольно распределять артели к ближайшим местам их родины. А так, мне говорили, в этом году сделал Госторг и, конечно, этим сильно расшатал рабочую дисциплину артелей.
Мужские артели на торфе работают, если машина хорошая, в две смены, каждая по десять часов. Если машина не дозволяет две смены, то работают в одну, и такая машина-односменка считается желанной, потому что на ней другая смена не дожидается, не торопит, и можно, затянув рабочий день, вернее выработать норму в тысячу кирпичей на человека, или же тридцать тысяч на артель.
Женские артели, рамки, каждая в двадцать человек, работают совершенно отдельно от мужских артелей и непосредственно совсем не связаны с работой машины. Их дело – корчевка, полировка карты после корчевки, потом они перевертывают подсыхающие кирпичи на другую сторону, складывают в собачки, в пятки, в клетки малые и большие и, наконец, в штабеля.
Нехитрая работа этих артелей, но, конечно, утомительная, потому что приходится все время работать наклонившись, имея вид животного на четырех ногах.
Женская рамка делает свои уроки в десятичасовой день: каждая женщина за такой день при условии выполнения урока получает один рубль двадцать копеек, на своих харчах.
Редкая из этих девиц, вернувшись к себе в деревню, отдает из своего заработка что-нибудь в семью, нечего отдавать: она проела заработок, а остаток истратила на свои наряды.
Все эти девушки, природные торфушки, не стесняют себя в еде.
Работая на воздухе, они упражняют свои мускулы, поражают своим животным здоровьем и озорством. Сначала кажется, что эти торфушки как бы особая порода женщин, но это кажется только: все они развертываются только здесь, на свободе, вдали от глаз родной деревни, а когда вернутся домой, там, в деревне, удалая торфяница затаивается, закрывается всей церемонией деревенского быта и становится совершенно как все.
Мне слишком много натолковали о крайне грубых нравах женских бараков, и по тому, что я видел, меня не поразило особенно. Я видел, как молодая торфяница после работы, здорово наевшись, легла на свою нару: лежит, закинув под голову руки; влетает «соловей», садится у ее ног и начинает играть на гармони.
Я видел, как там и тут ребята бросали гармоньи и начинали возиться с девицами. Сопровождавший меня конторщик, сочувствующий моей охоте за материалами, тихонько подталкивал меня, считая такую возню за высшее проявление цинизма любви.
Но я, житель деревни, нисколько не смущался этим, потому что возня, сопровождаемая визгом девиц, совсем еще не говорит об испорченности.
Другое дело, когда молодые люди из артели, разные секачи, разлипалы, настильщики, затаиваются и остаются ночевать в бараке. Но я думаю, это все-таки не так часто бывает. Ночуют, и много ночуют, на воздухе, в складках крутого болотного берега, густо заросшего дубами, липами и березами.
Говорят, если позабавиться и пустить туда вниз катиться кирпич наугад, ничего не видя, кроме кустов, то непременно в кого-нибудь попадешь, и там сильно заругаются.
Женотдел этим очень встревожен. Время от времени является делегатка («уговорщица»). Вот она, прочитав лекцию в читальне о женских болезнях, в праздничный день, когда весь женский барак кипит страстью, как самовар, смело входит туда. На нее, как и на всякого, не обращают никакого внимания. Она идет в самую гущу, где визг и возня, и говорит молодой торфянице:
– Смотри, он тебя обманет!
Девушка подымает голову, оправляет волосы. Парень-секач озадачен.
– Он тебя непременно обманет.
Секач велит:
– Вставай, Лизка, пойдем на волю.
Вечером мы сидим на лавочке у того самого обрыва, куда забавники скатывают кирпичи. Нас трое: торфмейстер, конторщик и я. Мы обсуждаем случай с Лизой.
– Неправильный подход, – говорит торфмейстер. – Я этой Лизе однажды сказал: «А если ты в деревню ребенка привезешь?» – «И хорошо, – отвечает, – нам еще землицы прирежут».
– И новорожденный, – спросил я, – потом непременно сделается торфяником?
– Обязательно, – сказал торфмейстер, – в этой деревне все торфяники.
– Неправильно, – воскликнул конторщик.
Мы не могли понять у конторщика, что было в этом неправильного: какой-то смутный человек был конторщик, может быть, и с большими мыслями.
Торфмейстер видел этих торфяников на месте их происхождения: в этой деревне двадцать лет тому назад было только семнадцать дворов, а теперь стало пятьдесят, и все торфяники. Там родится ребенок, это не просто человек родился, а в то же время и торфяник, и, значит, торфяница непременно рожает торфяника или торфушу.
– Отсталость, неправильно! – взревел конторщик.
– Факт остается фактом, – ответил торфмейстер. – Тоже вот, неподалеку отсюда есть село бондарей, и там рождаются только бондари. Есть маслобойщики, и тоже размножаются как маслобойщики исключительно. Есть села портных, башмачников, сапожников, каменщиков, плотников, дегтярников, металлистов, чего-чего только нет! Вся центрально-промышленная область состоит из таких промышленных сел, люди бродят отсюда во все стороны, ищут работы в городах, на фабриках, а то просто разбредаются по далеким деревням и там ходят из двора во двор. Но куда бы они ни зашли, непременно, как перелетные птицы, они вернутся к местам своего гнездования и там произведут непременно: каменщик – каменщика, портной – портного, башмачник – башмачника, торфяник – торфяника.
– Товарищи, это отсталость, вы неправильно подходите к человеку! – воскликнул конторщик так решительно, что мы обернулись к нему, с полным желанием разобраться в каком-то смущавшем его вопросе.
– Вы говорите, – сказал конторщик, – что от торфяницы рождается торфяник, а ведь торфмейстер же не может родиться от торфяницы?
– Почему же не может? Торфяник выучится и будет торфмейстером.
– Так это выйдет от науки: наука его сделает торфмейстером, а не торфяница.
Мы вдруг поняли смутные мысли конторщика, и он очень обрадовался.
– Наука, – продолжал он, – великое дело. Если бы у нас больше науки было, так не рождались бы все непременно портными или торфяниками. Я считаю для человека это неправильным, ведь, может, ему не хочется быть портным или торфяником, а потому что он портной от рождения или торфяник, то всю жизнь зато и копай торф лопатой или шей френчи и клеши.
Однажды мы шли по отполированной карте. Заведующий торфяной разработкой наткнулся ногой на колышек, забытый корчевщиками, и сделал замечание сопровождавшему нас председателю месткома. Через некоторое время мы опять наткнулись на колышек, и заведующий сделал еще более резкое замечание.
Меня заинтересовало, чем же мог быть местком виноват в техническом деле, и мне ответили, что дело месткома следить за выполнением рабочими условий договора.
С этого момента спора из-за колышка, на который наткнулась нога заведующего, мне открылись глаза на чрезвычайно сложную цепь отношений рабочих, профсоюза и администрации производства, или, как теперь говорят, хозяйственников. На моих глазах эти отношения все более и более обострялись, и кончилось тем, что две артели, из которых одна была самая лучшая, воткнули лопаты, и притом по-настоящему воткнули, с ожесточением.
Для понимания этой ссоры необходимо знать, что хозяйственники прошлый год на другом болоте немного опростоволосились с авансами. Болото это было очень пеньковое, на нем, вероятно, рабочим было трудно выработать норму.
Под предлогом нехватки зарплаты для существования в деревне семей в трудное время, когда новый хлеб еще не созрел, рабочие попросили аванс и, получив, бросили работу и рассеялись по своим деревням.
Таким образом, лица администрации однажды уже промухоловили с рабочими и теперь были крайне осторожны с выдачей авансов.
В этом году происходит та же самая история: большинство артелей в первый месяц далеко не могли выработать норму, хотя болото было в этом году нормальное.
Причина недовыработки, по словам администрации, была главным образом в притоке, вследствие усиленного спроса на торфяников, неквалифицированных рабочих, никогда не имевших дела с торфом. По словам же рабочих, недовыработка происходила от неготовности машин: ведь простои меньше часа, даже по вине администрации, вопреки правилу, не оплачиваются, а если ремень каждый час соскакивает и приходится из часа уделять четверть часа на устройство ремня, то сколько же рабочие терпят убытку? А еще рабочие ссылались, что простои более часа будто бы часто приписывались вине рабочих и тоже не считались. Трудно решить, не имея точных данных и времени для спокойного разбирательства, какая сторона была более виновата.
13 июня должна была производиться выдача зарплаты почти за полтора месяца, значит, если считать норму заработка по два рубля пятьдесят копеек на человека, всего выходило около ста рублей. Но за вычетом аванса по пятнадцати рублей и содержания рабочим приходилась совсем ничтожная сумма, чуть ли не по пяти рублей на человека.
Рабочие отказались получать эту зарплату и потребовали аванса по сорока рублей на человека, а когда оказалось, что авансы в этом году не выдаются совсем, то сделали свой подсчет простоев и потребовали зарплату в том же размере.
Администрация, опасаясь расстройства производства, отвечала уклончиво, рабочие подождали немного и воткнули лопаты.
А ведь это торфяники – все деревенская беднота. И все-таки, несмотря ни на что, эти люди, выслушав красноречивые слова председателя месткома, постановили на собрании отдать часть своего заработка бастующим горнорабочим Англии: торфяники ведь тоже принадлежат к союзу горнорабочих.
Что же случилось? Куда девалась готовность жертвовать своим близким интересом ради достижения общей цели? Случилось то, что бывает даже с очень хорошими поэтами: вдруг в разгар творчества заболит живот, и поэт бросает перо.
Мы отправились в барак с председателем месткома. Он сказал:
– Вы, товарищи, все были в Красной Армии, многие из вас были ранены, из-за чего же боролись? Молчат.
– Мы создаем рабочее государство и все для этого чем-нибудь жертвуем, а вот вы воткнули лопаты.
– Не вереди душу, – ответил одноглазый торфяник, – перестань говорить о государстве, одно дело государство и другое дело наш день.
– А зачем же вы воткнули лопаты?
– Потому что я, носящий худой лапоть, имею в душе обиду и муку.
Тогда вдруг все прорвалось, и все с разных сторон стали высказывать свои обиды. Злоба и обида навертывали в один ком важное и неважное.
…Я не мог дождаться, чем кончится спор. Мне, впрочем, ясно, что эти артели уедут, но это же не все артели, на место уехавших найдутся другие, а простой машин потом, при выходе кирпичей, как-нибудь скалькулируют, и огрехи закроются. Вопрос, конечно, сколько таких огрехов и не влияют ли эти невидимые причины в совокупности серьезно на цену топлива и электрификации?
Вот очень бы хорошо описывать рабкорам не только случаи, а вести бы на местах, складываясь в кружки краеведения, постоянные исследования местных условий производства, доступные всем в меру здравого смысла совести. Накопление такого рода знаний могло бы очень облегчить работу высших руководящих органов.
Мох*
Туголянские озера находятся в лесных верховьях Волги, только значительно повыше, чем описано у Мельникова-Печерского, среди красных сфагновых мхов, заключенных между притоком Волги Нерлью и притоком Нерли – Кубрей. Тут мы нащупывали место для грандиозной электростанции. Наша экспедиция по исследованию торфа для станции разбилась на три отряда: один шел за Нерлью на север, где мох был еще сравнительно молодой, другой работал на Игобле против Кубри, а на юге возле Туголянских озер вся разведочная работа легла на меня, тут я бродил совершенно один в ожидании, когда для точной съемки освободятся люди на севере.
Невольно задумаешься о странном названии урочища Туголяны, в котором расположились моховые озера: если считать слово древнерусским, туга значит скорбь, то получается одно предрасположение к этому краю, а если урочищем владел какой-нибудь Тугенляндский барон, то выходит страна добродетели. Мне ближе русское понимание, потому что не наблюдал я никакой особенной добродетели у людей, обреченных зарабатывать себе существование сбором клюквы, ручным дроблением громаднейших пней и перегонкой этой смолистой щепы в деготь и скипидар.
В эту туголянскую страну я ходил из Шепелева, последнего села, тяготеющего к Москве. В Шепелеве с испокон веков жили шорники, – вернее, жили и занимались земледелием их женщины, а сами шорники работали в Москве, деляги-ребята много всего московского тащили бабам в деревню. Тут у меня и сейчас есть довольно знакомых, отличных людей. И вот замечательно, когда кому-нибудь в этом краю станешь расхваливать шепелевских, получаешь неизменно один и тот же ответ, что, мол, их отцы и деды жили в Москве и там научились хорошему. Будь это раз, а то постоянно, и оттого является желание противопоставить это одностороннему огульному суждению о вреде цивилизации. Напротив, если по клюквенной тропе, единственному пути через мох, перейти в Ведомшу, где люди живут исключительно дарами природы – сбором клюквы, смолы с подсеченных деревьев, перегонкой дерева в деготь и скипидар, – то надо быть каким-то неисправимым народником или толстовцем, чтобы соблазняться примером жития этих всегда бледных от вдыхания баговника людей, часто с зелеными лицами от постоянного недоедания.
Туголянские озера лежат как раз между Шепелевом, где я временно жил, и теми чахлыми замошными деревнями. Много видел я мест по Дубне столь глухих, что без особенного уменья рассказывать, писать и фотографировать трудно было бы кого-нибудь убедить, что почти под Москвою дремлют такие места, но Туголянские озера все превзошли: такое можно сравнить только с Карелией, где даже лесному человеку становится жутко в лесном безлюдье и кажется, что вот-вот как-нибудь ни с того ни с сего только от этого безлюдья и кончишься. Больше всего этой жути придает глубоко мягкий мох, до того осыпанный ягодами, что часами видишь перед собой только голубое и красное. Как устаешь идти по такому глубокому, мягкому! А то случается, разорвется что-то между подушками мха, нога там зацепится совершенно, как если бы тебя кто-нибудь крепко схватил за ногу: там, внизу, под этим верхним, осыпанным ягодами мхом бывает иногда веками гниющий в черной воде лес. Рассказывают, будто оба Туголянских озера образовались именно так: лес провалился с мхом, на котором он стоял и так долго держался. Да это и самому приходит в голову, когда видишь берег озера, как оборванный край мохового болота с громадными кочками у самой воды и отражениями в ней клюквы, гонобобеля, брусники.
Так привычно сложилось в уме, что мох бывает именно уже после воды, в промежуток, когда вода для нас умирает и рождается суша. Я даже и знал, что вот сейчас увижу озеро, и все-таки сразу остановился здесь, восхищенный блеском как бы нежданной воды с бесконечными отражениями береговых дебрей. Я сидел у воды на мху против березы, объятый девственной пустыней, пока, наконец, стало как-то не по себе: объятия моховой пустыни с сильнейшим одуряющим запахом баговника стали похожи на кошмарные объятия больницы, когда пациент задыхается от хлороформа на операционном столе. Береза стояла на маленьком моховом полуострове, и мне было почти физически больно, что нетвердо стоит она и сразу может исчезнуть, что так и все здесь… Всюду слышишь теперь даже в деревенском народе модное слово «факт», а между тем, думалось, самый главный, самый большой факт – земля под ногами, едва ли что-нибудь значит без личной человеческой дружбы с этой землей. Мне захотелось человека видеть хоть какого-нибудь и не думать с ним, не работать, а поболтать бы. Обрывок лаптя под березой попал мне на глаза, остатки костра, сорванный на растопку и брошенный почему-то лоскут бересты, темный пояс на березе, откуда был сорван лоскут, и повыше немного пояска заросшие, заплывшие, не менее как лет двадцать назад вырезанные буквы. Вспомнилось, что было у нас двадцать лет назад, до войны, до революции, – года в моих воспоминаниях превращались в столетия, и так перед этими оплывшими, позеленевшими, замшелыми буквами я стоял, как археолог, разбирающий клинописные надписи. Я списал себе в книжечку эти буквы: О-Н-Ч-К-Н-Д-С, и долго думал над ними. Доставляла отраду близость даже к такому человеку, писавшему двадцать лет назад ножом на березе непонятные буквы, и я, несколько успокоенный, вернулся к волнующей меня на мхах мысли о фактичности самой земли. «Все движется, – подумал я теперь, – одно переходит постоянно в другое, – как же это не факт? Мох вырос на воде, на мху очень долго укреплялась береза, пришел человек и написал на березе, через двадцать лет пришел другой человек и старается понять его слова…»
Я встал, встряхнулся, проверил направление по компасу и пошел искать второе озеро, Малое Туголянское. Было сказано мне перейти речку Шусту, впадающую в Большое Туголянское озеро, отсюда, держась клюквенной тропы, пройти еще сто шагов и взять влево, в полукилометре от тропы будет Малое озеро. Тысячи раз я в своей жизни блуждал, доверяясь топографии крестьян, и вот до сих пор не перестаю забывать это и при всяком случае вновь доверяюсь. Все я верно проделал, как мне говорили, и все-таки попал в непролазную крепь, вокруг были какие-то очень топкие бочаги, заросшие камышом, тростниками, черная ольха была густо обвита хмелем, прыгаешь через бочаг и головой попадаешь в петлю хмеля, словно черт ловит тебя. Вот, кажется, свет показался, лезешь туда, и это светлое не лучше темного: это засох молодой бор. С дубинкой в руке идешь по такой сухой чащуре и валишь все; была тут довольно большая береза, я чуть только задел ее, и она повалилась, в воздухе как-то распалась и одним куском больно задела. С большим трудом выбрался я с этого лесного кладбища на суходол, покрытый частым сосняком. Смолистый подрост не царапал меня, верхние веточки, почти голубые, были так нежны, что если очистить, то и есть можно с грехом пополам. Среди этой молодежи, – как видно, отец ее, оставленный когда-то при рубке для обсеменения, – стояло огромное засохшее дерево. Отживший семенник как бы полулежал на молодых, раскинув по небу свой черный, очень сложный скелет, только на самом верху его был небольшой завиток с зелеными иголками. Любуясь причудливым сплетением черных сухих веток на фоне ясного неба, я захотел сделать снимок старика а для точности фокуса стал проверять расстояние от себя шагами. Нечаянно бросив взгляд на ствол падающего дерева, я вздрогнул и чуть не выронил аппарата из рук. Я вынул книжечку, сличил, и да! – та же самая рука, только еще лет на десять глубже в историю, вырезала и на этом стволе эти буквы: О-Н-Ч-К-Н-Д-С.
На клюквенной тропе от давления ног обнажаются корни деревьев и очень мешают ходить, а еще от давления ног понижается грунт, с ближайших моховых кочек влага стекает сюда, и оттого рядом с тропой по обе стороны флора изменяется, вместо баговника вырастают какие-то злаки с очень худыми метелочками на тончайших высоких стеблях и с бледно-зеленой травой. Так точно и люди в этих отставших от общей жизни селениях. Нет, конечно, это не мох, это настоящие люди, но, как болотные злаки, они худые и с бледно-зелеными лицами. Не нужно мне лиц этих, не нужно голосов, я во мхах на огромном расстоянии, среди редких желтеньких сосен, густо-зеленого баговника, лилового вереска, голубых и красных ягод, вижу бледную зелень и всегда безошибочно говорю: это тропа человеческая. Как в этот раз я обрадовался, заметив но зелени выход из мха! Очень недолго пришлось мне брести клюквенной тропой; перейдя заросшую ольхой топкую приболотицу, журавлиху, я очутился на сухом берегу среди множества стоптанных лаптей: это место было моховым женским клубом, тут усталые клюквенницы на сухом берегу отдыхают, поджидают других, бросают стоптанные за день лапти, обувают другие, тут одни хвалятся множеством собранной ими за день клюквы, другие жалуются на недород и свое множество ягоды в корзине сверху прикрывают сыроежками. В этой стороне за мхом я еще никогда не бывал и стал дожидаться женщин, чтобы узнать от них, какая тут вблизи деревня, и у кого спокойней будет мне переночевать, и кто лучше всех может меня поутру провести к Малому Туголянскому озеру. Ближе и ближе слышались голоса – перекличка женщин во мхах, – стали показываться их головы и большие белые корзины.
Мне сразу же назвали одного старика, первого ягодника, грибника, знатока всего леса в краю. «Петр Ефимыч, – говорили они, – летом и осенью из леса не выходит». Рассказывали жуткую историю его столкновения с сыном из-за снохи, что сын будто бы через это погиб. В крестьянском быту, как в лесу, много бывает такого; что там на деревьях оставляет узлы, то у людей наплывает и держится в памяти. «А может быть, – думалось во время этого рассказа, – и все наше радостное чувство природы такого происхождения: от большой беды в первый раз пошел этот человек бродить по лесу за грибами, за ягодами, да так полюбилось, что теперь и не помнит и не знает, отчего все началось, думает, от радости, а оно от великого начального своего горя».
Вечером я не застал его дома, а утром до солнца он сам явился ко мне с лукошками в руках и валенками, такими старыми, что через их окошко в подошве виднелось избяное окно: такие валенки часто берут с собой в лес старики ноги погреть после холодной росы. Вокруг темно-красного лица старого грибника везде торчали седые пуки, нос ястребиный, глаза, еще вполне живые, смеялись. Мы пошли в мох, я приготовился выслушать тяжелый рассказ наверно же все-таки как-нибудь да наказанного жизнью отца. Я задал моему спутнику вопросы, близкие к этой теме, не потому что очень уж любопытствовал, – напротив: чтобы поскорее отделаться от неизбежного рассказа и потом без помехи греховной отдаться лесным впечатлениям. Утро было мое любимое, когда солнце чуть прикрыто легкими облаками и оттого в природе становится все как бы задумчиво и глубоко. Старик, однако, как мне казалось сначала, очень ловко зачем-то увертывался от моих вопросов и все сводил к любимой своей клюкве: оказывается, зеленая клюква тоже годится, в чаю она лучше лимона и как будто даже помогает против изжоги, а клюква-веснянка, пролежавшая зиму под снегом, совсем сладкая. Чего-чего только не пересказал мне о клюкве старик, потом о бруснике, чернике, гонобобеле! Мало-помалу я стал понимать, что старик или очень умен, или особенно по-умному прост: может быть, он даже и не понимает моего подхода, и, если бы я просто спросил, он просто бы ответил. Но зачем же мне выспрашивать у человека о том, что он уже пережил?
Мы скоро пришли к Малому Туголянскому озеру, я вчера блуждал очень недалеко от него потому, что мне грубо соврали: сворот от Шусты был не в сотне шагов, а почти что в километре. Это озеро несколько меньше Большого и вытянуто, а не кругло, бор на берегу его в два яруса, молодой впереди у самого берега, старый дальше виднелся за просекой. Красивы береговые травы и моховые деревья на фоне воды, я тут много фотографировал, а старик занялся костром и кипятил чайник. Ничего нет прекрасней для меня таких лесных чаепитий. Мы пили и кисленькую ягоду доставали, не трогаясь с места, возле себя. Мне думалось теперь, за этим чаем, что, конечно, и у ягод в прошлом была тоже беда и все-таки вышли же они в свое бессловесное свидетельство жизненного блага. Так с этими разными мыслями, вероятно, я и прикорнул, прислонившись к стволу дерева. Потом я не поверил сначала глазам, мне думалось, я это вижу во сне: в трех шагах от меня, по ту сторону костра, старик вырезал те самые, два раза в разных местах уже встреченные мною, буквы: 0-Н-Ч-К-Н-Д-С. Буквы располагались одна от другой с большим знанием дела, именно так, чтобы обогнуть равномерно весь ствол березы. Сначала старик стоял ко мне задом, и я не мог рассмотреть, с каким лицом он писал. Когда же он завернул, то мне показалось, будто он во всю щеку улыбался, и только уж когда он оказался против меня, я увидел, что это не от улыбки вздулась щека, а только от большого старания: писатель высунул язык, держал его наружи желтыми зубами как бы в помощь своему писанию, и оттого щеки сложились в улыбку.
– Что это значит такое? – спросил я, когда старик, обойдя березу, убрал язык и, думая, что я все еще сплю, поглядел на меня, как на мальчика, которому он приготовил чудесную игрушку.
– Что это значит? – повторил он, закрывая глаза от наслаждения.
С любовью он оглядел кругом всю свою надпись, что-то заметил, стал поправлять, а желтые зубы опять захватили красный язык в помощь писанию.
– Что это значит? – повторил он еще раз у костра и принялся рассказывать.
Было это, конечно же, в некотором царстве, в некотором государстве при царе Горохе. Однажды солдат, постоянный герой старых сказок, шел лесом и увидел на дереве вырезанные буквы: О-Н-Ч-К-Н-Д-С. Долго думал солдат и надпись эту разгадал в таком смысле: О/тсюда Н/едалече Ч/етыре К/очки Н/айдешь Д/енег С/умму. Солдат, разобрав надпись, пошарил поблизости, нашел четыре кочки, а возле них была сумма денег. В деревне как-то пронюхали, что солдат нашел сумму денег. Явились чиновники, деньги взяли, а солдата отдали под суд. Выслушав рассказ солдата, судьи отправились на место, увидели надпись, четыре кочки и ямку, где прежде лежали деньги. Думали-думали судьи, и пошла у них разнодырица: одни стояли, чтобы деньги у солдата взять, другие отдать. Глядел-глядел на них солдат и говорит: «Праведные судьи, прошу я вас, прочитайте надпись с другой стороны». Бились-бились судьи, а надпись все-таки прочесть не могли. «Разрешите, праведные судьи, – попросил солдат, – мне самому прочесть». Судьи разрешили, и солдат прочитал: «С/умму Д/енег Н/ашел К/азенный Ч/еловек Н/адо О/тдать». «Надо отдать!» – в один голос сказали все праведные судьи. И отдали деньги солдату за его счастье и ум.
И все!
– А что это значит? – спросил я. – Вчера видел я старое семенное дерево, и на нем были вырезаны эти же буквы и, видно, лет пятнадцать тому назад или больше.
– Больше! – воскликнул Петр Ефимыч. – Лет тридцать.
И стал рассказывать, как он написал это одному министру во время волчьей облавы: дерево это и тогда уже было старое. А еще надпись была одному охотнику, богатому англичанину, и последняя – видному советскому деятелю, тоже охотнику. Теперь он на дереве пишет мне за то, что я снял его карточку, он знает наверно, что мне понравится: всем очень нравилось.
Долго не мог я опомниться, захлебываясь в только что услышанной чудовищной глупости, но мало-помалу стал улыбаться старику и понимать. Правда, если это считать за глупость, то как же все то во мхах, веками берегущих для нас солнечную энергию: мох весь растет этим умом. Была вода и закрылась зеленью, на этой зелени еще зелень и еще…
…Где-то в итальянских болотах вымерили нарастание торфа со времени перехода там Юлия Цезаря, разложили по столетиям и так поняли сроки поспевания сфагновых мхов. Вероятно, прошли многие тысячелетия у нас, пока суша отвоевала себе на воле местечко и на нем утвердилось дерево. Потом пришел человек и от своего большого горя, развлекаясь, написал что-то на дереве. Потом пришел другой человек, такой одинокий, что счастье себе нашел в этой надписи…
Так мох растет медленно, откладывая солнечную энергию на счастье далеких и неведомых нам поколений.
Комментарии
Список условных сокращений
ИМЛИ – Отдел рукописей Института мировой литературы АН СССР им. А. М. Горького, Москва.
ЛИ – «Литературное наследство».
Собр. соч. 1929–1931 – М. М. Пришвин. Собр. соч. в 6-ти томах. М.-Л., Гослитиздат, 1929–1931.
Собр. соч. 1935–1939 – М. М. Пришвин. Собр. соч. в 4-х томах. М., Гослитиздат, 1935–1939.
Собр. соч. 1956–1957 – М. М. Пришвин. Собр. соч. в 6-ти томах. М., Гослитиздат, 1956–1957.
ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва.
Третий том включает в свой состав произведения 20-30-х годов, которые сам Пришвин относил к охоте и природе.
В середине 20-х годов творчество Пришвина поднимается на новую высоту, к нему приходит признание советского читателя, и сам он в это время осознает свою творческую зрелость. Изменяется круг тем и идей. Природа и охота становятся строительным материалом лирической философии писателя Пришвина, которого Горький, прочитав «Родники Берендея», не без основания, и сейчас это особенно ясно, назвал творцом нового мироощущения: «Вы <…> утверждаете совершенно оправданный, крепко Вами обоснованный геооптимизм, который рано или поздно человечество должно принять <…>. Ведь если человеку суждено жить в любви и дружбе с самим собой, со своей природой, если ему положено быть „отцом и хозяином своих видений“, а не рабом их, – каков он есть ныне, – к этому счастью он может дойти только Вашей тропой»[11].
Об этой главной тропе своей жизни Пришвин рассказал в автобиографическом очерке «Охота за счастьем» (1926).
Охота за счастьем началась в детстве с путешествия в какую-то не очень ясную страну Азию. Закончилось оно неудачно, и насмешки товарищей по гимназии поставили перед будущим писателем вопрос об отношении сказки (мечты) к жизни – вопрос, который мог бы решиться в дальнейшем как разрыв мифа и бытия. Но всякое царство, разделенное в себе, да погибнет, разъединение – не принесет счастья. И Пришвин в результате длительных и трудных поисков приходит к осознанию единства жизни (бытия) и искусства (мифа). Возникло это во время путешествия и охоты в Олонецкой губернии, где Пришвин записывает «просто виденное». «Теперь я думаю, что каждый художник непременно является и наивным реалистом, и верит, что мир именно такой и есть, каким он его воспринимает» («Охота за счастьем»). Мир предстает как миф (легенда) или сказка, о таинственном значении которой Пришвин догадывается через себя самого, то есть через свой опыт жизни и творчества.
Вопрос о действительности и сказке разрешился в пользу сказки, мечты, которая жизнью должна быть доказана как реальность, и сама жизнь предстает, таким образом, как осуществление мечты и цели, которая в детские годы представлялась страной Азией, а в зрелые годы разбитой Кащеевой цепью. «Для меня охота была средством возвращения к себе самому», – пишет Пришвин в «Охоте за счастьем». Но это ли счастье – вернуться к себе? «Да, – утверждает Пришвин, – это величайшее счастье, когда исчезает обман собственности и на это место становится весь мир, как родной и прекрасный». Когда в душе весь этот мир, вернуться к себе – действительно, великое счастье. Это жизненная философия Пришвина, это его творческий принцип.
Пристально вглядываясь в мир, Пришвин постепенно воспитывал в себе родственное внимание ко всему окружающему, – стремление узнать себя в мире природы, в ее законах, найти соответствие состоянию природы в своем внутреннем мире, в своей душе. Это родственное внимание открыло Пришвину жизнь как творческий процесс в природе.
В 20-е годы Пришвин весь в «лабораторной работа», он вырабатывает малую литературную форму, называя ее очерком. Эта работа «помогла ему прийти к его вещам малой формы и повестям, и рассказам о природе, как части человеческого общества» («Мой очерк», 1933).
«Мой очерк» – работа, обобщающая найденное в 20-х годах, работа теоретическая, посвященная вопросам творчества. Но не только. Как справедливо замечено литературоведом А. И. Хайловым, на первый план выдвигается мысль «о познавательном значении литературы»[12]. Познание жизни – одна из главных задач реалистической литературы, и Пришвин отстаивает этот важнейший принцип в борьбе с узкими литературными группировками. Опираясь на слова Блока о книге «Колобок»: «Это, конечно, поэзия, но и еще что-то», – Пришвин поясняет: «Это что-то – от ученого, а может быть, и от искателя правды» («Мой очерк»).
В «Моем очерке» (1933) Пришвин своеобразно пытается определить свой метод художественного изображения жизни: «Настоящий реалист, по-моему, это кто сам видит одинаково и темное и светлое, но дело свое ведет в светлую сторону и только пройденный в эту светлую сторону путь считает реальностью». По-видимому, Пришвина чрезвычайно интересовал сам процесс перехода и преображения жизненного материала в литературное произведение. Об этом он много пишет в «Моем очерке».
Умение очеркиста заключается прежде всего в способности ограничить жизненный материал, который перейдет в очерк, так, чтобы все было на виду, чтобы был «замкнут круг», то есть в очерке не должно оставаться не проработанного материала. Затем, как говорит Пришвин, он «старался расплавить в каждом своем очерке какое-то трудное что-то». Преображение изображаемого мира в литературную форму происходит у Пришвина «исключительно ритмикой нарастающего чувства, приближающего его к материалу». Слияние своего «я» с лицом изображаемого края, благодаря родственному вниманию к материалу, «выявляет нам лицо самой жизни», культурный слой в природе, родственный, по мнению Пришвина, человеку.
Пришвин особенно настаивал на том, что все его произведения очеркового характера. Между тем сам же писал: «А может быть, очерк вовсе и не форма? Я склонен думать, что это только самое первое зарождение литературной формы, узловая точка, от которой расходятся линии. Мне говорит об этом вся практика моего писания, которая всегда начиналась очерком и только после рассматривалась как рассказ, повесть или роман». Такая неопределенность в осознании жанровой формы своих произведений кажется нарочитой, но свидетельствует лишь о непрестанном поиске художественного совершенства, который всегда приносил Пришвину радость творчества.
«Мой очерк» был напечатан в «Литературной газете» с сопроводительным письмом Горького: «„Мой очерк“ я воспринимаю как совершенно исключительную и почти удачную попытку самопознания и счастливый случай почти верной самооценки. Почти, ибо при всей искренности „Очерка“ автор его – на мой взгляд – недооценивает значения своей работы, хотя и говорит о своем „опыте применения художественного дарования для качественного краеведческого изучения“, для „создания лица края“. Я не уверен, что сумею выразить мою мысль с достаточной ясностью, но для меня ценнейший смысл работы Пришвина сводится именно к его поразительному умению создавать словами лицо его земли, живой образ его страны. Речь идет, конечно, не о пейзаже, для Пришвина пейзаж – одна из деталей его поэмы, которую ему угодно именовать „художественным очерком“. Он сам признает, что в его книгах есть „что-то не от поэзии“ и есть нечто „более сложное, чем искусство“.
Вот это и является для меня самым драгоценным, ибо это я воспринимаю, как замечательное гармоническое сочетание поэзии и знания, возможное только для человека, который любит знать и в любви своей ненасытен. Это – завидное и редкое сочетание; я не видел и не вижу литератора, который умел бы так хорошо, любовно и тонко знать все, что он изображает <…>. Мне нужно сказать о нем, что в его лице я вижу как бы еще несовершенный, но сделанный кистью талантливого мастера портрет литератора, каким должен быть советский литератор» («Литературная газета», 1933, 11 апреля, № 17).
Пришвин так высоко ценил этот отзыв, что с тех пор включал его и в собрания сочинений, и во многие другие издания. Высокая оценка работы Пришвина была дана своевременно. Рапповская критика резко отзывалась о произведениях Пришвина. Его упрекали в однобокости, критиковали за подход к народу не с политической стороны, а со сказочной. «Творимая легенда о берендеевом царстве – это, по существу, опоэтизация остатков древней дикости, идеализация и идиллизация тьмы и суеверия, оправдания старины, а следовательно, один из способов борьбы против нашей советской культуры», – писал критик А. Ефремин («Красная новь», 1930, № 9-10, с. 219).
«Мой очерк» и «Охота за счастьем» служат, как справедливо отмечено в критике, своеобразным введением в творчество Пришвина не только 20-30-х годов, но и вообще во всё его творчество. В статье «Желанная книга» Пришвин заметил, что им «делается все время одна и та же единственная книга»[13]. Конечно же, речь идет прежде всего о единстве тем, идей, образов, волнующих автора, и это внутреннее единство отразилось, например, и в том, что Пришвин свободно менял составы очерков в ряде своих книг, перетасовывал свои очерковые циклы, то изымая часть очерков, то вновь включая их в цикл. В «Моем очерке» и «Охоте за счастьем» это внутреннее и внешнее единство утвердил сам автор.
Пришвина постоянно занимала проблема мастерства, и проблема прежде всего собственного творчества, хотя о своих произведениях Пришвин не любил говорить – «мое творчество».
В 1929 году в журнале «Новый мир» была напечатана «Журавлиная родина» – книга о творчестве. Она имеет сложную историю создания. Вначале в ее состав должны были войти детские и охотничьи рассказы, и ранее опубликованные, и написанные вновь. Книгу Пришвин хотел посвятить Горькому в связи с приближающимся юбилеем писателя. Сохранившиеся черновые наброски и планы свидетельствуют, что если бы она была создана, то очень напоминала бы «Родники Берендея» и в целом весь «Календарь природы» – с хронологическим, по сезонам, или, как говорил Пришвин, фенологическим расположением рассказов. Так она и начинается – с первого весеннего прилета неизвестных птиц. Далее повествование должно было разворачиваться «под диктовку» весны, лета, осени, зимы – то есть фенологически, начиная от «времени первого пробуждения творчества в природе».
Приближение к природе, слияние с ней требовали от писателя естественного подчинения законам природы, ее развитию. Но весна задержалась, то есть в природе задержалось весеннее творчество жизни, и, следовательно, писатель оказался вне творческого сотрудничества с природой, к которому он и природа «привыкли за много лет». Разъединение писателя с природой вернуло его в сферу профессиональных интересов, и на первое место встали вопросы собственного творчества, вопросы писательского мастерства. Так началась книга о творчестве. «Я начинаю „Журавлиную родину“, повесть о творчестве Алпатова, которая, быть может, потом будет звеном целой книги о творчестве».
Книга многопланова и многотемна, но среди дневниковых записей, самостоятельных рассказов, очерков, критической статьи, философско-лирических отступлений проступает объединяющая их главная тема – творчество. Пришвин труд писателя понимает как часть общего творчества жизни. Он раскрывает читателю свою лабораторию, пробуя три начала романа об Алпатове. Как справедливо пишет исследовательница творчества Пришвина Т. Хмельницкая, не так важны предполагаемые варианты начала романа, сколько мотивы, по которым они отвергаются Пришвиным[14].
В первом начале романа («Торф») – лирическом вступлении – проглядывает содержание всего романа и, следовательно, конец. О чем же писать? Второе начало должно связать новую часть с прежде написанными, то есть традиционно формальное начало, но готовая форма не устраивает Пришвина, нет «радостного труда совершенствования формы», нет творчества. Намечается новое решение: «Мне пришла в голову мысль сделать из себя не летописца, а исследователя жизни. Кран, где Алпатов действует, у меня под рукой, и, таким образом, роман будет перекличкой поступающей в мое сознание действительности с легендой об инженере Алпатове…» И третье начало («Морены») соответствует этому замыслу, но оказывается всего лишь «лишними мыслями». Пришвин не может писать об Алпатове, не оглядываясь на пройденный им путь. Он должен прежде сам его пройти, то есть согласовать свое творчество с творчеством природы, куда приведет Алпатова его дорога. И писателю становится ясно, что Алпатов не может стать героем нового романа, – так появляется подзаголовок «Журавлиной родины» – «Повесть о неудавшемся романе».
С окончанием романа об Алпатове закончилась первая половина книги и началась собственно книга о журавлиной родине, в которой современные теоретические рассуждения о творчестве переходят в повесть о крае: о большом болоте – журавлиной родине, об озере и необыкновенной в нем водоросли – Клавдофоре, в которой и тайна, и «игра, лежащая в основании творчества».
Пришвин утверждает свое понимание сущности и истоков творчества. Называя свои рассказики «вечными игрушками», он видит в них большую силу, родственную силе творения бытия, преобразующей хаос в космос, подчиненный уже законам. И тут Пришвин подводит читателя к одной из главнейших и существеннейших мыслей своих о согласовании творчества человека с творчеством природы и о творчестве как свободном и полном раскрытии своих возможностей.
К середине 20-х годов Пришвин создал много коротких рассказов и очерков о природе и охоте. Случайная встреча с географами, собиравшимися вести фенологические наблюдения, подсказала ему принцип фенологического расположения накопленного материала: от весны до зимы. На этой основе возникла циклизация его многочисленных, рассказов. В 1925 году он издает «Родники Берендея» с подзаголовком «Из записок фенолога с биостанции „Ботик“» – это была первая часть («Весна») будущей книги «Календарь природы». «У нас, фенологов, – говорит Пришвин, – весна начинается прибавкою света». Ученый-исследователь последовательно и точно день за днем фиксирует изменения в природе, а поэт описывает их влияние на жизнь края и его обитателей. В книге есть что-то от ученого, но больше от художника.
Фенологический характер этой книги проявляется в том, что Пришвину удалось действительно от рассказа к рассказу показать наступление нового времени года в его нарастающих отдельных приметах, то есть всего того, что кажется нам непрерывным в природе. В полном согласии с этими изменениями в природе изменяется и герой повествования. Так природа любимого края становится зеркалом человека: «Чтобы понимать природу, надо быть очень близким к человеку, и тогда природа будет зеркалом, потому что человек содержит в себе всю природу» («Календарь природы»).
Критика встретила «Родники Берендея» благожелательно. «Это очаровательная лирическая поэма в прозе… Нежные грезы поэта-охотника переплетаются в ней со строго научными наблюдениями исследователя-натуралиста… Тонкий наблюдатель и не менее искусный стилист, одаренный чуткостью ритма и слова, М. Пришвин в своих „ответных движениях“ иногда откликается улыбкой на улыбку природы, иногда же „позволяет себе роскошь домашней философии“. Может быть, любителям копаться в родословной художественных настроений не трудно будет установить некоторую преемственную связь между исследовательской, лирикой Пришвина и пантеистическим раздумьем Кнута Гамсуна или философскою живописью Шеллинга, но никто не может упрекнуть Пришвина в банальности», – писал Л. Войтоловский, верно передав общее отношение к «Родникам Берендея»[15].
Современные исследователи устанавливают связи пришвинского очерка о природе и охоте с творчеством Аксакова, Тургенева., Чехова и особенно Льва Толстого.
Это справедливо и не вызывает возражений, если критика не забывает при этом, что у Пришвина особый, не традиционный, путь в искусстве. И он сам обращает наше внимание на эту особенность своего творчества: «Мои записки не условная и любимая мной литературная форма, а действительно записки под диктовку весны – почти без всякой последующей обработки и связанные только силой движения в природе, вызывающей ответное движение в душе человека» («Календарь природы»). Эта мысль повторяется и в дневниках писателя: «Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, на этом уменье передавать гениальность творчества самой, жизни в ходе ее по особенным случаям основано все мое искусство и собственное мое мнение о себе, как об исследователе и летописце жизни, и устремление мое к природе и массам» (1927).
Человек и природа – тема этическая, социальная и философская. Пришвин родственным вниманием к природе, вживанием в нее переводит «Календарь природы» в этический и философский план. Читая «Календарь природы», хочется сказать словами тургеневского героя: «Природа не храм, и человек в ней работник». Но смысл здесь несколько иной. Пришвину чуждо нигилистическое отношение к природе, он и «природа» находятся в сотворчестве, в единстве они творят бытие, то есть тот мир, венцом созидания которого явился человек. Таково нравственное отношение человека к природе. Как удачно заметила Т. Хмельницкая: «Календарь природы становится календарем души» (с. 167).
Пришвин разгадывает мир природы и мир животных «по себе», причем изображение и познание идет не вширь, а вглубь, – метод, свойственный вообще естественным наукам в начале XX века. «Я брал мелочи», – заявляет Пришвин, и из сопоставления мелочей – день за днем – «получалась картина движения планеты» («Календарь природы»).
Переосмысливая философско-эстетическое убеждение Гоголя в том, что действительность общественно-исторической жизни складывается из мелочей, что из их противоречивого многообразия складывается картина общественного бытия, можно сказать, что Пришвин изобразил в «мелочах» природы ее «действительность» и нравственно-психологическую жизнь естественного человека в ней.
Пришвин создает образ Берендея, человека, обретшего родину – страну берендеев. Он царь страны берендеев. Конечно, это игра, игра ребенка в царство, которая, как утверждал Пришвин в «Журавлиной родине», является началом и истоком искусства, его сущностью. Родники Берендея суть родники творчества.
Есть в творчестве Пришвина грустный лирический мотив – тема утраченного личного счастья. Но взамен человеческой любви пришла всепоглощающая любовь к природе. Словно экстаз любви передает Пришвин свои ощущения от счастья слияния души с природой: «Брызнуло золотом света само солнце, и тогда все журавли хором ударили: „Победа, победа!“ Я замер в ознобе восторга. Я хорошо помню, отчего это случилось со мной: тень прошла во мне от „последней рассеянной тучи“, луч пронзил меня и с ним: „Вот теперь это прошло уже навсегда!“ („Заутреня“). Но грустный мотив одиночества почти всегда бывает побежден пафосом праздничного и любовного восприятия природы. „Геооптимизм“ Пришвина, о котором говорил Горький, – это нравственно-философская основа его творчества. Сам он назвал эту основу в письме к Горькому – „витализмом“ (от лат. vita – „жизнь“)»[16].
В циклы «Лето», «Осень» и «Зима» входят в основном охотничьи рассказы Пришвина. Охота, как и природа, подводит Пришвина к открытию человеческой природы, к открытию в человеке утраченного им единства с миром животных. Особенно его занимает жизнь охотничьих собак, животных высшей породы, как называет их Пришвин. Он ведет «психологические раскопки в собачьей душе». В черновом варианте «Моего очерка», говоря о себе в третьем лице, Пришвин писал: «Пришвин, <…> благодаря своей необычной близости к материалу, или, как он сам это называет, родственному вниманию, одушевляет животное и дает нам его собственное лицо. Благодаря своей упорной работе над очерком в смысле чрезвычайного сближения своего с материалом, он становится похож на первобытного анимиста, представляющего себе все сущее как люди: птицы, звери, растения, даже скалы – все это в его изображении живет как люди. В этом отношении Пришвин еще не нашел серьезного своего истолкователя» (ЦГАЛИ).
Иному читателю покажется противоречием, с одной стороны, утверждать единство человека с природой и животным миром, с другой – убивать птиц и животных. Но и в охоте есть своя этика поведения, которая воспитывается с детства: «Ради меткого выстрела мои дети не загубят жизнь, они убивают только, что мы едим и что можно сохранить для музея», – пишет Пришвин. И все же в представлении некоторых охота связана с жестокостью, то есть по природе своей аморальна. Пришвин не ушел от такого вопроса. Его очерк «Медведи» («Календарь природы») вызвал резкий протест литературного критика Д. Л. Тальникова: «Расстраивать, вносить дезорганизацию в душевный мир искусство не должно: значит, оно слишком натуралистично, близко к жизненному факту… Должен ли быть поэт, каким являетесь Вы, безжалостным анатомом и по-научному подходить к исследованию жизни, к разрезанию ее на части? Вы, как анатом, производите эксперимент и над собою, и над природой, режете ее и наблюдаете с острым холодком любопытства… Ложное, нехорошее чувство легло в основу рассказа. Это чувство – жажда убийства невинного зверя»[17]. Действительно, сам очерковый прием Пришвина при описаниях гармоничного состояния природы, может быть, и не виден, но в передаче напряженного и драматичного состояния Пришвин как будто бы натуралистически копирует жизнь. Но это не так и, разумеется, «наивный реализм» Пришвина весьма далек от натурализма. В дневнике от 30 июля 1927 г. Пришвин писал: «считаю необходимым для себя изучение натуры и вижу в этом изучении один из способов преодоления натурализма и обретения свободы своего воображения. Иному это, может быть, совершенно не нужно и даже вредно, потому что он ходит по своей вольной волюшке. Но мне это необходимо, как тюрьма для выяснения чувства свободы».
Пришвин ответил на письмо, что в «Огоньке» посредством фотографий было подчеркнуто не поэтическое, а очерковое значение рассказа. Пришвин соглашается, что в охоте есть жестокость, но это «безвинная страсть». Пр существу, охотник не жесток, поскольку прежде всего он заботливый хозяин (там же).
Охота – спутник жизни Пришвина с детских лет и до последних дней жизни. «Одно для меня ясно, что охота неразрывно связана с детством, что старый охотник – это человек, до гроба сохраняющий очарование первых встреч ребенка с природой», – пишет Пришвин («Охота за счастьем»). Сохранив в душе своей ребенка, Пришвин приобрел удивительную свободу писать свои рассказы и очерки одинаково интересно для детей и взрослых. Среди охотничьих рассказов Пришвина есть давно сложившийся и устоявшийся цикл, названный им «Охотничьи были и сказ». В этот цикл входят рассказы, которые заслуженно признаны классическими детскими рассказами.
Свое отношение к детскому рассказу Пришвин сформулировал так: нет резкого отличия между творчеством для детей и взрослых. С детьми надо говорить так же на равных правах, только, возможно, короче и сердечней. Умеренная дидактика, как известно, не вредит детскому рассказу, но Пришвин обосновал возможность обходиться без дидактики. В его рассказах морали нет ни в открытой, ни в закрытой форме, и тем не менее пришвинские «рассказики» оказывают огромное влияние на духовный мир ребенка. Здесь проявляется особенное его умение включить ребенка в познание мира без заранее намеченной цели.
В «Рассказах егеря» мы видим все тот же принцип вживания в природу – родственное внимание к окружающему миру. Обладая удивительным даром рассказчика – просто говорить о простых вещах, – Пришвин тем самым как бы воссоздает «документальность» события. Высокое благородство простоты заметно и в том, что Пришвин не гоняется «за словом», он ищет характерную обстановку, находит ее в местечке Зимняк на Дубне, в трактире Ремизова, и воспроизводит ее, считая «ключом всей устной словесности Московского Полесья». Здесь он услышал рассказы о Ленине от егеря Алексея Михайловича Егорова. Сохранив простоту рассказа егеря, Пришвин передал народное восприятие и дела, и облика Ленина. И это восприятие, как видно, поразило самого писателя, открыло ему в облике вождя новые черты, близкие и дорогие народу. В 1953 году он пишет: «Больше всего из написанного мною, как мне кажется, достигают единства со стороны литературной формы и моей жизни маленькие вещицы мои, попавшие и в детские хрестоматии. Из-за того я их и пишу, что они пишутся скоро, и пока пишешь, не успеешь надумать от себя чего-нибудь лишнего и неверного, – Грибоедов чудесно сказал: „Пишу, как живу, и живу, как пишу“» («Кащеева цепь»).
Большинство исследователей жизни и творчества Пришвина отмечают трудные поиски правильного подхода писателя к послереволюционной действительности. Стремление разобраться в противоречиях переходного периода приводит Пришвина к новому жанру – «исследованию журналиста». В 1923 году он написал очерк «Домашние боги» о башмачниках и вскоре получил от Организационного бюро центрально-промышленной области при Госплане задание провести художественно-социологическое исследование быта башмачников. Пришвин создаст ряд «производственных» очерков, в том числе «Башмаки», «Торф», «Мох». И в очерке «Башмаки», и в очерке «Торф» Пришвин выступил против обезличивания труда. Исследуя организацию труда и быта рабочих, он показывает, как все это связано с производительностью труда и что правильное решение этих вопросов может оказать сильнейшее влияние на становление и сплочение коллектива и воспитание человека в нем.
Но Пришвин-художник в «производственных очерках» не подчинился вполне Пришвину – публицисту и исследователю. Он верен себе, он знает, что «физиономия» местного человека определится сама, если он правильно поймет его естественную жизнь в природе, то есть через лицо края он воссоздаст и лицо рабочего человека. В результате такого подхода у очеркиста складывается определенное представление о человеке, или, как говорил Пришвин, «центральное ощущение», вокруг которого он располагает и весь остальной материал – прием, используемый ныне широко в художественной публицистике.
«Я уверен, – писал Пришвин в очерке „Девятая ель“, – что всякую газетную статью, рецензию, даже книгу чисто техническую можно написать как роман, если поэт постарается в своей творческой личности подыскать точное соответствие факту и согласовать с ним себя самого» («Октябрь», 1930, № 3, с. 124).
Критика заметила эти очерки, вокруг них завязалась полемика. «Исследование журналиста» Михаила Пришвина производит странное впечатление… Михаил Пришвин развел ненужную болтовню «о том, о сем» на восьмидесяти шести страницах. Кимровского башмачника и его башмака не видно… Пришвин идеалом подхода к деревне считает «Письма из деревни» А. Н. Энгельгардта, того самого Энгельгардта, против которого много язвительных страниц написали Плеханов и Ленин… В результате – «исследование журналиста», начиненное эсеро-народнической идеологией, и идеализация кустаря, «как всемирного противника механизации, артиста», – писал критик К. Грасис[18]. С ним полемизировал Н. Замошкин, один из первых исследователей творчества Пришвина. «Ценность „Башмаков“ заключается, между прочим, в искусном сочетании исследовательского метода с художественным познанием. Выбору и реконструкции фактов, их социологическому освещению предшествует не критика источников, а художественное приятие их…»[19]
В 1933 году в «Моем очерке» Пришвин подвел итог своей почти тридцатилетней деятельности писателя. Он обратил внимание читателя на главную особенность своего творчества – постоянство избранной им художественной формы.
Несомненно и другое – все его творчество 20-30-х годов проникнуто патриотическим пафосом. Любовь к Родине направляет его творчество, и оттого ведет он свое дело «только в светлую сторону», добиваясь кристальной чистоты мысли и пластичности художественной формы.
Мой очерк*
Впервые – «Литературная газета», 1933, 11 апреля, № 17, с примечанием: «Из доклада на творческом вечере секции краеведения». Доклад был сделан в оргкомитете Союза советских писателей СССР и РСФСР в феврале 1933 года. Авторизованная машинопись доклада сохранилась в ЦГАЛИ. С сокращением вошел в книгу «Скорая любовь» (М., ГИХЛ, 1933). В дальнейшем печатался без изменений.
Печатается по четвертому тому Собр. соч. 1935–1939.
Начал писать только в 1905 году… – Первый рассказ Пришвина «Домик в тумане» не был опубликован, но в газетах «Русские ведомости», «Речь», «Утро России», «День» появляются небольшие очерки-зарисовки. См, например: «Манифест в деревне». – «Русские ведомости», 1905, 26 ноября, № 312.
Оволение. – Неологизм. Внесение в материал своей творческой воли, «родственное внимание» к нему, как говорил Пришвин.
Александр Блок сказал: «Это, конечно, поэзия, но и еще что-то». – В своей статье «М. Пришвин. У стен града невидимого» Блок дал краткую характеристику очерков Пришвина: «М. Пришвин владеет литературной формой далеко не так свободно, как языком. От этого его книги, очень серьезные, очень задумчивые, очень своеобразные, читаются с трудом. Это – богатый сырой материал, требующий скорее изучения, чем чтения; отсюда много могут почерпнуть и художник, и этнограф, и исследователь раскола и сектантства» (А. А. Блок. Собр. соч., т. 5. М.-Л., 1962, с. 651).
Критиком, назвавшим Пришвина бесчеловечным писателем. – Вероятно, речь идет о З. Н. Гиппиус, отличавшейся реакционностью своих взглядов; она писала: «…при обычной яркости и образности языка, при всей художественности его описаний он сам до последней степени отсутствует; и это делает его очерки или дикими от бессмыслия, или просто-напросто этнографическими» (Антон Крайний (псевдоним). Литераторы и литература. – «Русская мысль», 1912, 0Y2 5, отд. 2, с. 28–29).
Всемирную катастрофу Августа Бебеля… – А. Бебель (1840–1913) – лидер немецкой социал-демократии. Пришвин переводил работу Бебеля «Женщина и социализм». См. в «Кащеевай цепи» в главе «Расстрел васильков» описание всемирной катастрофы, которая снится герою.
Тюрьма, ссылка… – Весной 1897 г. Пришвин был арестован, заключен на полгода в тюрьму, а затем выслан на родину, в с. Хрущево под гласный надзор полиции.
Поездка в Германию для свидания с Бебелем, Либкнехтом… – В 1899 г. Пришвин уехал в Германию. В. Либкнехт (1826–1900) – один из руководителей немецкой социал-демократической партии.
Лекции Зиммеля, Риля, теоретические политико-экономические изыскания в семинариях Бюхера… – С весны 1901 по весну 1902 г. Пришвин учился в Лейпцигском университете на агрономическом отделении философского факультета, где и посещал лекции и семинарские занятия названных преподавателей. Г. Зиммель (1858–1918) – немецкий философ-идеалист, социолог. А. Риль (1844–1924) – немецкий профессор философии. К. Бюхер (1847–1930) – немецкий буржуазный экономист.
…Ремизов имел революционную прививку и дружил с Каляевым. – А. М. Ремизов (1877–1957) – русский писатель, за участие в студенческих выступлениях в 1897 г. был арестован. В тюрьме и ссылке провел около шести лет, но революцию 1917 г. встретил враждебно и в 1921 г. эмигрировал. Первые произведения Ремизова имели, по мнению Пришвина, либерально-демократическую направленность, но в дальнейшем в них проявилась враждебность революционно-демократическим силам, искусственность, вычурность и манерность, по определению Горького, который считал, что «связь Пришвина с Ремизовым печальна и опасна Пришвину» (письмо А. Н. Тихонову от 5 (18) мая 1911 г.; архив Горького). И. П. Каляев (1877–1905) – член «боевой организации» эсеров, за убийство московского генерал-губернатора великого князя С. А. Романова был повешен.
Охота за счастьем*
Впервые неполностью с подзаголовком «Автобиография» – «Охотничий вестник Среднего Поволжья», 1926, нюнь, № 2. Полностью очерк напечатан в «Новом мире», 1926, № 11, с подзаголовком «Рассказ из своей жизни».
Печатается по третьему тому Собр. соч. 1935–1939, с восстановлением редакционных пропусков.
Пржевальский – Н. М. Пржевальский (1839–1888), путешественник, исследователь Центральной Азии. Занятие охотой было связано с его научными исследованиями.
…из одного учебного заведения в другое, из страны в страну. – Пришвин начал учиться в сельской школе, в 1883 г. продолжил учебу в Елецкой классической гимназии, из которой в четвертом классе был исключен. В 1889 г. переехал в Тюмень, где окончил шестой класс реального училища. Затем в 1893 г. Пришвин переехал в Ригу и поступил в Рижский политехнический институт, из которого весной 1897 г. был исключен за революционную пропаганду. Заканчивал образование Пришвин в Германии. В 1901–1902 гг. он учился в Йенском и Лейпцигском университетах.
…не в готические окна надо смотреть исследователям истоков романтизма. – Пришвин своеобразно истолковывает понятие романтизма, противопоставляя свое понимание известным теориям немецких романтиков. Он близок к тому истолкованию этого термина, какое дал В. Г. Белинский: «Романтизм – принадлежность не одного только искусства <…> его источник в том, в чем источник и искусства и поэзии – в жизни <…>. В теснейшем и существеннейшем своем значении романтизм есть не что иное, как внутренний мир души человека, сокровенная жизнь его сердца» (Полн. собр. соч., т. 7, 1955, с. 145).
Устроился на службу в земстве как агроном. – После окончания Лейпцигского университета в 1902–1905 гг. Пришвин с перерывами работал агрономом в частном имении в Тульской губернии; затем в Клину, где по поручению земства закупал по оптовым ценам необходимые для крестьян товары и сельскохозяйственные машины и орудия и продавал их дешевле, чем кулаки; в Луге – на опытной сельскохозяйственной станции «Заполярье».
Встретившись с профессором Прянишниковым… – Д. Н. Прянишников (1865–1948) – основатель научной школы агрохимии. Пришвин свою научную деятельность начал в 1904 г. под его руководством в Петровской (ныне Тимирязевской) академии.
Начал писать в разных агрономических журналах… – В журнале «Опытная агрономия» и др.
Составлять книги… – Имеются в виду книги: «Как удобрять поля и луга (Общественное руководство по удобрению)». СПб., изд-во П. Сойкина, 1905; «Картофель в полевой и огородной культуре». СПб., изд-во А. Ф. Девриена, 1908.
…старое народничество… – Народничество, как либерально-демократическое движение достигло своего расцвета в 70-е годы, когда его деятели перешли к практическому осуществлению доктрины «хождения в народ».
…новое славянофильство… – Новое, или позднее, славянофильство представляет мистико-идеалистическое направление в общественной мысли России второй половины XIX в. Отрицая возможность развития России по «европейскому образцу», славянофилы опирались на религиозно-этическое начало в русском народе, считая исповедание православия залогом спасения России от влияния цивилизации «гниющего Запада».
…эстетическая мистика… – Пришвин имеет в виду эстетику русского символизма и, по-видимому, отталкивается от эстетических взглядов В. С. Соловьева, который видел миссию художника в создании образов, почерпнутых из идеального космоса.
…«мистический анархизм» – Философское и эстетическое направление в русском символизме начала XX в. См.: Г. Чулков. О мистическом анархизме. СПб., «Факелы», 1906.
На руках была уже семья. – В 1903 г. Пришвин женился на Ефросинье Павловне Смогалевой, крестьянке, родом со Смоленщины.
Известный этнограф Н. Е. Ончуков – Точнее: этнограф и фольклорист (1872–1942). Материалы, собранные им во время путешествий по северным краям в начале века и в 20-30-х годах, сыграли большую роль в изучении русского фольклора.
Познакомил меля с академиком Шахматовым… – А. А. Шахматов (1864–1920) – русский советский ученый-языковед, академик, основоположник многих направлений в науке о русском языке. С Пришвиным, отправлявшимся в Олонецкую губернию, его сблизил интерес к олонецким говорам, которые он изучал.
…назвали Маркова. – Е. Л. Марков (1835–1903) – русский писатель, этнограф, путешественник. Свои наблюдения в путешествиях изложил в ряде книг этнографического характера: «Очерки Крыма» (1872), «Очерки Кавказа» (1887), «Путешествие на Восток» (1890–1891), «Россия в Средней Азии» (1901).
Мне дали за книгу медаль в Географическом обществе… – Результаты своей экспедиции по Выговскому краю, от Балтийского до Белого моря, Пришвин опубликовал в книге «Северные сказки (Архангельская и Олонецкая г. г.)». Сборник Н. Е. Ончукова. СПб., 1908. За выдающиеся этнографические исследования Российское географическое общество наградило Пришвина серебряной медалью. В 1910 г. он был избран действительным членом Общества.
…убил там… трудного зверя архара… – См. очерк «Архары» в наст. томе.
…оставил там о себе легенду как о каком-то Черном Арабе. – См. очерк «Черный Араб» (т. 1 наст. изд.).
Ремизов с Ивановым-Разумником взялись о мне говорить… – В 1908 г. А. М. Ремизов обратил внимание на книгу Пришвина «За волшебным колобком», рассказал о «необыкновенном писателе», еще недавно писавшем о картофеле, в кружке писателей-символистов, а затем и ввел его в этот кружок, возглавляемый 3. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковским. Здесь Пришвин познакомился с А. А. Блоком. Р. В. Иванов-Разумник написал о творчестве Пришвина статью, где говорилось: «М. Пришвин – крупный, сформировавшийся, цельный художник <…> – У него есть своя форма, свой стиль <…>. Одна тема проходит через все его произведения – Великий Пан. Он хочет подойти к решению мировых вопросов <…>. Для этого надо прежде всего слиться с тем миром природы, в котором живешь <…> Он описывает свои впечатления – и как будто перед нами этнографические статьи, путевые очерки; но это только фон картины. Вся сущность – в интимнейших переживаниях автора лицом к лицу с „природой“» (Иванов-Разумник. Великий Пан (О творчестве М. Пришвина). – «Творчество и критика», т. 2. СПб., «Прометей», 4911, с. 45–46).
В «Шиповнике»… почти тысячу рублей за лист… – В 1911 г. Пришвин напечатал в литературно-художественном альманахе издательства «Шиповник», кн. 15, повесть «Крутоярский зверь».
Нашествием Мамонтова… – К. К. Мамонтов (1869–1920), командир белогвардейского конного корпуса, предпринял в 1919 г. глубокий рейд по тылам Южного фронта Красной Армии.
Я решил сделаться народным учителем… – В 1926–1922 гг., с перерывами, Пришвин учительствовал в сельской школе.
Н. А. Семашко (1874–1949) – один из организаторов советского здравоохранения, с 1918 по 1930 г. – нарком здравоохранения РСФСР.
ГАУ – Главное артиллерийское управление.
. Написал небольшой деревенский очерк… – Предположительно – «Письма из Батищева» («Новая Россия», 1922, № 2, с. 89–92).
А. К. Воронский, напечатавший в «Красной нови» мою «Кащееву цепь»… – А. К. Воронский (1884–1943) – литературный критик, публицист и писатель. С 1921 по 1927 г. редактировал журнал «Красная новь». Пришвин отметил в своем дневнике (1927 г.), что Воронский дал высокую оценку роману.
Журавлиная родина*
Впервые полностью – «Новый мир», 1929, № 4–9. Несколько рассказов были напечатаны в «Новом мире», 1928, № 12, с подзаголовком «Из книги „Журавлиная родина“»: «Одинокий журавль», «Скорая любовь», «Моральный человек», «Папаня», «Сочинитель», «Ребята и утята», «Пойма», Из этих рассказов «Одинокий журавль» и «Пойма» в «Журавлиную родину» не вошли.
В последней прижизненном издании «Журавлиная родина» появилась во втором томе Собр. соч. 1935–1939, как третья часть романа «Кащеева цепь». В предисловии «От автора» Пришвин указал, что приспосабливал текст для романа: «Много, много воды утекло с тех пор, как была написана „Журавлиная родина“, и в особенности переменилось у нас отношение к крестьянам, которых нельзя уже просто, как раньше, называть „мужиками“. Автор пытался, поскольку это возможно, осовременить с этой стороны свою книгу, но, к сожалению, это ему не совсем удалось, о чем он и считает своим долгом предупредить читателя» (с. 495).
В настоящем издании текст печатается по книге: Михаил Пришвин. Журавлиная родина, изд. 3-е. Л., Изд-во писателей в Ленинграде, 1934, с восстановлением редакционных пропусков.
…юбилея Максима Горького. – 30 марта 1928 г. страна торжественно отмечала шестидесятилетие М. Горького. Пришвин написал статью «Мятежный наказ» («Горький. Сборник статей и воспоминаний о М. Горьком». Под ред. И. Груздева. М.-Л., Госиздат, 1928).
…юбиляру написал в Италию… – Пришвин в письме от 21 апреля 1928 г. писал: «Я лично хочу „ахнуть“ по-другому, сделать книгу как надо, и не только сам работаю, но выискал одного неизвестного, толков (ого) художника и натаскиваю его в деле внутр<еннего> понимания труда и природы. Будет моя книжка называться „Журавлиная родина“ (журавли родятся у нас, а летят по всему свету), и я посвящу ее Вам, – это и будет без пустых и громких слов мой посильный дар Вам, юбиляру» (ЛН, т. 70, с. 358).
…которым должна бы начаться книга о журавлиной родине. – В черновых заметках Пришвина есть запись: «Том собрания, в который войдут простейшие рассказы, которые могут читать все возрасты от пяти лет. Может быть, их можно расположить по сезонам». Далее Пришвин составил план будущей книги «Журавлиная родина»: в книгу намечалось включить восемьдесят четыре рассказа, часть из которых, действительно, вошла в «Журавлиную родину», другая часть – в «Календарь природы», «Рассказы егеря» и другие циклы рассказов. Против заголовка каждого рассказа Пришвин пометил: весна, лето, осень, зима.
…прочитал в газете замечательную вещь о писателях… – Статью С. Хромова «Заговор молчания» (газета «Читатель и писатель», 1928, 3 марта, № 9).
…редактор детского журнала «Родник»… принял мой рассказик… – Рассказ «Сашок» («Родник», 1906, № 11–12; редактор А. Альмединген).
…мой фельетон под заглавием «Молоко от козла»… – «Известия», 1928, 27 мая, № 122.
…в окрестностях Сергиева. – Ныне г. Загорск.
…статьи Максима Горького о пользе грамотности. – М. Горький. О пользе грамотности. – «Читатель и писатель», 1928, 20 апреля, № 92.
…торфяные разработки… в «Рабочей газете»… – «Рабочая газета», 1926, 2–4 и 6–8 июля, № 149–154 (см. в наст. томе очерк «Торф»).
…вспоминаю свой детский рассказик «Еж»… – Впервые был напечатан в журнале «Искорка», М., 1924, № 8 (см. в наст. томе в цикле «Рассказы егеря»).
…читая дневник Суворина… – А. С. Суворин (1834–1912) – русский публицист, писатель и издатель. В 1923 г. был опубликован его дневник («Дневник А. С. Суворина». Ред., примеч. и предисл. М. Кричевского. М.-Пг., 1923).
Гершензон М. О. (1869–1925) – литературовед и публицист. Мировоззрение Гершензона основывалось на идеях философского идеализма. В работах, посвященных писателям, интересовался иррациональным началом в творчестве.
…судьба привела в мою комнату В. К. Арсеньева… – В. К. Арсеньев (1872–1930) – русский советский этнограф и писатель. Встреча Пришвина с Арсеньевым состоялась в 1928 г. В своем дневнике от 9 октября он записал: «Были у меня зав. Сергиевским музеем Свирин и с ним Арсеньев Владимир Клавдиевич, автор „В дебрях Уссурийского края“, чрезвычайно подвижной, энергичный человек 57 лет. Быстро и много говорит. Я не мог оторвать его рассказ от Усе. края. Говорил о тиграх, о пятнистых оленях, о лотосах, о винограде, обвивающем ели и сосны, – все эти лотосы и тигры – реликты не ледниковой эпохи, как у нас… а третичной. Согласно с этим и человек ведет себя как зверь: никогда не пересечет в лесу полянку, а обойдет ее, на речном переходе выглянет… Арсеньев, между прочим, рассказал мне, как он написал свою книгу. Она вышла из дневников, которые вел он в экспедициях. Эта книга, можно сказать, первобытного литератора, своего рода тоже реликт. Ее движение есть движение самой природы, и она снова наводит меня на мысли, что поэзия рождается в ритмическом движении природы… и является на свет тем же самым чутьем, каким животные и люди втайне определяют без компаса, в какой стороне находится дом» (В. Д. Пришвин. Пришвин и Арсеньев. – «Охотничьи просторы», 1969, № 26, с. 191–192).
…время борьбы с натуралистическим и гражданским направлением… в «Русском богатстве». – После поражения русской революции 1905–1907 гг. журнал «Русское богатство», в котором отдел беллетристики возглавил В. Г. Короленко, стал органом народных социалистов. Короленко – представитель народнического направления в литературе – пытался удержать в журнале реалистические, гражданственные традиции, противопоставить их «фантастической метели модернизма».
…к ницшеанскому сверхчеловеку… – Ф. Ницше (1844–1900) – немецкий философ и писатель. В философско-художественном сочинении «Так говорил Заратустра» (1884) проповедовал культ сильной личности, «сверхчеловека», равного богу.
Трагедия автора сверхчеловека общеизвестна… – Душевная болезнь оборвала творческую деятельность Ницше в 1898 г.
…новая форма морально-эстетической болезни: богоискательство. – После поражения русской революции 1905–1907 гг. богоискательство, получившее широкое распространение, противопоставило религиозно-философские пути обновления России революционным, марксистским взглядам на ее развитие. Мистический и антиреволюционный характер богоискательства был подвергнут в трудах В. И. Ленина резкой критике.
…мифотворческий кружок Вячеслава Иванова… – В. И. Иванов (1866–1949) – поэт, один из теоретиков русского символизма. Мифологический кружок возник в 1905 г. и просуществовал три года. В своей теории культуры Иванов ведущую роль отдавал народному искусству, существующему, по его концепции, как мифотворчество.
…Сольнес у Ибсена… – Строитель Сольнес – герой одноименной драмы норвежского драматурга Г. Ибсена (1828–1906).
…Генрих в «Потонувшем колоколе». – Герой пьесы немецкого драматурга Г. Гауптмана (1862–1946).
…водоросль Клавдофора… напишу о ней в газету… – Пришвин дважды писал о редчайшей в мире водоросли; первая статья: «Claudophora sauteri (К делу охраны природы)» – «Известия», 1928, 8 июля, № 157, в ней Пришвин призвал ученых спасти реликт; вторая статья: «Claudophora sauteri» – «Известия», 1934, 11 ноября, № 263, в ней сообщалось, что Военно-охотничье общество решило взять озеро под охрану, восстановить его и создать условия для размножения водоросли.
«Рассказы егеря Михал Михалыча». – См. наст. том., раздел «Охотничьи были и сказ».
Тироль – живописная область в западной части Австрии, в Альпах, с административным центром Инсбрук.
Петров день – 12 июля.
Вик – волостной исполнительный комитет.
Тоня – один улов невода; в другом значении – рыболовное место.
…еврейского праздника Кучки. – Осенний религиозный праздник верующих евреев, отмечается в сентябре.
…второе издание собрания моих книг, – Собр. соч. в 6-ти томах, изд. 2-е. М.-Л., ГИХЛ, 1929–1931.
…моду формального метода. – Направление в русском и советском литературоведении, возникшее в середине 1910-х годов. Один из зачинателей и теоретиков формальной школы в литературоведении, В. Б. Шкловский, рассматривал словесное искусство прежде всего как конструкцию и пытался определить сумму приемов, с помощью которых создается литературное произведение.
…с Тиком, автором комедии «Кот в сапогах». – Людвиг Тик (1773–1853) – немецкий писатель-романтик.
…в книге «Родники Берендея». – Вышла в 1925 г. С 1937 г. (Собр. соч. 1935–1939, т. 3) входит в состав «Календаря природы».
…цивилизацию… не по Шпенглеру. – О. Шпенглер (1880–1936) – немецкий философ-идеалист, главный труд – «Закат Европы» (1921–1923). Шпенглер рассматривает цивилизацию как явление, возникающее в процессе умирания культуры.
…мужики бы закричали осанну… – Осанна – радостное молитвенное восклицание: «спаси», «сохрани»; в переносном смысле – выражать полную преданность, превозносить кого-нибудь.
…кричать петуха по советскому времени. – В 1919 т. в СССР было введено поясное время, которое отличалось от принятого ранее.
Мой любимый Солнцеворот… – 25 декабря – поворот солнца на прибавление дня.
…похожий на героя Пиквикского клуба… – Мистер Пиквик – герой романа Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837).
Жилять – жалить.
…к Синей птице звонили: Тильтиль-и-митиль! – Тильтиль и Митиль – мальчик и девочка, герои пьесы бельгийского писателя М. Метерлинка «Синяя птица» (1905).
…праздник князю Владимиру. – 28 июля.
…Флору и Лавру, покровителям домашних животных. – 31 августа; в этот день, по старинному преданию, на лошадях нельзя работать – лошадиный праздник.
…о вредителях в шахтинском деле… – В Шахтинском и других районах Донбасса действовала с 1923 г. контрреволюционная вредительская организация. Судебный процесс над ней прошел в мае-июле 1928 г.
…к своему годовому празднику… – Годовой или престольный праздник связан с событием или именем канонизированного церковью святого, в ознаменование которого построена церковь.
Батометр – прибор для взятия проб воды с различных глубин водоема.
«Русалка плывет над водой…» – Пришвин неточно цитирует стихотворение М. Ю. Лермонтова «Русалка»: «Русалка плыла по реке голубой, // Озаряема полной луной…»
Росстань – перекресток двух дорог.
…в сроках Рамзеса и Ленина. – «Так понимал художник соотношение современности и вечности, которая представлялась ему в виде абстрактного астрономического времени, ритмика которого организует жизнь всего живого» (А. И. Хайло в. Михаил Пришвин. Творческий путь. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1960, с. 69).
…о Шопенгауэре как философе… – А. Шопенгауэр (1788–1860) – немецкий философ-идеалист.
Календарь природы*
Впервые полностью – Собр. соч. 1935–1939, т. 3.
Первая часть – «Весна» – была напечатана под заглавием «Родники Берендея» в журнале «Красная новь», 1925, № 8. Она имела подзаголовок: «Из записок фенолога с биостанции „Ботик“». В 1926 году записки в расширенном составе вышли отдельной книгой («Родники Берендея». М.-Л., Госиздат).
В настоящем Собрании сочинений текст «Календаря природы» печатается по третьему тому Собр. соч. 1935–1939, являющемуся наиболее полным по составу очерков, который изменялся в зависимости от вида и адресата издания.
В связи с тем, что впервые в одном томе печатаются «Журавлиная родина» и «Календарь природы», ряд очерков: «Белая радуга», «Ребята и утята», «Старухина тропа», «Сочинитель», – включавшихся Пришвиным и в то и в другое произведение, в настоящем издании печатаются только в «Журавлиной родине», где они появились впервые. Очерк «Ночная красавица» печатается и в «Журавлиной родине», и в «Календаре природы», для которого очерк был частично приспособлен.
ВЕСНА
Очерки «Прилет журавлей», «Валовой прилет», «Прилет свиязи», «Зацветание орешника», «Щучий бой», «Тема», «Позеленение лужаек», «Дрозд-белобровик», «Начало пахоты под яровое» впервые напечатаны в журнале «Красная новь», 1925, № 8. Очерки «Вскрытие озер», «Первое кукование», «Первый зеленый шум», «Первый соловей», «Глаза земли», «Майские жуки», «Иволги», «Стрижи» впервые напечатаны в журнале «Новый мир», 1925, № 12. Остальные очерки этого раздела впервые напечатаны в книге «Родники Берендея» (М.-Л., Госиздат, 1926).
ЛЕТО
Первая стопка. – «Красная нива», 1926, № 46. Школа в кустах. – «Охотничья газета», 1928, № 13.
Ярик. – «Охотник», 1924, № 4, под заглавием «Красная вырубка».
Верный. – «Охотник», 1925, № 6–7, под заглавием «Мои собаки».
Кэт. – «Охотник», 1925, № 11, под заглавием «Собачья память».
Любовь Ярика. – «Красная нива», 1926, № 25. Болото. – «Охотник», 1924, № 2, под заглавием «Кроншнеп». Белая собака. – «Огонек», 1929, № 2. Теплые места. – «Красная нива», 1928, № 47. Змея; Жалейка. – Альманах «Земля и фабрика». М., ЗИФ, 1929, № 4.
Лесные загадки. – «Охотник», 1929, № 1. Образование. – «Красная нива», 1926, № 42.
ОСЕНЬ
Очерки «Глаза земли», «На воре шапка горит», «Умершее озеро», «Первый зазимок», «Гуси-лебеди» (под заглавием «Лисица»), «Тень человека» (под заглавием «Галки провожают грачей» и «Тень на морозе»), «Власть красоты», «Туман» (под заглавием «Миражи тумана») впервые напечатаны под общим заголовком «Гуси-лебеди (Дневник охотника)» в журнале «Боец-охотник», 1935, № 3.
Птичий сон. – «Охотник и рыбак Сибири», 1930, № 1.
Белки. – «Колхозник», 1935, № 4, под заглавием «Белка».
Барсук. – «Колхозник», 1935, № 4.
Беляк. – «Рассказы охотника». М., «Советский писатель», 1935. Иван-да-Марья. – «Рассказы егеря Михал Михалыча». М.-Л., Госиздат, 1928.
Гон. – «Охотник», 1924, № 7, под заглавием «Охота на мамонта».
Анчар. – «Охотник», 1925, № 2.
Сидень. – «Красная нива», 1927, № 6.
ЗИМА
Смертный пробег. – «Огонек», 1925, № 6. Сердце зимы. – «Смена», 1926, № 23, с подзаголовком «Из путешествия вокруг солнца».
Солнцеворот. – «Красная нива», 1926, № 12. Волки-отцы. – «Красная нива», 1926, № 2. Лиловое небо. – «Скорая любовь». М., ГИХЛ, 1933. Аромат фиалок, – «Красная нива», 1928, № 5. Медведи. – «Огонек», 1929, № 12, части I и II, полностью – «Ровесники», сб. 7 Содружества писателей революции. «Перевал», М.-Л., «Земля и фабрика», 1930.
Изданию «Родников Берендея» в 1926 году Пришвин предпослал предисловие, в котором счел нужным объяснить форму своих записок, или, как он потом их назвал, очерков:
«Эта книга началась от чтения фенологических записей Сокольницкой биостанции юных натуралистов. Сухие научные записи хода весны читались мной с большим интересом, потому что сама жизнь (движение нашей планеты) нарастала и усложнялась независимо от чувств и дум наблюдателя. Я использовал силу этого движения в своем опыте. Мои записки не условная и любимая мной литературная форма, а действительно записки под диктовку весны – почти без всякой последующей обработки и связанные только силой движения в природе, вызывающей ответное движение в душе человека».
Появление «Родников Берендея» вызвало отклик Горького, его письмо Пришвин напечатал в четвертом томе Собр. соч. 1935–1939:
«Не преувеличиваю, что мое истинное ощущение совершенно исключительной красоты, силой которой светлейшая душа Ваша освещает всю жизнь, придает птицам, травам, зайцам, „богомерзким бабам“, смешному „стеклодую“ какую-то необыкновенную значительность и оправданность. Все у Вас сливается во единый поток живого, все осмыслено умным Вашим сердцем, исполнено волнующей, трогательной дружбы с человеком, с Вами – поэтом и мудрецом <…>.
Я вовсе не так самонадеян, чтобы сказать, что вполне понимаю Вас, но я уверен, что безошибочно чувствую огромнейшее значение той мудрости, которой Вы обладаете, которую так изумительно просто проповедуете» (с. 6–7).
К последнему прижизненному изданию «Календаря природы» («Весна света». М., «Молодая гвардия», 1953) Пришвин написал предисловие: «Я попробовал сделать путешествие не столько вдаль, сколько вглубь – попытался углубить восприятие окружающего меня, близкого и повседневного. Я написал „Календарь природы“, а потом и все стал так писать: я нашел в нем себе метод работы».
…как сказано об этом в древней книге… – Библия. Третья Книга Моисеева. Левит: «Шесть лет засевай поле твое и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их; А в седьмой год да будет суббота покоя земли <…>. И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтоб было у тебя в семи субботних годах сорок девять лет. И воструби трубою <…> И освятите пятидесятый год, и объявите свободу на земле всем жителям ее; да будет это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя».
…скоро будет мой юбилей! – 23 января 1933 г. Пришвину исполнилось шестьдесят лет.
Начиная от Сороков… – Сороки – 22 марта, день равноденствия; по народным приметам, вторая встреча весны, «на сорок мучеников сорок птиц прилетают».
…на Евдокию петух не напился… – 14 марта. «Коли курочка в Евдокеи на улочке напьется, то и овечка на Егорья (23 апреля) наестся» (Даль).
Подсанки – большие сани, которые привязываются позади дровней при перевозке бревен.
…из морской собаки… – Морская собака – рыба, встречается в Черном море.
…на фреску «Богатого и Лазаря». – «Богач и Лазарь» (нищий) – одна из притч Библии. После смерти богач попал в ад, а нищий – в рай (Евангелие от Луки, гл. 16, ст. 16–31).
Место скудельницы – место общего захоронения или общая могила.
Капище – языческий храм.
…несет козу и светит… – Коза – так называлась жаровня для огня, употребляемая при ночной ловле рыбы.
…школу второй ступени… – С 1923 по 1934 г. школа второй ступени включала пятые-девятые классы.
…нершится плотва-ледянка… – То есть мечет икру.
…есть разное прозерство. – От «прозревать»; то есть можно увидеть в разных местах разные картины нереста рыб.
…сияющий Китеж – мифический город, погрузившийся в озеро. В 1909 г. вышла книга Пришвина «У стен града невидимого», в которой он рассказал о бытовании легенды о граде Китеже.
…от первой встречи и до серебряной свадьбы моей с Берендеевной. – Так Пришвин звал свою жену Ефросинью Павловну.
…тридцатилинейную лампу-«молнию»… – Самая большая по размеру фитиля керосиновая лампа, отсюда ее название.
…по летописи… битва суздальцев с новгородцами… – Битва произошла на реке Липеце близ города Юрьева в 1216 г. {см.: «Полное собрание русских летописей», т. 7. СПб., 1856, с. 120–124).
Анемометр – прибор для измерения скорости ветра.
Драга – плавучее горнообогатительное сооружение.
Энтомологические приборы – для ловли и хранения насекомых.
…назвать его лодку «Фрегатом Палладой». – Так назвал свою книгу И. А. Гончаров (1812–1891), принимавший участие в экспедиции на военном фрегате «Паллада» в 1852–1854 гг.
…во время неолитического человека… – Около VIII–III тыс. до н. э.
…каменное орудие макролит – массивное, грубо обработанное каменное орудие в эпоху раннего неолита.
Фатьяновская культура – возникла во II тыс. до н. э. в Верхнем Поволжье и междуречье Волги и Оки. Скотоводы и земледельцы в грунтовые могилы клали каменные и медные орудия, керамику и украшения. Названа по дер. Фатьяново, близ Ярославля.
Дьякова типа – Дьяковская культура, возникла во второй половине I тыс. до н. э. в районе Верхней Волги и Оки. В городищах и селищах жили скотоводы, земледельцы, охотники; развивалась металлургия.
Медный век – IV–III тыс. до н. э.
…книгу Михаила Ивановича о Переславльском уезде… – М. И. Смирнов. Переславль-Залесский уезд. Краткий краеведческий очерк. Переславль-Залесский, 1922.
Заговенье – последний день мясоеда, канун поста.
Ляда – заросшее лесом поле.
…началась пустовка – течка у собак.
Мерлога – берлога.
Грабарь – землекоп.
Зазимок – первый снежок.
Шишига – черт, кикимора.
Грудок – кочка; здесь в переносном смысле: небольшой костер, сложенный кучкой, ворохом.
…слух дошел до кошатников… – Кошатники – торговцы шкурками пушных зверей, в том числе и кошек.
Нансеновский «Фрам» – норвежское полярное судно, на котбром Ф. Нансен (1861–1930) совершил две экспедиции: в Арктику (1893–1896) и Антарктику (1910–1912).
…путешествие… будет называться Круглый год. – Так Пришвин назвал одну из своих книг.
Стожар – шест, втыкаемый в стог сена, чтобы он не покосился.
Пономарь – низшая церковная должность, прислужник (должность упразднена в XIX в.).
…слова… охотоведа Зворыкина… – Н. А. Зворыкин (1873–1937) – русский советский ученый и писатель. Пришвин ссылается на его книгу «Охота на лисиц» (М., изд-во журнала «Охотник», 1926, с. 79).
…взять с собой их фотографа. – Снимки в журнале «Огонек», 1929, № 2, сделаны А. Шейхетом.
Лошадиный драч – сдирающий и выделывающий лошадиные шкуры.
Ленин на охоте*
Впервые – журнал «Наше творчество», Сергиев, 1926, ноябрь-декабрь, № 2–3. Очерк был напечатан с авторским предисловием, в котором Пришвин писал: «Пишу не для охотников и даже не для деревенских людей. Мне кажется, именно горожанину больше нужно, чем сельскому жителю, чтобы там, где за чертой города вдали синеют зубчатые леса, ходили рогатые лоси, вздымались на лапы медведи, гнездились всяческие птицы. Чем же объяснить иначе, что даже Ленин при его-то работе и в те-то годы стремился попасть на охоту, что многие из членов нынешнего правительства, ранее не думавшие об охоте горожане, теперь, при перегрузке кабинетной работой, стали учиться охоте? Всем известно, что в живописи сельский интимный пейзаж возник именно с ростом городов. Почему же не предположить, что в будущем государстве именно и возникнет глубочайшая любовь к природе, такая активная, что каждый будет считать нравственным долгом соблюдать строжайшие законы об охране животных и растений…»
Перепечатав очерк с предисловием в «Охотничьей газете» (1927, 5 февраля, № 1), Пришвин в дальнейших изданиях отказался от предисловия.
Печатается по первой публикации без предисловия.
…тут Ленин был на охоте. – См. также: П. Крыленко. В. И. Ленин на охоте. – «Охотник», 1928, № 5; А. Поликашин. Два случая (Из готовящейся книги «Ильич на охоте»). – «Охотник», 1929, № 2.
«Мюр и Мерилиз» – одна из крупнейших в России фирм по продаже одежды, парфюмерии, мебели, оборудования квартир и т. д.; сейчас – ЦУМ в Москве.
Рассказы егеря*
Говорящий грач. – С подзаголовком «Московский рассказ» в журнале «Огонек», 1924, № 9.
Еж. – Под заглавием «Ежик» в журнале «Искорка», 1924, № 8.
Луговка. – Под заглавием «Рассказ-игрушка» в журнале «Смена», 1927, № 6; под заглавием «Чибис» в журнале «Красная нива», 1927, № 18.
Птицы под снегом; Разговор птиц и зверей. – «Красная нива», 1927, № 18.
Куница-медовка. – «Охотничья газета», 1927, № 4. Гаечки. – «Мурзилка», 1926, № 8.
Предательская колбаса. – «Красная нива», 1926, № 46.
Дергач и перепелка; Матрешка в картошке. – В книге: «Матрешка в картошке». М., 1925.
Щегол-турлукан. – «Охотник», 1924, № 9.
Зайцы-профессора. – «Охотничья газета», 1927, № 2.
Двойной след. – «Красная нива», 1926, № 47.
Рябчики. – В книге: «Скорая любовь». М., ГИХЛ, 1933.
Служба Пана. – «Красная нива», 1927, № 33.
Печатается по третьему тому Собр. соч. 1935–1939, с восстановлением редакционных пропусков.
Нерль*
Впервые – «Новый мир», 1927, № 6.
Печатается по третьему тому Собр. соч. 1935–1939.
А. М. Горький написал Пришвину: «Нерль – вещь совершенно изумительная! Это сделано как гравюра, и притом такая, что сам Дюрер, вероятно, позавидовал бы Вам. Ни одного лишнего штриха, чудесная стройность, насыщенность и – ощутимость» (18 нюня 1927 г.). – ЛН, т. 70, с. 348.
Флейта*
Впервые – «Красная нива», 1927, № 25. Печатается по первой публикации.
…пала роса-узерка. – Узерка (от глагола «узреть») – у охотников стрельба зайцев по чернотропу, до снега.
Архары*
Впервые – «Охотничий вестник Северного Кавказа», Ростов-на-Дону, 1926, № 4.
Печатается по третьему тому Собр. соч. 1935–1939.
…ничего не мог написать о переселенцах. – См. очерк «Адам и Ева» – (1909), т. 1 наст. изд.
…географию Семенова… – Вероятно: П. П. Семенов-Тян-Шанский. Россия. Полное географическое описание нашего отечества. СПб., изд-во А. Ф, Девриена, 1899–1914.
…на их празднике «Страшный суд»… – Иомкиппур, день очищения, Судный день, отмечается 8 октября.
Дрова*
Впервые – «Красная новь», 1926, № 8.
Печатается по четвертому тому Собр. соч. 1935–1939.
Заутреня*
Впервые – «Огонек», 1928, № 25, под заглавием. «Маралова гать»; под заглавием «Утро на пойме» – «Охотник», 1928, № 6; под заглавием «Пойма» – «Новый мир», 1928, № 12.
Печатается по книге: «Журавлиная родина». Л., Изд-во писателей в Ленинграде, 1934.
Затрёкалась – дошла до изнеможения.
…слово ее плод черева – слово из молитвы, обращенной, к матери Иисуса: «И благословен плод чрева твоего…»
Одинокий журавль*
Впервые – «Новый мир», 1928, № 12.
Печатается по книге: «Журавлиная родина». Л., 1934.
Башмаки*
Впервые – «Башмаки (Исследование журналиста)». М.-Л., Госиздат, 1925. Отдельные очерки, составившие книгу, печатались в разных изданиях в 1923–1925 годах. Первый из них, под. заглавием «История цивилизации села Талдом», напечатан в журнале «Красная новь», 1923, № 6. Свой окончательный состав цикл очерков приобрел в четвертом томе Собр. соч. 1935–1939.
Печатается по четвертому тому Собр. соч. 1935–1939.
В предисловии к очеркам Пришвин писал: «Нередко ученый настоящий, не лишенный дара „поэта в душе“, пишет свою золотую книгу один раз в своей жизни. Я же мало-помалу осознал свой путь и начал культивировать географический очерк, превращая его в литературный жанр. На этом пути я набрался такой смелости, что однажды явился в Госплан и предложил дать мне какую-нибудь тему для исследования, уверяя, что поэтическое исследование может оказать пользу не меньше, чем; научное. Меня поняли и дали мне задание исследовать быт башмачников. В другой раз меня послали на торф. И что же! С тех пор прошло четверть века, но я без стыда сейчас перечитал эти очерки…»
Село Талдом переименовывается в город Ленинск. – С 1925 г. – вновь Талдом, районный центр Московской области.
…на Сухаревку… – Знаменитый рынок в Москве, получивший название от находившейся вблизи Сухаревой башни.
Исады – илистая или песчаная отмель, коса, заросшая ивняком, тальником.
…от после Рождества… – После 7 января.
Двести цветов… шавро… – Шевро – кожа хромового дубления из шкур коз.
Андрей Боголюбский – князь Владимиро-Суздальскин (ок. 1111–1174 гг.).
Торф*
Впервые, с подзаголовком «Исследование журналиста», очерки печатались в «Рабочей газете», 1926, 2–4 и 6–8 июля, № 149–154. Печатается по четвертому тому Собр. соч. 1935–1939.
…известная сказка о Берендеевом царстве. – «Снегурочка» А. Н. Островского.
Мох*
Впервые неполностью – «Литературная газета», 1933, 5 января, № 1, с подзаголовком «Отрывок из краеведческого рассказа». В этом же году очерк появился в издании «Мой очерк» в разделе «Фотоочерки» и был проиллюстрирован фотографиями. В авторизованной машинописи, хранящейся в ЦГАЛИ, есть авторская заметка о том, как надо печатать очерк «Мох»: «Прилагаемые фотографии не являются обыкновенными иллюстрациями очерка, а составными частями рассказа. Согласно с текстом они должны быть смонтированы художником. Текст под фотографиями своим шрифтом непременно должен отличаться от общего текста:
1) Фото № 1 – предполагалось дать Туголянские озера – Большое и Малое.
2) Фото № 2 – людей, часто с зелеными лицами от постоянного недоедания.
3) Фото 3 – оборванный край мохового болота, мох под березой.
4) Фото 4 – буквы О-Н-Ч-К-Н-Д-С на дереве.
5) Фото 5 – женщины, множество стоптанных лаптей.
6) Фото 6 – Малое Туголянское озеро», – но замысел не был осуществлен ни в сборнике «Мой очерк», в котором появились другие фотографии как иллюстрации, а не как монтаж с текстом, ни в последующих изданиях.
В предисловии к разделу «Фотоочерки» Пришвин писал: «В последнее время при неслыханных темпах строительства и литературе было предъявлено условие целевой установки в практической действительности. Считая для себя невозможным в этих условиях писать производственные романы, я ответил на запрос времени применением к текущему моменту моего очеркового мастерства. Этот текущий момент строительства представлен очерком самой большой в Европе зоофермы „Лисья поляна“, замечательного дома беспризорных „Каляевка“ и разведки во мхах места будущей электростанции».
Печатается по книге: «Мой очерк». М., Московское товарищество писателей, 1933.
…со времени перехода там Юлия Цезаря… – Около 50 г. до н. э.
А. Макаров
Примечания
(1) Множество писем было с вопросом «Что значит забываться?»
(2) Сергей Городецкий – «Ярило».
(3) Хвост у пойнтера называется по-охотничьи прутом.
(4) Двадцатка – облегченное ружье двадцатого калибра.
(5) Жакан – пуля для стрельбы из дробового ружья.
(6) Можжуха – можжевельник.
(7) Бурак – небольшой улей для ловли диких пчел.
(8) Спутались.
(9) «Труба» – охотничий рынок, что был на Трубной площади в Москве.
(10) Ищите женщину (фр.)
(11) М. Горький. Письмо от 22 сентября 1926 г. – Собр. соч. в 30-ти томах, т. 29. М., Гослитиздат, 1955, с. 477.
(12) А. И. Хайлов. Михаил Пришвин. Творческий путь. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1960.
(13) «Детская литература», 1938, № 2. 17
(14) Т. Хмельницкая. Творчество Михаила Пришвина. Л., «Советский писатель», 1959.
(15) «Печать и революция», 1926, № 8.
(16) М. М. Пришвин. Письмо от 3 октября 1926 г. – ЛИ, т. 70. М., 1963, с. 332.
(17) Тальников Д. Л. Открытое письмо М. М. Пришвину. – «Огонек», 1929, № 17.
(18) «Книга и профсоюзы», 1926, № 5.
(19) «Печать и революция», 1926, № 2.
