
В третий том вошли произведения, написанные в 1927-1936 гг.: «Живая вода», «Старый полоз», «Верховод», «Гриф и Граф», «Мелкий собственник», «Сливы, вишни, черешни» и др.
Художник П. Пинкисевич.
Сергей Николаевич Сергеев-Ценский
Собрание сочинений в двенадцати томах
Том 3. Произведения 1927-1936
Живая вода*
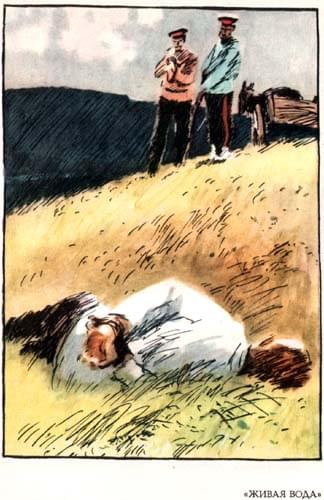
Человек человека один на один бьет не вполне уверенно. Он даже способен опасаться: а вдруг тот, кого он бьет, выкинет какую-нибудь штуку?..
Он бьет большей половиной своего существа, а меньшая в это время наблюдает и взвешивает.
Меньшая шепчет: «Довольно!» Большая продолжает бить… Меньшая говорит внятно: «Будет! Брось!» Большая бьет слабее и с выдержкой. Меньшая, наконец, приказывает: «Брось, тебе говорят!» – и мгновенно становится на место большей, и человек, который бил, уходит от того, кого он бил, внешне и с видом правым и задорным, а внутри иногда ему даже бывает стыдно.
Совсем не то толпа. Тонкие чувства ей незнакомы. Толпа, когда кричит, – не кричит, а судит; толпа не рассуждает, а приговаривает с двух слов; толпа и не бьет, а казнит, и тот, кого она бьет, знает, что уж больше он не встанет.
И Федор это знал, Федор Титков из станицы Урюпинской, из себя не очень видный и невысокий, но тугой телом и ярко-красный лицом, молодой еще малый, с маленькими глазками, сидящими не в глазных впадинах, а непосредственно сверху крутых щек.
Но он видел, что то же самое знал и другой товарищ, по фамилии Манолати, – из бессарабских цыган, черный и все лицо в белых шрамах, – и третий, сапожник из Ахтырки Караванченко, товарищ Семен, человек из себя хлипкий и грудь впалая, только голос громкий и глаза блестят.
Когда захватили их в этой станице и связали им руки, их спросили коротко:
– Большевики?
Они ответили так же коротко:
– Большевики.
И только Манолати добавил ехидно, вытянув шею:
– Ниче-го, рогали, ни-че-го!.. От побачите: наша будет зверху!
Потом их повели к колодцу с очень высоким журавлем, и не было около них ни крику, ни раздражения, только густая пыль поднялась от тяжелых сапог, и кто чихал, кто кашлял, кто плевал наземь. Иногда просвечивали по сторонам казачки, стоявшие около домов, и кружившиеся мальчишки.
Титков, перед тем как их схватили, здесь, на работе, ел селедку и не успел напиться, а потом они были заперты на ночь в сарай.
Очень хотелось пить, – и день был жаркий, – и когда он подходил к колодцу, он всем своим тугим, набухшим телом чувствовал, что подводят его как раз туда, куда надо, и искал глазами ведро.
Ведро, большое, как бадья, и с мокро блестевшей цепью, стояло как раз на полке колодца, и он не сводил с него глаз.
Подошли, оно было полное до краев: кто-нибудь только что поил здесь лошадь и вытянул его, но лошадь не захотела пить больше.
Кругом колодца песок был сырой и пахло волами. Овод сел на щеку Титкова; он смахнул его, потершись о левое плечо, а сам все смотрел на ведро и сказал, когда остановились, не умоляюще, а просто, однако внятно:
– Братцы, дозвольте напиться!
На это ближний казак, рыжебородый, с синими жилками на носу и с мокрыми косицами из-под фуражки, отозвался не менее просто:
– На-пьёсси! – и жестко ударил его в ту щеку, с которой только что он стер овода.
И тут же он увидел, что сшибли с ног товарища Семена, – он брыкнул обеими ногами об его ногу, – и почему-то мелькнула в глазах черная голова Манолати, мелькнула как будто выше других голов, точно улетела; но только он это заметил, как что-то сзади так хлопнуло его по затылку, что он присел на колени и пробормотал отчетливо:
– Значит, убивают… конец!..
И втянул голову в плечи, вдавил ее туда, как черепаха, а ноги вытянул. Он лег ничком, и песок под его губами пришелся очень мокрый и с сильным запахом лошадиной мочи.
Попытался он было убрать под себя и руки, но они были связаны крепко: изо всех сил дергал, веревка не подалась.
Били решенно и молча, только хекали, серьезно, как свинью колют. Сначала Титков различал, по какому месту больнее, потом били уж сплошь по больному: только стискивал зубы и глотал слюну.
Тонко крикнул товарищ Семен, и потом перестало его слышно. Титков подумал: «Убили!» – и еще глубже втянул голову. Зато Манолати было слышно несколько раз.
Он вскрикивал:
– Наше!.. Зверху!.. Будет!.. Будет!.. Зверху!..
Титков успел подумать о нем определенно: «Привычный… Не иначе, как сто разов бит!..»
Но вот ударили его по правой руке так, что в голове зашлось от боли, и еще раз ударили по голове так, что он перестал слышать и крики Манолати и все другое.
Очнулся он от холода.
Все тело было мокрое с головы до ног.
Не сразу вспомнил, что с ним такое, но первое, что вспомнил, – колодец. Потом вспомнил казаков и как били. Подумал: «В колодец бросили!» Но тут же поправил себя: «Зачем же колодец им портить? Его потом чистить надо…»
И, приоткрывши глаз, который был выше над землею, увидел мокрый рыжий треснутый носок сапога перед самым лицом и тут же понял чье-то вполне добродушное?
– Эге!.. Этот черт никак ще живой!
И потом еще голос:
– Цыган тоже шевелится!
Только успел подумать, что это кто-то хочет их спасти, как тот самый носок с трещиной ударил его чуть ниже глаза.
Опять подвернул вниз лицо и втянул голову.
– Зверху! – хрипнул около Манолати.
И потом начали молотить сапогами, и на его спину взобрался кто-то очень тяжкий и подскакивал.
Титков подтянул живот, но подкованные каблуки острыми краями сорвали ему кожу с рук… Наконец, другая рука, еще не перебитая, хряснула под каблуком повыше кисти.
Титков лизнул было языком мокрые губы, но тут же перестал что-нибудь чувствовать.
Потом еще раз поливали его ледяной водой из колодца. Он опять открыл глаз, – другой заплыл, и не разжимались веки, – и опять увидел он мокрый огромный носок сапога.
Его перевернули. Какая-то борода, точно отцовская, над ним наклонилась, и он прошептал в нее:
– На-пить-ся!
Потом сразу несколько оглушительных голосов:
– Живой!.. Ну, не черт?.. Цыган, и тот уж подох, а этот живой!..
И несколько мгновений так он лежал и видел над собою чащу бород и красные носы среди нее, и, как будто люди эти совсем другие были, а не те, которые только что трудились над тем, чтобы его убить, он опять прошептал им:
– Напиться… братцы!
Но тут над глазом его взметнулся медленно усталый кулак и разбил ему зубы.
Потом кто-то спросил удивленно и даже горестно:
– Да и где же у него, анафемской силы, печенка?
И как ни пытался зажать Титков свой живот, жесток был в него удар подкованной ногою.
Минут через пять все трое около колодца лежали совершенно неподвижно.
Казаки умылись, прокашлялись, высморкались, как делали они это утром, после сна; кое-кто даже намочил себе волосы и расчесал их металлическим гребешком.
Казачки с ребятишками на руках подошли посмотреть поближе. Солнце склонялось уже к полудню, и подъехала к колодцу подвода, на которую сложили все три тела и повезли версты за четыре от станицы, в балку.
Двое молодых казаков шли около подводы не садясь. Винтовки поблескивали у них за плечами.
Без винтовок теперь уж не отходили от станицы и за четыре версты: время было беспокойное – восемнадцатый год.
И вот когда Титков, лежавший на подводе сверху других, открыл свой глаз, он прежде всего почти ослеплен был блеском именно этих двух винтовок за спинами казаков, идущих рядом.
Казаки и винтовки – это, припомнилось потом, было, видел и раньше; необыкновенный же блеск этот был нездешний уже…
Но боль раздалась сразу во всем теле, и горло и все внутри горело нестерпимо.
Это как раз тогда он очнулся, когда подходили уж лошади к балке, и еще допытывался он у своей памяти, что с ним такое, и где он, и отчего везде боль, как услышал, один казак говорил другому:
– Вот здесь крутой берег… Так и полетят, как галки.
А другой голос отозвался:
– Здесь, конечно, самый раз…
Не понял Титков этого разговора, и когда его, все еще мокрого, выволакивали с подводы в четыре руки, ругаясь, он застонал всем разбитым телом и глянул единственным глазом, – и четыре руки суеверно обмякли, а он брякнулся о землю и застонал громче.
Тогда лошади зафыркали и заболтали головами, а двое с винтовками отскочили шагов на двадцать…
Он слушал и слышал, как один, длинно выругавшись, добавил:
– Да ты ж, нечистая сила, когда же ты подохнешь?
А когда глянул, увидел, как другой сдернул винтовку, взял на прицел и выстрелил…
Титков даже чуть покачнулся, лежа, точно в грудь ему вбили огромный гвоздь… Но тут же, чуть повыше, другой гвоздь вбили: это разрядил по нем патрон второй казак.
Рот у него разжался, чтобы вылить кровь; раза два он дернул головою и стих.
Когда казаки подтащили к откосу уже деревенеющий труп Семена с разбитой головой, они раскачали его, взявши за ноги и за плечи, и бросили молча. Труп цыгана Манолати с подвернутой набок головой они сбросили с подговоркой:
– А ну, там уж твое пускай будет «зверху»!
Над телом же Титкова, подтащив его к бровке оврага, остановились:
– А вдруг он, черт этот… – начал один.
– Живой, думаешь? – сказал другой.
И даже мокрую рубашку ему задрали, посмотреть, как прошли пули. Но увидавши, что тело все – сплошной синяк и кровоподтек и пули прошли навылет в правую сторону груди, только тряхнули чубами из-под фуражек, и дружно столкнули его вниз, и смотрели, как оно катилось кувырком, цепляясь то ногами, то головой, пока не легло, наконец, на дно балки около двух других тел.
Было уже к вечеру. Солнце перекатило уже за балку: тень и прохлада.
Три бабы из соседнего хутора спустились в балку за дровами. По дну и кое-где по откосам росли там кусты. Их упорно вырубали каждый год, но не менее упорно они вырастали снова. У баб были с собой косари и веревки.
Когда наткнулись они на трупы, то в испуге бросились бежать, но, оглядевшись, остановились: одна подталкивая другую, подобрались снова к телам.
Глядели, качали головами и даже кончики головных платков подносили к глазам.
– Не воняют еще? – не веря себе, спросила одна.
– Похоже, свежие, – потянула носом другая.
– А вчерась же я здеся лазила, бабоньки, ничего тут такова не было! – всплеснула руками третья. – Какие же это их злодеи так-то?
Трупы смирно должны лежать. Страшно, когда пытается поднять голову труп. Это хоть кого испугает.
И когда, чуть приоткрыв глаз, повернулась слабо голова Титкова, бабы ахнули и взвизгнули все враз и засверкали по дну балки голыми толстыми икрами ног.
Но не больше, как через четверть часа, одна подбадривая другую, подошли в третий раз и услышали шепот:
– Бабочки, дайте напиться…
Маленький ключик пробивался в овраге шагах в двухстах ниже, и бабы знали это, но ведь с ними не было кувшинов и кружек, только косари и веревки…
Кровавую кепку, осмотревшись, заметили они на обрыве, – это с головы Семена Караванченки слетела она, когда его тело раскачали и бросили. В этой-то кровавой кепке, чуть ее обмыв, и принесли воды для Титкова, и, сгрудившись над ним и держа кепку с водой, как ему удобнее, жадно глядели бабы, как жадно он глотал.
Он все выпил, что они принесли, и вздохнул с трудом, и одинокий глаз его внимательно переходил с одной на другую.
– Какие же это злодеи так тебя, несчастного? – спросила было одна, но он отозвался тем же шепотом, изнутри идущим:
– Ба-бочки… милые… а нельзя ли… еще водички?
Уже совсем смеркалось, когда бабы вынесли его, наконец, из оврага.
Несколько раз останавливались, усталые, над ним, снова бесчувственным, и говорили одна другой, укоряя:
– Эх, потревожили зря человека!.. Помер бы там ночью и ему бы легче: без мучениев…
Однако вытащили все же, развязали руки и даже отвезли его ночью в больницу в город, за двенадцать верст.
Везли и укоряли одна другую, что лучше бы было к нему и не подходить, и воды бы ему не носить, и из балки не вытаскивать, – все равно живого не довезешь, только зря из-за него ночь не спавши и лошадь заморишь.
Если чем и утешали себя бабы, то только тем, что теперь на хуторе мужиков вообще мало, а у них в хозяйствах и совсем нет, и настала их бабья воля: вот хотят этого человека до больницы довезть – и все, возьмут и довезут… Пускай хоть в больнице помрет, все-таки будто бы легче: похоронят люди как надо.
На вопросы: чей такой и кто его так? – бабы отвечали в больнице:
– Ну, а мы ж это почем же знаем?.. Наша находка, в балке такого нашли…
– А зачем было везть? – сказали в больнице. – Все равно жив не будет – помрет.
– А помрет, на могилу ему веночек привезем, – сказали бабы. – Нам абы к утру домой поспеть, а то коровы недоены останутся…
И бабы вернулись домой вовремя, как раз к свету, а врачи в больнице утром стали отыскивать и отмечать сломанные ребра Титкова.
Прошло с месяц.
Был праздник – время свободное…
Три бабы с хутора поехали в город и везли венок из своих нехитрых цветков на могилу тому, кого они напоили водой и вытащили из оврага.
За месяц этот много случилось всякого, и о трупах в балках знали уж, что они были привезены из станицы.
Летний день – огромен, и бабы, выехав в обед, думали обернуть к вечеру, не было дел в городе никаких, только это: постоять над могилкой, положить веночек – и домой.
Лошадей была пара, и лошади были сытые.
И когда дробно стучали копыта и колеса по малоезжему проселку, бабы вспоминали, как они везли парня.
– Рази так увеченных возют, как мы-то везли? – говорила рассудительно одна, постарше, лет сорока, Лукерья, с выцветшими глазами. – Он по-настоящему-то на телеге от одного трясения помереть был должен.
– Да уж я тогда кобылу вожжами стегаю, а сама-то все назад на него гляжу, бабоньки, и так жалкую вся… – говорила Аксинья, помоложе, и черные брови дугой.
– Он у меня ишь на коленках головой-то лежал – и так я, не шевеля, просидела дорогу цельную, аж ноги сомлели, – вставила третья, Ликонида, самая младшая, и в серых глазах тоскливость. – Хуть бы имечко его узнать.
Ехали бабы с венком, а по сторонам от них стелились поля казачьи, а потом пошли мужичьи поля: как раз невдали от хутора шла граница области – начиналась губерния.
Много народу разного прошло недавно по этим полям и потоптали местами хлеб, и бабы замечали на полях эти следы равнодушно топтавших ног.
Однако солнце светило ласково, и земля пахла парным своим телом – понятно бабам (у земли ли не бабье тело?).
Ястреб кружился вверху точкой – сторожил землю, как и всегда он ее сторожил родящим летом. Кукушка в балочке куковала. Глазастые серые слепни садились на репицы лошадям, и лошади крутили хвостами, требуя, чтобы их согнали вожжой.
На одном хуторе горело недавно, и бабы это знали: видели зарево с неделю назад, а теперь наткнулись глазами в стороне на обгорелые избы и сараи.
– Небось, и скотина какая сгорела, – сказала Аксинья, правя.
– Ну, а то долго ли, – поддержала Лукерья, подтыкая под себя солому.
А Ликонида, державшая в руках венок, оторвала от него листик, который показался ей лишним, повертела около губ, бросила на дорогу и сказала тоскливо:
– Глу-упые мы, глупые бабы… И куда это собрались? И зачем это едем?..
Однако колокольни города показались уж из-за темного зеленца садов, и отозвались ей другие две:
– Все одно уж, теперя недолго.
Как раз кладбище приходилось справа от дороги, когда подъезжали к больнице, стоявшей на отшибе, и бабы говорили одна другой:
– Кабы известно, как его имя, вот бы и кстати – слезть да пойти: авось, сторож своих упокойников знать обязан.
Даже и лошадей было оставили, но на кладбище не встретилось глазам никого, а то бы спросили непременно.
И подкатили к больнице часам к двум дня.
Поставили лошадей у ворот, дали им сена охапку, а сероглазая Ликонида не захотела оставить на телеге венка: еще кто подцепит, народу много, – так и пошли трое по больничному двору и с венком спрашивать, где могила того, которого месяц назад привезли они ночью, и как его имя.
Простые люди о болезнях своих и о болезнях близких своих вспоминают только по праздникам – некогда в будни. И теперь в суете, в толчее на больничном дворе, поросшем травкою между булыжников, бродили три бабы с венком, не зная, у кого спросить о том, что было им нужно.
Попался было в фартуке, толстый, спросили его, но он только буркнул сердито:
– Не видишь разве, я повар?
Попался другой, простоволосый, тоже в фартуке и с вонючим ведром в руке, послушал их, но сказал, что недавно тут, и пошел дальше рысцой.
Женщину во всем белом и с красным крестом спросили, та сейчас же спросила сама:
– А как его фамилия?
– А почем же мы-то знаем, родимая? – удивились бабы.
– А не знаете, чего же ищете?
И унеслась от них частым перебором высоконьких каблучков.
Попалась потом еще старушка, – оказалась кастелянша и не знала, но привела их к фельдшеру, рыжеусому, без бороды, тоже в белом халате.
Этот удивил их очень.
– Месяц назад умер, говорите?.. Легко вам сказать: месяц назад, а сколько нам искать, посчитайте… Теперь время какое, знаете? Сколько их у нас умирает, подумайте.
– Да ведь этот, наш-то, он ведь убитый, – пробовали напомнить бабы; но сказал фельдшер, тараща глаза:
– Все теперь убитые… Теперь неубитых не бывает.
Однако обещал посмотреть по книгам.
Наведались бабы к лошадям – стояли лошади ничего, жевали сено. Обошли весь двор кругом: и прачечную поглядели, и кухню, и помойную яму (а Ликонида все с венком в руках) и зашли в садик хоть посидеть в холодке, пока фельдшер найдет, что нужно, по книгам.
В садике – маленьком, всего две тощие аллейки, – больных несколько сидело на скамейках, покрашенных в желтую краску, – все в халатах белых, только картузы свои. Один лежал на носилках складных и читал газету, что даже осудили бабы, а один сидел в колясочке и глядел вверх на листья, а руки забинтованы, и на голове белый колпак… С двумя больными, похоже, родные сидели, и девочка около одного сосала конфетку в розовой бумажке.
Не очень смело и держась вплотную одна к другой, прошлись бабы по одной аллейке, во всех вглядываясь цепкими деревенскими глазами: вот они какие больные, вот какое на женщине этой платье с тремя оборками, вот какие на девочке коричневые чулочки…
Прошли мимо того, который читал газету, и его внимательно осмотрели, отметив каждая про себя, какие у него тоненькие пальчики, как соломинки, и как только газету ими держит! – а глаза быстрые… и мимо того, который в кресле сидел, тоже прошли и его оглядели: глаза очень запавшие и большие, а руки привязаны к шее белой лентой… и то еще об этом больном заметили, что стоит его колясочка на самом солнце, а казалось так им, что лучше бы ее поставить в тень… И пошли дальше.
Однако далеко в маленьком садике уйти было некуда: дошли до оградки зелененькой и назад по тем же аллейкам, мимо девочки с конфеткой, мимо носилок, мимо кресла на колесах.
Платки на головах чуть сдвинули, чтобы головы продувало, а Ликонида венок несла, как корзинку, в сгибе локтя, и вздумалось ей на этот венок поглядеть, когда подходили к коляске, и сказать жалостно:
– Завяли уж и все цветы наши, зря таскаючи…
Но тут больной в колпаке с подвязанными к шее руками вдруг пригляделся к ним встревоженно и проговорил тихо:
– Ба-боч-ки… Это уж не вы ли?..
И сразу остановились бабы.
– Да бабочки ж!.. – повторил больной с радостью чрезвычайной, весь просиявши.
– Наш!.. Наш!.. Ей-богу, наш!.. – закричали бабы на весь небольшой больничный садик. – Да родной же ты наш!.. А мы-то веночек на твою могилку… вот он… как тогда подреклися…
И до того неожиданно это было, и до того чудесно это было, и до того сладостно это было, и так перевернуло это души, что не устояли бабы на ногах и повалились одна за другой перед коляской на колени молитвенно и бездумно.
1927 г.
Старый полоз*
Бездождный май; степь.
Кое-где неглубокие балки и сизые каменные гряды над ними. Скалы эти имеют наклон к югу, точно догоняли они когда-то горы, ушедшие к морю на юг, и не догнали, устали, отстали, угрязли в степи навек, треснули здесь и там, обросли лишаями…
Степь пока зеленая; если не будет дождей еще две недели, начнет желтеть. Степь пока душистая: пахнет волнующе чабером, сладкой душицей, густой желтой ромашкой… Кое-где полосами залег мак, но краснота его жухлая: сгорел и свернул лепестки.
Горизонты дымны и струятся. Верстах в семи в этом прозрачном дыму чуть колышутся два или три минарета: это – татарский город.
Самые короткие тени, – полдень.
Большая отара овец и коз лежит около коша, – жует жвачку, дремлет. Свернулись собаки, уткнувши морды в передние лапы. Чабан и его подпасок тоже растянулись на земле, – сложили около герлыги и сумки, зажмурили глаза, а привычные кофейные лица подставили солнцу: смоли крепче.
Очень древен вид этой майской степи с балками и скалами, этой отары овец и коз, этих пастухов и собак, – до того древен, что если бы каким-нибудь чудом проходил здесь Тиглат-Фелассар I, он сказал бы высокопарно, как это было принято в его времена:
– Вот опять я вижу страну Ашура, столь любезную моему сердцу!.. Сто двадцать львов убил я копьем и стрелами в пешем строю и восемьсот львов убил я с колесницы, защищая эти стада!..
Но проходил мимо не Тиглат-Фелассар с луком и меткими стрелами, а печник Семен Подкопаев с двустволкой, а рядом с ним шел бетонщик Петр со стеблем желтого донника в руках, только что сорванного на защиту от чабанских собак, и Семен зычно крикнул:
– Придержи собак, эй!.. Черти сонные!.. Слышишь?
Минуты через три потревоженные собаки лежали уже снова, слабо урча, а охотники сидели около пастухов и вертели папиросы.
Семен был орлоглавый: череп под сплюснутой кепкой – небольшой; нос – как хищный клюв, остро торчащий, и глаза светло-желтые, круглые, узкопоставленные, – птичьи. А Петр был уже лет под пятьдесят, с морщинами глубокими и черными, но с яркой еще рыжиною в усах.
– Сымотрим сибе, – дыва чилавек с винтовкой!.. Я-я… баялси очень…
Широко улыбался старый чабан и жестяную коробку с табаком держал на коленях широко открытой.
Сказал ему Семен, чмыхнув:
– Чего же ты теперь бояться мог?.. Дикий ты человек, поэтому боялся!
– Па-ни-маешь, – с готовностью объяснил чабан, – как раньше, тогда… Зиленый, крас-ный, белый – разный цвет… он-о-о… барашкам не так прахладно глядел… он-о-о… так глядел!
Тут чабан – уже с седыми висками под шапкой – поднял к носу верхнюю губу с подстриженными черными усами, раздвинул и зажег глаза, скрючил перед собою пальцы и начал клацать остатками прокуренных щербатых зубов.
– Прямо, как волк лесовой! – понял его Петр; а Семен пропустил сквозь затяжку:
– Не нравилось тебе это?.. Ты чтобы барашку жевал, а мы чтобы с голоду дохли?.. У-умен!
– Возьми адин!.. Возьми дыва!.. Возьми тыри!.. Он-о-о… все чист стрелял, гонял… Зачем так делал?..
– Это, должно, белые, – сказал Семен и выпустил из узкого носа длиннейшую ленту дыма.
Татарин посмотрел на него, на Петра, на ложе двустволки, очень высоко поднял плечи, отвернулся и пробормотал:
– Все шинель носил, защитцвет имел, винтовкам таскал, – не знаем…
– Жалеет об чем, – о барашках!.. – закивал головою Семен. – А у самого, небось, и теперь тыща.
– Тыщи нет… И семисот нет… – неожиданно чисто по-русски вставил подпасок, красивый подросток, тоже в шапке. – Пятьсот есть.
– Хотя бы пятьсот!.. Мало вам, чертям?..
– Тыриста уштук на чужая рука!.. Там хозяин! – быстро качнул старик головой в сторону города и тут же, дотронувшись до сумки Семена, до половины набитой настрелянными скворцами, добавил отвлекающе: – Шпа-ки? Ку-шать будешь?
– Нет… Для мебели… Шпаки теперь, если ты хочешь знать, первая дичь… Все одно, как осенью перепелки.
– Смотри, Семен, глянь!.. Вон их тута сколько!.. Гибель! – внезапно оживился Петр, сам припадая к земле и только высовывая вперед руку.
Действительно, стая скворцов, невидная раньше, выдвинулась теперь из-за отары. Бойкие птицы, глянцевитые, очень ловкие на вид, подлетывали, шныряли в полузатоптанной рыжей траве, копались в кучах овечьего помета, вели себя, как будто сами были частью отары.
Семен осторожно снял двустволку.
– Стрелять хочишь?.. За-чем, друг?.. Барашкам убьешь! – испугался чабан.
Но Семен только повел в его сторону носом, выставил левое колено, прицелился, и один за другим хлопнули два выстрела.
Шарахнулись овцы все сразу, как одна, даже не успев проблеять; задребезжали козы, бойко вскочив и все сразу оглянувшись на Семена; залаяли собаки.
Семен собрал подстреленных скворцов. Недобитых он, подходя к чабанам, добивал о ложе ружья.
– Сто-ой!.. Эй!.. Нема один живой?.. – крикнул молодой чабан.
– Есть один живой… Сейчас окачурю! – отозвался Семен и в сторону Петра добавил: – Шесть штук!
А скворца этого, живого, он уже держал за ножки, чтобы ударить.
– Дай! – протянул к нему руку старый чабан.
– Дай-дай!.. Не бей! – кричал ему подпасок и улыбался сверкающе.
– Что ты с ним хочешь делать?.. На!
Семен отдал бившегося скворца, раненого только в крыло, а старый чабан, принимая его левой рукою, таинственно поднял правую и брови лукаво поднял, точно готовился показать фокус. Молодой же вдруг засвистал протяжно, не пронзительно, а довольно мелодично, обернувшись к скале за кошем.
Потом сказал, сверкая зубами и белками глаз:
– Услышал!.. Ползет!..
Старый посмотрел в ту же сторону, мигнул Петру и Семену и начал ощипывать скворцу перья на крыльях.
– Кто же это такой ползет? – спросил было Петр Семена, но тут же увидел сам: от скалы, медленно извиваясь и приподняв голову, ползла змея, серая с желтизной, толстая – в руку толщиной, на вид аршин двух.
– Что это? Гадюка?.. Страсть боюсь! – откачнулся Петр.
Он сидел на корточках, по-татарски, но приготовился уже вскочить. А Семен орлоглавый только поглядел на змею и проворно стал доставать и закладывать в двустволку патроны.
– За-чем? – испугался чабан. – Э-это… он-о-о… наш один собака!..
– Полоз! – сказал молодой, смеясь. – Гадюка – вредная, этот – нет!..
– Ну, раз вам он известный… – успокоился Петр и принялся разглядывать змею без опаски.
Семен, заложивши патроны, все еще стоял, но сказавши:
– Это – желтобрюх… Здоровый… Я таких не видал! – тоже сел.
– Смотри! – радостно выкрикнул подпасок и, выхватив скворца из рук старого чабана, подбросил его несколько раз, как мяч, в виду полоза и бросил в сторону от стада.
Скворец, должно быть, ушибся, потому что лежал не шевелясь, темным комочком, а полоз повернул в его сторону голову и оживился вдруг чрезвычайно. Он торчком поставил хвост и стал водить им, точь-в-точь как кошка, а когда скворец очнулся, наконец, и запрыгал, трепеща голыми крылышками, полоз бросился за ним, как раскрученная пружина.
– Ужли ж догонит? – вскрикнул Петр.
– О-о!.. Он догонит! – засиял молодой чабан, а старый только качнул головой, не открывая рта.
Скворец прыгал, полоз вился за ним, и Петр видел, что он нагоняет. Скворец кинулся было вбок, но все длинное толстое тело полоза ринулось вдруг в ту же сторону, подбросилось будто в воздухе и остановилось.
– Готово! – сверкнул молодой чабан, а старый добавил:
– Сичас… он-о… кушай будет! – и дотронулся дружелюбно пальцем до Петрова колена.
– Смотри ты, что делается! – обернулся Петр к Семену, но тот отозвался снисходительно:
– Тебе никак это в диковинку, а я к этому сызмальства привык… Сколько я их перевидал, – тёмно!.. У нас же под Борисоглебском там леса да болота… Гадов этих до черта!
– Ну-у?
– Вот-те и гну!.. Ты думаешь, он его чем, шпака?.. Хвостом своим убил… А ты, небось, и сейчас смотрел – ничего не видал.
– Хво-стом?
– То-то и да, что глядеть не можешь.
– Это, должно, от известки я так.
– Одну с тобой известку-то месим.
– Ты ее давно ли начал месить?.. А я ее уж сорок лет мешу!.. И в плену года четыре был, и то ею все займался.
– А ты где же в плен попал?.. Я думал, ты и не служил…
– Неделю мы с тобой вместях работаем, а об себе не говорили… Попал я, значит, в Горлице…
– Знаю я Горлицу… Там наших много попало…
– Ну, вот… Горлица эта… Снарядов у нас нема, патронов нема, а он по нас лупит, немец, а он чешет!.. Так что нас от роты цельной человек пятнадцать, не более, осталось… «Что теперь делать?..» – у фитьфебеля спрашиваем – я да земляк мой, тоже белгородский, – мы оповсегда вместе держались… «А я почем знаю?» – говорит. – «А ротный игде наш?» – «А ротный вон в доме бетонном, знаки подает». (А это он затем знаки нам, чтоб за патронами мы в лезерв бежали.) Я своему товарищу: «Побегим, говорю, все одно смерть!..» Вот, бегим, и еще за нами трое подались… Слышим: «О-ой!..» сзаду – один… Другой: «О-ой!..» Третий… Этих всех троих свалило… По земле катаются, – конец им… Я свому кричу: «Бегим в дом бетонный!..» И ведь вот, скажи ты, – добежали, ничего… Ни одна пуля решительная ни его, ни меня не задела, как все одно мы заговоренные какие… Добегли, – и даже ротный нас похвалил… Глядим, и фитьфебель сюды приполз… Так человек там собралось… ну, одним словом, десятка полтора опять… Говорим ротному: «А дальше что будем делать?» – «Надо, говорит, до лезерву бежать, – концов, выходов больше нету…» – «Тогда, говорим, когда такое дело, давай бежать будем!..» Он это в бинокль посмотрел, перекрестился… «Ребята, за мной!..» Бегим мы, а по нас снаряд пустили… Ротный с фитьфебелем поперед бежали, глядим мы, – от фитьфебеля куда рука, куда нога, – и ротный упал… Я такое дело вижу: «Ребята! – кричу. – Назад… В дом в бетонный!..» Добегаем опять до дому того, – я свово земляка гляжу, жив ли? Жи-вой!.. Еще там человек коло пятнадцати скопилось…
– Что же у тебя все пятнадцать да полтора десятка, – как неразменный рупь!.. Скольких-то убило же? – перебил Семен.
Старый чабан покачал головою и губами пожевал, а Петр подумал, почему это могло выйти, и объяснил:
– Какие убитые были, какие новые набежали… На войне та-ак!.. Вот видим – немцы бегут, штыки держут, – колоть нас!.. Мы счас винтовки на пол, руки кверху – сдаемся! – кричим… Трое немцев к нам забежали, – одного оставили, двое подались дальше… Вот один этот-то, немец, толстый из себя, – посмотрел нас округ, – а глаза мутные, и пот с него капает, утерся рукавом и счас такую бутылочку черную из сумки вынимает, – пьет… Отпил, – а я к нему всех ближе стою, – мне протягивает: «На, грит, глотни!» По-русски, ей-богу! Глотнул, а это ром!.. «Вот, говорю, спасибо вам!..» А он мне: «Ваше дело теперь оконченное: отвоевались… А меня вот еще раз двадцать убить могут…» Ей-богу, так и сказал!.. Достал опять сухарь, мне дает… Я его – с жадностью, потому дня три тогда мы не емши…
– А ты вот, небось, на войне не был? – спросил Семен чабана.
– Я?.. Не-е, – заболтал чабан головой.
– То-то и видно… Потому и барашки тебе жалко…
– Ну, хорошо, – продолжал Петр, увлекшись. – Повел он нас всех потом один на поезд… Через два дня мы уж в Вене ихней были… До чего же там народ добрый, страсть!.. Всего нам надавали!.. Так, публика разная, – деньги суют, пирожные… Кокарды наши им интересны были… «Продай, – говорят, – русский, кокарду!» Так на кокарды свои, на то на се мы день и прожили… А уж на второй день нам обед дали – кашу ячную… «Давай, русские, котелки! – кашевары кричат. – Подходи ширингой!..» А у меня котелка и нет совсем!.. Вот мине досада: десь загубил, когда бежал!.. Я вижу тут на плотуваре коробка картонная валяется, – схватил ее да за кашей!.. Сме-ется немец!.. И полну коробку мне наложил, а она, коробка-то, спроти котелка вдвое!.. Ничего, народ дюже хороший… А как стали потом вызывать, кто по бетону может работать, – я, конечно, земляка свово толкаю белгородского: «Ты, будто, тоже по бетону знаешь, – так и говори!» Потом я до них: «Вот, – говорю, – я да земляк мой – оба мы бетонщики…» «Вот, – говорят, – отличное дело: как хорошо будете работать, мы вам по полтиннику в день, окромя харчей»… – И сколько я потом у них в плену был, все я по бетону с товарищем работал и никакого горя мы не знали… И товарища свово этому делу обучил, – ему теперь на его век хлеба кусок…
– Гляди!.. Слушать пришел! – озарился весь молодой чабан и вытянул палец.
Оглянулся Петр, – не дальше, как в аршине от него, укладывался клубком подползший полоз.
– Стало быть, шпака уж он спроворил?
И отодвинулся чуть от него Петр, добавил:
– Вот вы, чабаны, конечно, до него привычные, а мне все ка-быть гребостно!.. Мне один наш на фронте, – только он из Сибири был сам – такую штуку про змеев рассказал, что я, брат, теперь к ним… с опаской!.. Купил будто мужик двух коров, – за рога их связал, чтоб шли в ногу, – домой ведет… А вести далеко, через горы… Сибирь, – уж известно: там ничего близкого нет. Сто верст если друг от друга, – говорят: соседи… Ведет между камней таких, – не хуже этого вот, – смотрит, колеса будто в стороне рассыпаны, только, стало быть, ободья очень толсты, каких и не бывает… Ну, известно, раз колеса такие, ему, мужику, интерес… Подходит поближе, – бра-ат! – подымается на него головища змеиная, – с медведя ростом голова одна! Ахнул, да бежать… Коров кинул на произвол: своя жизнь дороже… Добежал так до селения, – лица нет на нем… Так и так: обсказал, чего с ним вышло. «Мы, там говорят, давно слышим и сами замечаем… Собирайся какие охотники!..» Человек десять собралось, – медвежатники все, – на то место, а мужик их ведет… Пришли, видят, – одна корова бегает – мычит… Эта, стало быть, жива осталась, только вроде бы с ума сошла, а уж зато дру-гу-ю – всю дотла высосал, – только голову с рогами вострыми кинул… Глядит, и его замечают, – на камнях растянулся… Как не врал, – говорил: сажень двадцать долины!.. Спит, нажрамшись… не хуже этого вот… Ну, хорошо… Вот один нацелился медвежатник ему пулею в голову, – раз!.. И от этого он проснулся, – змей, – головищу свою поднял, да как раззявит пасть, – все от него ходу!.. Ну, он уж не польстился на малость, – сыт был.
– Сочи-не-ние! – качнул головой Семен. – Что ужи коров доют, это я сам видал сколько раз, а уж чтобы змеи такие водились… Что же это, удав, что ли, какой был?
– Ну, а я же почем знаю?
– Сказки!.. Я со змеями вырос!.. Со змеями в руках да в карманах… Ты мне не толкуй!.. Конечно, маленькие ужата, например, они очень вонючие, – ну, в детском возрасте нам абы что, только бы живые… Наберешь их в карманы, да по двору и пустишь… Они и растут, как все равно скот домашний… Ты кашу с молоком ешь, а он тебе уж на спину залез да с плеча голову свою в тарелку. Его, конечно, ложкой по лбу… Он покачается-покачается, да с другого плеча в молоко… До чего молоко любят, – страсть!.. Приходилось потом ежей в дом приносить, чтоб их известь, а то корову испортили: обовьются около ноги задней да за дойку, и ну сосать!.. Куда бабе любой так выдоить, как они доют!.. Ну, ежи, конечно, за одну неделю их перевели…
– Почему же они до молока такие ласые? В лесу же того молока нема, откуда ж они про молоко знают? – очень удивился Петр и добавил чабану: – А этот черт твоих коз не доит?
– Не! – усмехнулся чабан, погладил полоза. – Мой собак!
Семен на секунду задумался было, но ответил Петру:
– Откуда про молоко знают?.. Конечно, в сочинениях об этом должно быть… А только мы, мальчишки, что делали? Обмокнешь в молоко пальцы да к ужу. Уж в палец вцепится, думает, что дойка коровья, начнет сосать, и что же ты думаешь? Раздуется весь, присосется, а оторваться не может… Вот их таким манером нанижешь на все пальцы и идешь по деревне… Девчонки визжат, шарахаются, а мы за ними!.. А то змеюку положишь в карман, да к девкам, а сам семечки лускаешь… Дай, скажет, какая, подсолнушка! – Глянь на солнышко! – Вот, гляжу, – давай! – А ты побольше гляди! – Вот еще минуту гляжу, – давай! – Ну, когда заработала, – на, лезь в карман, тащи горсть!.. – Только она в карман, а там змея!.. Вот визгу!.. А одной сзади за ворот змею посадили, – с той родимчик сделался…
– Гм… Вот какой ты был! – покачал Петр головою. – Меня бы за такие дела отец… всю бы шкуру спустил!
– Мальчишки… что ж… Нам первое удовольствие было девке юбку задрать, да над головой завязать в узел… А то раз одной девке сонной мы змею за пазуху запустили, – вот с ней было!.. Цельный месяц – не меньше – без задних ног валялась!.. А то раз нашли мы в именьи цилиндр такой дубовый, от насоса, – здоровый совсем… Ну, что из него придумать? – Ребята, говорим, давай пушку из него делать! – Идет!.. Пороху у отцов, у братьев достали, – украли, просто, – фунта полтора, передок уперли с телеги, – это, значит, лафет… Мушку посадили… Да ведь что-о! Как нам подвезло-то: шнур достали… Значит, все честь-честью… Забили тряпками потужей с дульной части, а с казенной порох свой всыпали, – вывезли орудие на середку деревни как смерклось, шнур запалили, а сами, конечно, бежать… Ка-эк ахнет выстрел!.. Сколько там стекол к чертям!..
– И орудию вашу, небось, разорвало в клочья?
– Тут уж куда тебе орудие, куда лафет!.. Мы, конечно, по домам ходу!..
– Били, небось?
– За это, конечно, попало… А мы потом взяли да ночью по всей деревне трубы позабивали…
– Ну, а это ж зачем?
– Так себе… со зла…
Петр посмотрел на Семена продолжительно, так, точно в первый раз его увидел, и сказал с жаром:
– Откуда ж это зло такое в вас сидело, хотится мне знать?.. У нас мужику одному, косарю, – на сенокосе он заснул, – ящерка за рубаху залезла, бегать там зачала, и то он с перепугу так и обомлел, падучка его схватила… Так это ж мужик, – а вы девке змею за пазуху!.. Никакого поэтому добра в вас, никакой совести!
Немного помолчал, глядя на Семена теми же широкими глазами, и добавил тише:
– Ты, небось, еще скажешь, что человека когда-сь убил… а, Семен?
– Поди, посчитай, сколько, – буркнул Семен.
Как раз в это время молодой чабан дружелюбно обратился к Петру, кивая на полоза:
– Знаешь, сколько ему год есть?.. Скажи!
– Почем же я знаю? – отозвался Петр.
– О-о!.. О-о!.. – оживился и старый чабан. – Ты скажи: пять год да есть, десять год да есть, а?
– Неуж десять лет ему быть может? – удивился Петр. – Десять лет лошадь уж зубы себе стирает.
– Сто лет есть! – сверкнул и засиял молодой.
Но старому это показалось мало.
– Сто-о?! – И поглядел он на молодого негодующе. – Мой де-да называется – его знал… Мой деда-деда его знал!.. Сколько год остался, а? Скажи!..
– Змею, ему, конечно, износу нет, – процедил Семен сквозь зубы. – Сказано – гад, и кровь имеет холодную… Вот он сожрал шпака, и никакой ему заботы, – теперь спи себе знай… А человеку обо всем беспокойство, – значит, до гадовых лет ему не дожить…
– Мой де-да называется, – чо-обан был! – очень высоко поднял голос старик. – Деда-деда – тоже одно – чо-обан был!.. Я – чобан!.. Все тут… он-о-о… барашка пас… Он тоже… Со-обак наш!
И сдвинул со лба на затылок шапку в знак древности, должно быть, неизменности, стойкости, прижитости к этому именно куску земли всего его рода.
– Вы-то пасли, а он-то лежал себе полеживал, зато и называется гад! – почему-то с явной злостью отозвался на это Семен и харкнул вдруг на голову полоза.
– Се-мен! – заметив это, сказал Петр, как будто встревоженно. – Что же ты мне не обсказал, убил ты на своем веку кого-сь или нет?
– А я тебе говорю: поди, посчитай! – повернулся к нему резко Семен. – Да уж командиру полка свово, полковнику Иванову, дал крест в семнадцатом, будь спокоен!.. Он говорит нам, как мы его вели расстреливать: «За что же, товарищи-гусары, мной недовольны? Я вам столько крестов дал!..» А я ему: «Хоть ты нам сто крестов дал, а мне целых три, ну, а мы тебе только один дадим!..» – И дал!.. Я три года на германском фронте провел, да четыре в Красной Армии, еще и в прочей работе был, а ты меня спрашиваешь!.. Поди, посчитай, сколько я их!.. Ты вот мужик… Хоть ты и бетонщик называешься, а, небось, ни одной копейки зря не проводишь, я вижу, – все в свою норю отправляешь, курским своим обротникам, а я на деревню с пятнадцати лет наплевал… вот!.. Что глазами на меня прицелился?.. У вас там, в Белгороде, чьи мощи-то выкинули? Есофата какого-то?.. В другом конце я в то время был, – жаль, до него не добрался, – ну, а других каких многих, – это уж я выкидывал!.. Ага!.. A ты и не знал!.. Ишь, об змее-горыниче каком-то сибирском сказки вздумал рассказывать, а я слушал – сидел и виду не подавал!.. Да я эту самую Сибирь со своим эскадроном, каким командовал, в конец прошел, когда мы Колчака гнали! А ты мне об каких-то чудовищах дурацких!..
– Поэтому вы, Семен Иваныч, личность из первых! – и робко поднял одну ногу, как бы встать собираясь, Петр. – А я, конечно, почем же мог знать?.. Гляжу, зовете меня вместе по бетону работать, а сами, конечно, к этому делу сноровки не имеете…
– Ишь – сно-ров-ки!.. А того не скажет, что я ему работу нашел, а то бы без работы ходил!..
– За это-то хоть спасибо вам, конечно… Без вас бы, конечно, походил с приезду… Мы – безлошадные… Нам от земли одной кормиться не приходится… Поневоле едешь… А где она работа есть, и сам не знаешь… Едешь в белый свет, как рыба плывет, да на старые места норовишь, где прежде работал… Ан старые места теперь уж новые… не приткнешься… И цемент, конечно, дорогой без числа, всякий от него норовит отбрыкаться… Эх, в Австрии, его, цементу этого!.. Чуть что не едят, до того везде!.. На что босняки, например, не шибко богато живут, а и то при каждой хате яма цементная для навозу, для жижицы самой… Малая капелюшка не пропадет, – все в дело идет… Ничего, народ хороший, – босняки… И понимать их легко было… Скажет: «Два кувурма вода принеси!..» Значит, два ведерка… Возьмешь да принесешь… Все понять у них можно было… Очень был народ хороший…
Орлоглавый, – такой, как воины-гении на стенах ископаемых ассирийских дворцов в Ниневии, – Семен смотрел на него тяжело и сопел носом, острым и твердым, как клюв. Очень быстро жевали жвачку козы: выгнут головы, по-змеиному припав к земле, отрыгнут – и потом живо-живо-живо перетирают и смотрят сторожко по сторонам. Овцы прятали головы от полуденной жары одна под другую и все толкались на месте и подрагивали курдюками. Важные козлы иногда жестко звякали железными колокольцами очень древней работы, когда ожесточенно чесали себе косматые спины загнутыми рогами. Собаки только делали вид, что спали вполглаза… Но полоз спал.
В то время как все кругом изнывало от зноя, он один только чуть разогревался, грелся, входил в тепло. Зернистые чешуи его поблескивали то тускло, то жирно, и в кольцах не видно уж было той упругости, как недавно, когда он догонял скворца. Он изнеженно спал, как случалось ему спать на этом месте много тысяч раз за его долгий век, – он погруженно спал.
Видел ли он сны? Едва ли… Слишком плоска и мала была его голова для снов. Сны ведь тоже некоторый труд мысли; они тоже ведь беспокойство чувств.
Семен с силой бросил от себя в сторону стада окурок, положил руки на шейку двустволки, провел круглыми глазами по кофейным лицам чабанов и воткнулся ими в морщинистые щеки Петра.
– Кулаки деревенские тоже… восстания подымали! – заговорил он срыву. – Почему, спрашивается, деревня ваша пользы своей не могла понять?.. Продразверстку забыл?.. Небось, сам тоже хлеб в землю от нас закапывал, чтобы зря гнил, а мы, Армия Красная, чтобы погибали?.. Помню я бабу одну саратовскую, – век ее не забуду! – шерсть мы тогда собирали… Вхожу… Одна она в хате… Сидит ступой… «С тебя, тетка, – говорю, – шерсти полагается три фунта… давай!» – «Три?» – говорит. – «Три фунта». Так она что же, подлая, а? Подол свой задрала: «На, говорит, стриги!.. Настригешь три фунта шерсти, – твоя будет!..» А?.. Это что?.. Стоило ее убить за это или нет, по-твоему?.. Что?.. Глазами моргаешь?.. А то послали нас, – тоже восстание сочинил один – это в Балашовском уезде – и как же он назывался, предводитель этот? – Назывался он – «Народный сын – летучий змей»!.. Вон они куда змеи-то пошли, на какой обиход!.. Что мы с ними делать должны были, с этими «змеями летучими»?.. А?.. Захватить да пускать их опять? Так скажешь? Они опять стаей сползутся да на нас… Их пускать нельзя было, – не то время!.. Их надо было всех, дочиста, – понял?.. А ты меня тоже спрашивать вздумал, как все равно баба или следователь какой!..
Старый чабан надвинул на глаза шапку и смотрел на Семена из-под черной бараньей шерсти, вобравши шею, молодой зачем-то занялся сухой былинкой цикория, силясь вытащить ее с корнем из утоптанной земли, а Петр все сосал свою крученку, уже потухшую, и глядел прямо перед собою в степь.
– Ну, пойдем в город, – будет, отдохнули! – вдруг оборвал себя Семен, и Петр вскочил легко и принялся отряхивать колени. Старое тело его с поднятыми плечами, провалившимися у ключиц, вообще было легкое, поджарое, способное быстро менять положения.
Он выправил картуз, чтобы стоял твердо и на правый бок, по-солдатски, провел по рыжим усам костяшками пальцев и уже готов был попрощаться за руку с чабанами, пожелать им, – хорошим людям, – чего-нибудь подходящего, но Семен опять сдернул двустволку.
– Отсунься! Ты-ы! – приказал он старому чабану густо и брезгливо.
Чабан не понял. Чабан увидел только два черных дула против своих глаз и, перевернувшись широкомотневым задом, упираясь в землю руками, метнулся в сторону, а Семен прицелился в плоскую голову полоза.
– Эй!.. За-чем?.. – испугался молодой чабан.
– Чево ты? Чево?.. Нельзя! – замахал руками старый, но выстрел, очень оглушивший, все-таки грянул.
Расстояние между Семеном и полозом было ничтожное, – три-четыре шага… Заряд бекасинника разорвал длинное тело спавшего полоза в нескольких местах, и тело это ошеломленно, судорожно заметалось, собирая кольцо к кольцу. Но голова была почти оторвана, и кольца доживали по-своему, как умели, без ее приказа: то вздымались дугою, то вывертывали слюдяно-желтое брюхо… Только хвост сокращался безостановочно, все пытаясь подбросить все тело кверху.
– У-ла-ан?.. Улан, зачем ты? – горестно кричал старик. – Он-о-о – нам… родной брата был!.. Ула-ан!.. Э-эх!.. Порвал!..
И слезы стояли на глазах чабана, когда нагнулся он к издыхающему полозу.
– Пусти, я его кончу! – крикнул Семен.
Но старый чабан лег над полозом и вдруг тоже закричал исступленно:
– Мене кончай!.. Мене стреляй лучше!.. Оно-о родной брата был!.. Мене стреляй!
Поднялся и молодой чабан.
– Ээх, ты! – сказал он горячо, прямо глядя в желтые глаза Семена.
Залаяла вдруг одна собака, за ней другая… Лежавшие поодаль две подскочили точно по команде и начали обдавать Семена и Петра устрашающими степными голосами. Зазвенели древними колокольцами козлы; задребезжали высоко козы; барашки вынули головы из своих убежищ и тоже пытались что-то разглядеть и понять, чтобы потом отскочить всей массой разом, поджимая трусливые курдюки…
– На-ро-од! – говорил, зло шагая к городу, Семен. – Сто лет живут, небо себе коптят, и кого же берегут-лелеют?.. Змею!
Плотный, с толстою красною шеей, он делал шаги все-таки шире, чем легкий Петр, и тот, держась от него на полшага сзади и планируя рукою степь, спрашивал его:
– Кудою ж мы теперь, Семен Иваныч?.. Сюдою ли пойдем, – здесь, конечно, короче, – или же тудою?.. Там хоть, скажем, подальше кажется, только будто идти ровней… Как решаете?
Серые глаза его заглядывали в желтые Семеновы глаза искательно, и голос звучал подобострастно.
Апрель 1927 г.
Верховод*
Однажды июньским утром шестеро ребят пошли в лес за грибами: Алеша и Таня – брат и сестра, Миша и Рая, тоже брат и сестра, и Федька с Генькой – двоюродные братья. Девочки были семилетки, их братья лет по десяти, Генька – одиннадцати, Федька двенадцати лет.
Генька был разноглазый: один глаз серый, другой карий; голова – дыней, грудь куриная, волосы светлые и торчали, как плавники; руки цепкие, и ноги ступали отчетисто, точно слышали где-то барабан; тонкие губы сцепились плотно и имели надменный вид; около губ белые следы лишаев; нос длинный, и подбородок вперед.
Федька же был расплывчатый, мясистый, тяжелая голова книзу, губы в обвис, на тупом носу капли пота. Он нес кошелку для грибов за спиною и, хоть кошелка была пустая – только кусок хлеба да два огурца, – все-таки по-рабочему гнулся.
Генька держал свою кошелку в руке.
– Не отставать! Эй! – прикрикнул Генька на девочек, и девочки, набиравшие дорогой тощие букетики полевых цветов, названия которых они не знали, тут же, заслышав окрик, бежали, схватившись руками.
Глядя на них с презрением, вот он спросил их вдруг:
– А сколько будет два да два?
– Четыре, – ответила Таня баском, плеснув золотой косичкой.
– Четыре, – согласилась с ней Рая, отбросив со лба черные кудряшки.
– А два мильена да два мильена? – спросил Генька.
– Ты с ума сошел, – тихо удивилась Таня.
Этого уж не посмела повторить Рая, только уширила выпуклые черные глаза и повела узким плечиком.
А Генька даже не посмотрел на них. Он командовал брату:
– На тропку сворачивай!
– Зачем? – и медленно вытирал с носа пот рукавом Федька.
– Тебе сказано? – прикрикивал Генька, и Федька поворачивал на тропинку с дороги, а за ним, перекидывая с руки на руку свои корзиночки, шли Алеша с Мишей.
– Это мы опять на дорогу выйдем? – спрашивал Алеша певческим голоском.
– А то куда же? – рубил четко Генька.
– А в лес когда же свернем? – любопытствовал Миша, скрежеща на звуке «р».
– Когда будет, – отзывался Генька, не желая говорить длинно, едва разжимая надменные губы, ногами слушая невидимый барабан.
Дорога шла в гору изгибами; по тропкам совсем было круто, но ребята с жаром взбирались по тропкам, потому что так скорее лес.
Необыкновенное солнце сияло. Каждый лист в кустах светился насквозь. Всех жучков, которые спрятались в листьях, было видно, и Миша, черненький, худенький мальчик, любитель жучков, бабочек, стрекоз, то и дело выхватывал их на ходу вместе с листьями, кричал радостно: «А вот еще один!» – показывал всем над головою и швырял подальше в кусты.
Рот у него был галчиный на маленьком лице, шея, как стебелек… Он все ахал от умиления, и Генька говорил ему строго:
– Прикрой едалку, а то ворона влетит!
Миша темнил глаза, свешивал голову, но шагов через десять восхищался снова и сиял. Рубашонка у него была линючая, синяя с красной вышивкой.
Алеша старался держаться ближе к Федьке. У него одного из всех на голове торчала беленькая шляпка-лопушок. Он был такой же сытенький, как сестра, только чернобровый, и от дороги и солнца раскраснелся. Рубашку он снял и положил в корзинку и аккуратно работал острыми локтями и крылышками лопаток.
– Ты обожгешься!.. Я вот маме скажу! – ворчала на него сзади Таня баском, а он оборачивался к ней, хмурил брови, поджимал губы и грозил кулаком.
Как девочки, так и Миша с Алешей только в первый раз вырвались далеко от дома. Лес они видели только издали, и вот идут туда теперь – их отпустили. Это было для них сказочно, ошеломляюще, а Федька спокойно говорил Алеше:
– Мы в прошлом году ходили, одних груздей по кошелке принесли, а сы-рое-жек там!.. Мы их прямо ногами топтали, несмотря что красивые!.. Там же их тьма-тьмущая…
– Я знаю: грузди… Большие такие… Грузди, рыжики, опенки, шампиньоны, – скороговоркой насчитывал Алеша. – А сыроежки – это какие?.. Их разве сырыми едят?
Он не говорил, а почти пел, притом книжно, отчетливо: мать его была учительница.
Дорога все взвивалась и дыбилась в гору. Кусты становились выше; под ногами все сырее.
Дня три назад прошел сильный дождь (вот почему и собрались за грибами), и здесь, повыше, становилось уже заметно, что это был за дождь в горах. Даже тропинки были размыты и изрыты дождевыми потоками, и висели над ними подмытые корни трав.
– Вот когда груздей! – нюхал воздух Федька. – Я их за то люблю, эти грибы – большие.
– Такие будут? – распяливал свою ладошку Алеша.
– Гм… Вот так большие!.. А не хочешь – вместо лопуха голову накроешь, чтоб не очень жарко!
– Не отставать там! – кричал тем временем Генька на девочек и с презрением выговаривал Мише: – А тебе бы только чтобы мухи!.. Тоже за грибами идет… Мухобой!
Миша смотрел на него виновато и начинал сильнее работать голыми ногами, очень тонкими и с кривыми коленками.
Кошелка у Геньки была в левой руке, а в правой – хлыст из орешника. Этим хлыстом он то и дело бил по сочным листам кустов, наклонившихся над дорогой, и Миша косился на этот хлыст опасливо: вдруг возьмет да ударит его по спине или по голым ногам.
Кустарник становился все раскидистей, все выше, и, наконец, поднялись над головами ребят молодые дубочки.
Дубки эти были разрежены нарочно, – торчали под ногами свежие пеньки, а вдали, сквозь их спицы, как птицы в клетке, виднелись два дровосека: старик с бородкой серой и молодой – в красной рубахе.
Ребята остановились было, но Генька крикнул:
– Чего стали?.. Нечего стоять.
– Это что они? – спросил Миша.
– Ничего они… Рубят и все.
– Зачем? – спросил Алеша.
– Во-от – «зачем»?.. Уголь палят.
– У-голь?.. Какой уголь?
И девочкам куда больше, чем мальчикам, хотелось посмотреть на старика и парня, которые делают уголь, но уже нырял впереди Генька, и они побежали за ним, боясь отстать.
На корову с медным колокольчиком наткнулись в лесу – пеструю, рыжую с белым, брюхатую, один рог обломан… Водила длинным хвостом, как веером.
– Ко-ро-ва! – сказали враз обе девочки, очень удивясь.
– Смотри-и!.. И коло-кольчик! – пропел Алеша.
– Это лесникова, – объяснил Федька, а Генька обернулся презрительно:
– Что? Коровы никогда не видали?
Пахло сырой травой, сверкало солнце на толстых листьях, вякал колокольчик.
– Грып! – удовлетворенно сказал вдруг Генька, сорвал розовую сыроежку, разломил и бросил. – Червивая!.. Вали дальше! Сейчас они пойдут!
Брошенный гриб поднял Миша, к нему подскочили девочки и смотрели на первую в их жизни сыроежку во все глаза: каждой хотелось разломить ее и разглядеть червяков.
– Откуда они, червяки? – спросила Таня Мишу.
– А я знаю? – отозвался сурово Миша.
И Генька кричал спереди:
– Вы итить так иди, когда вас взяли!
Вот и лес… Тот лес – настоящий, который видели только издали, который издали – синий… Наконец, лес, и дубы нельзя обхватить руками, и вверху только кое-где кусочками, клочочками небо, и так высоко оно, что больно шее.
Здесь девочки уже боялись отставать, здесь они держались как можно ближе к Геньке, который то и дело говорил однообразно, но зато чрезвычайно деловито:
– Грып!.. А вон еще грып!
Каждый гриб он разламывал тут же и червивые бросал и даже на Алешу, наиболее нехозяйственного из всех, действовал заразительно.
Толстые рыжие масленки выпячивали желто-зеленые рыхлые животы; хорошенькие сыроежки в розовых платочках выглядывали из-под палых листьев; аспидные свинухи со впадиной на спинке сами просились в руки, но Генька с Федькой искали только груздей, которые были хитрее и глубже закапывались в лесной сор.
Алеша, и Миша, и девочки пытались и сами разглядеть где-нибудь груздевый бугор, но мешало все что-то. То необыкновенно пестрая птица пролетит низко мимо, сядет на дуб и застучит носом.
– Какая это? Вон, эта!
– Дятел, – отзовется Генька презрительно.
Или еще заворкует, как голубь, над головою какая-то с пушистым хохлом, сизая с голубизною, большая, совсем чрезвычайная.
– А эта?
– Горлинка, – скажет Федька.
Но Генька вступит начальственно:
– Ан вовсе не горлинка, а витютень!
– Тю-тю-тя, – пытаются повторить девочки, и им смешно.
Но разноцветные глаза Геньки строги и тонкие губы надменны.
– Вы зачем сюда шли? За грыбами?.. Вот и занимайся грыбами, а то домой нечего будет несть.
Раздавил Федька груздёвую семью: как-то нечаянно наступил обеими ногами и раздавил, а Генька это заметил.
– Эх, чертушко!.. Вот уж чертушко растет! – и толкнул он Федьку.
– Чего дерешься? – уставился тот.
– Еще хочешь? На! – ударил его Генька в плечо.
Федька поплевал на руки и сжал кулаки, однако Генька напал на него так стремительно, что сразу сшиб его с ног.
Федька сидел на земле и глядел на него с недоумением больше, чем с обидой, а Генька, отходя, говорил:
– Еще захочешь – еще получишь!
И тощие вихры его торчали, как петуший гребень.
Уже часа три прошло, как вышли из дому ребятишки, и уж проголодались младшие и потихоньку отламывали и жевали хлеб, но мало все-таки болталось нечервивых грибов в их корзинках, а Генька набил уже почти полную кошелку груздями.
И уж устали девочки, и Алеша с Мишей уже поглядывали кругом, нет ли где ручья, чтобы сесть и вволю напиться горстью, а Генька все вел их куда-то дальше, туда, где уж не видно было ни витютней, ни дятлов.
В лесу стало темнее вдруг.
– Что это? Затмение солнца? – пропел Алеша.
– Туча нашла, – ответил Федька.
– Ого! Туча! – крикнул Миша.
И тут же на него Генька свирепо:
– Чего кричишь? Тут тебе дом, что ли?.. Тут лес!
– До-ождь! – пропел Алеша.
Действительно, несколько капель дождя упало.
– Этот пройдет сейчас, – объяснил Генька и приказал: – Расходись туда, ищи!.. Вози ногами!
Но стало еще темнее, потом дождь посыпался тяжелый и шумный, как град. Залопотали листья вверху и кругом, сверкнуло вдруг, и тут же гром ударил.
Ребятишки переглянулись испуганно и поглядели на Геньку.
Но тот прикрикнул:
– Чего стали?.. Я сказал – сейчас пройдет, значит, пройдет.
– Намокнем! – испугалась Таня.
– От такого дождя намокнешь?.. Иди знай! Теперь не зима: высохнешь!
Гром еще догрохатывал, а Генька – волосы ершом и в разных глазах презрение и к дождю и к грому – двинулся, ногой разгребая сухолист; ребята за ним.
Только Таня шепнула Рае:
– Я боюсь… а ты?
Но Рая ответила:
– А дождь уж не капает.
И Федька впереди:
– Дождь и вовсе на город подался.
А Алеша наткнулся на стройный подорешник и радостно вскрикнул: «Грып!» – совсем как Генька.
Ребята вышли на полянку: направо и налево по большому дубу, посредине трава, но только вышли, зачастил вдруг снова дождь.
– На-мо-чит! – басом предположила Таня.
– Ого! Вот он! Дождь! – крикнул Миша и, вывернув голову, посмотрел на всех с большим любопытством. (Он любил дождь и вообще всякую воду.)
– Бежим под дуб! – крикнул Федька и вдруг ударился со всех ног к правому дубу.
За ним тут же Алеша, за Алешей обе девочки, а Миша смотрел, как прикованный, на Геньку преданными черными глазами.
– Куда?.. Куда бежите?.. – кричал Генька, сам бросаясь к левому дубу.
Миша бежал за ним самозабвенно, следя за его пятками.
Когда он добежал до дуба, синяя рубашка его почернела от дождя, а между лопаток текло холодное.
– А они там! – сказал он чрезвычайно удивленно и показал Геньке рукой на Федьку и остальных, уже сидевших под своим дубом.
Но Генька сам это видел. Генька крикнул туда командным своим голосом:
– Беги сюда!
– Дожжь! – через поляну отозвался Федька и стал смотреть вверх, ища глазами, где ветки гуще.
– Ну, подожди, черт! – показал брату кулак Генька и снова крикнул: – Тебе говорят, беги сюда!
– Не побе-жим! – отозвался Федька за себя и за всех своих.
Миша видел, что Генька серчал. Не дождь тревожил Геньку, не гром, который опять зарокотал, – зло было на Федьку, да и на всех около него: как это побежали они, не дождавшись, куда побежит он… Миша это видел и смотрел на Геньку вывернутым лицом очень преданно, а о тех четырех – и о сестре своей – сказал возмущенно:
– Их избить надо, чтобы знали!
Дождь как будто поредел, но блеснула розовая молния, так что заломило глаза, и ударил гром над головою, тут же за молнией.
Миша испугался такого сильного грома и посмотрел на Раю под тем дубом: Рая и Таня крестились.
– Крестятся! – прошептал про себя Миша и потом погромче Геньке: – А там уж крестятся! Гы!..
– Все сейчас же беги сюда! – приказал Генька, привстав и сделав из ладоней рупор.
– Не по-бе-гём! – раздельно за всех своих отозвался Федька.
– Ой, и бить буду! – крикнул Генька свирепея.
Дождь между тем переставал, сочились тонкие струйки.
– Как бить будешь?.. Хлыстом?.. – пропел тонко Алеша.
Шагов пятнадцать была полянка. Зеленая трава на ней теперь обвисла, тяжелая от капель. Вдруг Миша увидел, что Генька закатывает штаны до колен; и бормотал при этом Генька:
– А, так?!. Я тебе счас, постой!
И вот вскочил он со стиснутыми губами и кинулся по мокрой траве к правому дубу, сжав кулаки, оставив и кошелку свою и хлыст. Миша рванулся за ним, тоже с кулаками, воображая, как с налету накинется он на Алешу и собьет его с ног.
И они уже добегали, когда осияло их вдруг и ослепило, и тут же раскололось небо с таким грохотом, что оба они упали, едва добежав, упали ничком, и Миша не успел ничего понять, ослепленный и оглушенный.
Первое, что увидал Миша, очнувшись, были мокрые грязные пальцы Генькиной ноги около самых его глаз. Пальцы эти сжались и разжались – значит, Генька был жив.
Потом очень несмело чуть повел глазами Миша подальше и увидел, что Рая лежит ничком, раскинув ноги, и рядом с нею Таня лицом кверху, а глаза закрыты, как мертвая.
На остальных он побоялся глядеть, но перевел глаза с грязных пальцев Генькиных ног выше и заметил, что так же несмело, как он, не совсем раскрытыми глазами на него глядит Генька.
– Гень! – шепнул он.
– А? – отозвался тот тихо.
Холодно было. В ушах шум. Пахло паленым.
Миша уперся руками в грязь и поднял голову. И тут же по привычке вывернул шею так, что стало видно дуб, под которым они недавно сидели с Генькой.
Дуб не стоял почему-то, а лежал – валялся, весь был расшвырян, и не больше как в двух шагах пришелся один его толстый сук.
Миша сразу встал на ноги, удивленный, и Геньке шепнул:
– Гляди!
Вся поляна была завалена сучьями с белой изнанкой неживых уже листьев, точно те два дровосека – старый и молодой – срубили только что дуб.
– Как это? – перебрал губами Миша.
Оглянулся, а на него, как спросонья, бессмысленно глядел Федька, лежавший на спине, а Алешина голова пришлась почему-то под его грибной кошелкой, которую обхватил он руками.
– А-а-а! – испуганно вскрикнул Миша и начал рыдать в голос.
От этого крика его и рыданий очнулся Алеша и вытянул голову из-под кошелки, а за ним девочки открыли глаза.
И потом несколько длинных мгновений усиленно, точно узнавая друг друга после долгих лет разлуки, смотрели ребятишки один на другого, и девочки горько разрыдались вслед за Мишей.
Из-под дуба они выбрались, когда перестал уж сыпаться дождик, а до того все глядели на другой дуб, вдруг расшвырявший по поляне все свои сучья.
– Это что? Это молния его так? – спросил Федьку Алеша вполголоса.
– А то кто же еще? – спросил Федька чуть слышно.
– А не гром?.. А почему говорят: громоотводы?.. – и совсем уже шепотом: – А больше не будет уж грома?
Еще дергался Миша от подавляемых рыданий, когда изумил его Генька: кашлянув по-взрослому в руку, поднялся Генька и пошел прямо к разбитому толстейшему опенью дуба, где перешагивая, где обходя вздыбившиеся на поляне сучья.
Он подошел и стал. Потом обошел его кругом. Потом увидел Миша, как он подобрал внизу свою кошелку с груздями и хлыст.
Миша осмелел и увидел, что осмелел также Федька, приладил на спину свою кошелку и так же, как Генька, где перешагивая, где обходя, пошел через поляну.
Девочки ухватились за руки Алеши, и все пошли туда, к Геньке. Миша сзади всех.
Молния ударила в развилину толстых дубовых суков, в седло дуба, примерно на сажень от земли, и дуб обожжен был слабо – его только раскололо и расшвыряло совершенно таинственно и непонятно.
– А что, че-ерт! – сказал зло Федька, глядя на брата в упор. – Кабы мы к тебе тогда побежали, было бы и нам, как тому дубу!
– Было бы и нам! – повторил Алеша.
Девочки молчали, молчал и Миша, только таращил глаза и ждал, что он скажет.
Вот он разжал надменные губы.
– Это почему же это «было бы»?
– А потому, – сказал Федька.
– Почему это «потому», хотел бы я узнать?
– Потому!.. Мы бы перебежали, а молния бы ударила… Вот всем бы нам и крышка.
– И крышка! – повторил Алеша уже не певуче. – А что?
– Э-их! – вытянул Генька ехидно. – А не могла, что ли, молния в тот дуб вдарить?
– Как это?
– Так, очень просто… Вы бы сюда, а она бы в тот дуб, и всё.
– Что, она думает, что ли, молния?! – спросил Алеша.
– А ты чего лезешь! – осерчал на него Генька. – Тоже туда же: ду-ма-ет!.. Я думал, а не то что молния!.. Я думал: в тот дуб вдарит.
– В какой дуб?
– В ваш, вот в какой!.. А потом вижу, в этот полоснуть хочет, я и побежал.
– Врешь! Бить меня бежал! – крикнул Федька.
– Бить? Что я тебя, когда угодно бить не могу?.. Я тебя когда угодно могу!.. Хочешь, тресну?
И Генька ухватил его за горло левой рукой и поднял хлыст.
Назад из лесу шли куда быстрее, чем подымались в лес. Тропинки скользили под ногами. Вода с них сбежала уже, но глина размокла, размякла, – Таня упала и расшибла колено, но не плакала: ведь шли домой, и теперь все уже было ясно и на земле и в небе.
В небе только разорванные кучи облаков толпились и сваливали, и уж просвечивало синее, а на земле так все похорошело от дождя.
И все-таки ведь несут же они грибы, даже немного груздей дал им Генька.
Он идет впереди и держит хлыст, как отточенную саблю.
Вот какая-то большая птица, больше дрозда и с яркими синими крыльями, пролетела низко с куста на куст, прокричав по-вороньи.
– Какая это? – спросили девочки.
– Сойка, – ответил Федька.
– Сойка? – презрительно повторил Генька. – Много ты знаешь!..
Выждал несколько моментов и сказал раздельно:
– Называется сивограч, а совсем не сойка.
Вихры его высохли и стояли опять как петуший гребень, и губы были сложены надменно.
1927 г.
Гриф и Граф*
Коля Житнухин, мальчик лет пятнадцати, утром, когда, после сильного прибоя, утихло море, пошел с мешком подальше вдоль берега, не выкинуло ли где камсы.
Близко к городу незачем было ходить: тут, конечно, чем свет все было подобрано, и Коля забрался в глухие места. После долгого шторма странная стояла тишина, и море режуще сверкало, и берега пахли морем, а солнце грело, как греет оно в феврале на юге, когда небо чисто, и не дует ни с севера, ни с востока.
Белые стада чаек паслись на голубом недалеко от берега; тем вероятнее казалось Коле, что вот выйдет он подальше за камни, на укромный пляж, – и вдруг яркая кипень сонной камсы, переброшенной на взмыве какого-нибудь девятого вала… расставь мешок и греби в него рыбу, как гравий…
Коля зашел далеко, наткнулся на круглый мыс, который надо было огибать с тылу по чуть заметной козьей тропинке; а когда обогнул он его и новый кусок синеватого пляжа открылся, – сколько ни смотрел Коля, никаких ярких залежей камсы на нем не заметил, только совсем недалеко, снизу, шел густой запах падали.
Тропинка к морю была тут очень крута и вилась между камней, угловатых, огромных. Но когда Коля высунулся из-за камней и брезгливо глянул вниз, он увидел орла на выброшенном дохлом дельфине.
Орел-стервятник, истемна-серый, с голой, синей, как у индюка, шеей, рвал красные клочья дельфиньего мяса и глотал, тряся головою, – рвал и глотал жадно, – должно быть, сильно был голоден. Сидел он спиною к берегу и не заметил Коли, а Коля, едва только разглядел орла, весь насторожился, как дикарь-охотник, затаил дыхание и скосил глаза под ноги, – нет ли мелкого камня. Камень фунта в три весом был, и он осторожно за ним нагнулся.
Круглый голыш, обточенный когда-то морем, ловко пришелся к ладони и пальцам, Коля крикнул и, – чуть только орел, оглянувшись, развернул крылья и подпрыгнул, чтобы подняться, – бросил в него голыш.
Крылья эти были слишком огромная цель, чтобы промахнуться, – и орел не взлетел: он упал на бок на пляж рядом с падалью и забил одним только крылом, а другое подвернулось под него и вывернулось светлой изнанкой перьев.
– Попал! – крикнул Коля радостно кому-то – морю, солнцу или гранитным глыбам около себя – и сбежал вниз.
От радости удачи он, дикарь теперь, перестал даже замечать вонь от развороченной туши дельфина. Он видел только орла, и орел снизу, совершенно ошеломленный, смотрел на него, как на свою гибель, и шипел разинутым клювом. Он упирался здоровым крылом в песок и греб когтями, чтобы отскочить от земли и ринуться в надморье, но мешало подвернувшееся перебитое крыло. Глаза его на момент испугали мальчика, он отступил на шаг.
А тут сорвалась с голубой воды чайка и очень удивилась тому, что случилось на берегу. Подхватилась косокрыло и пропищала над Колиной головой:
– И-и-и!
И другая появилась за нею следом. И третья.
Кружились и визжали пронзительно:
– И-и-и!
Коля оглянулся – никого поблизости: пустой крутой берег, дохлый дельфин, чайки над головою – уже целая стая – и орел с огненными глазами, лежащий навзничь.
Стало немного страшно, и мутило от вони.
– Ты, черт! – крикнул Коля, чтобы себя ободрить, и бросил в орла мешком, а когда бросил, покрывши им грозный клюв и прижатые к груди когти, то сразу решил вместо камсы принести домой орла.
– Нет, брат, постой! – кричал он орлу, входя в азарт. – Ты не очень!
Он орудовал мешком, как маленький паук, к которому в сети попалась большая муха: подбегал и отскакивал, пытаясь набросить ему мешок на голову со страшным клювом, и набросил, и как раз в это время, преодолевши боль в крыле, поднялся на ноги орел и стал по грудь Коле, а Коля сразу сзади одернул книзу мешок.
Мешок был джутовый, новый, крепкий и длинный. Орел стоял в нем ослепленный, растерявшийся, неподвижный.
– И-и-и! – необыкновенно выразительно визжали со всех сторон чайки, никогда не видавшие подобного: орла в мешке.
А Коля разгорячился. Он растопырил руки, кинулся на мешок с добычей, свалил его подножкой и очень ловко и быстро стянул бечевой орлу ноги, так что только черные когти, высунувшись из мешка, могли распускаться и сжиматься, а сами ноги не двигались.
Потом он схватил мешок поперек, в охапку, и начал, поддерживая его коленом, карабкаться с ним вверх по той же тропинке между угловатыми гранитами, а за его спиной изумленно визжали чайки и отравляюще вонял дельфин.
Дом отца Коли, плотника Якова Кузьмича, был на отшибе. Не нужно было идти с мешком через весь город.
Чтобы орел не задохнулся в плотном мешке, Коля прорезал финкой щель против его клюва и нес мешок на спине, приладивши веревки. И спина Коли скоро почувствовала теплоту и тяжесть орлиного тела и взмокла сплошь.
Только черный Абдулла-хромой, в бараньей шапке, встретился на берегу: бросал сеть на мелкую кефаль, отчаянно ковыляя. Но не хотелось ему показывать орла, обошел его стороною.
– Э-эй!.. Чево несешь?.. Ка-амса? – крикнул Абдулла.
– Камса! – крикнул Коля.
На косогоре в кустах встретились ребята, вышедшие с топорами и веревками за дровами.
– Эй, Колька!.. Корчи тягнешь? – крикнули ребята.
– Ну да, корчи! – отозвался Коля и пошел не останавливаясь.
А когда подходил к дому, возившийся в земле карапуз, трехлетний братишка его, Ванятка, увидавши снизу в мешке орлиные лапы, очень оживился и залопотал:
– Пухук!.. Пухук!.. Пут-пух!.. Пух!..
– Ага!.. Петух, конечно, а то кто же, – согласился Коля. – Петушка тебе несу!
И только старшей сестре своей, Ксюте, старшей его и по школе на два класса, войдя во двор, где она кормила кур, сказал Коля устало, хрипло, но гордо:
– Живого орла притащил!
Ксюта поправила голой рукой ленту в русой косе и не поверила:
– Ври больше.
– «Ври»?.. А это тебе что? Цапля?
Развязал мешок и медленно начал стаскивать его кверху, открылся хвост подбитой птицы, концы крыльев, спина.
Но Ксюта не хотела сдаться: она даже не ахнула, точно ничего иного и не ждала от младшего брата. Она только еще раз перевязала ленту в косе, забросила косы за спину, подобрала волосы с боков (их было слишком много для ее небольшой головы, и они вечно занимали ее руки) и только потом совершенно спокойно сказала:
– Разве это орел?.. Это вовсе и не орел… Это называется вовсе гриф, а совсем не орел…
– Пускай гриф, а все-таки орел же!
– Гриф, тебе говорят!
Мать Коли была владимирская и говорила на «о», развешивая мокрое белье на веревке:
– Откуда это чертушко такой?.. Да он, страшилище, кабы курей не пожрал!
И правда, куры уже кричали в испуге и мчались со двора прятаться в сарай.
А гриф со связанными ногами и повисшим крылом стоял на верхней ступеньке ветхого крылечка и медленно поворачивал голову, и когда маленький Ваня, войдя во двор, увидел, какой «пухук» стоит у них на крыльце, он заплакал и заспешил к матери.
Яков Кузьмич, человек уже старый, длинноногий и без трех пальцев на левой руке, работал в соседней деревне и пришел только к вечеру, когда гриф сидел уже в большой клетке, сбитой для него Колей из старых досок; сидел он копною, как сидят грифы на взгорьях, по морским берегам, неподвижно и в то же время наблюдающе зорко.
Сломанное крыло ему Коля пытался выправить, но оно совершенно неподобранно свешивалось ниже хвоста; бечевку на ногах Коля разрезал ему ножом, осторожно просунувши для этого руку сзади, сквозь планки клетки.
Всегда приносил с работы Яков Кузьмич стружки и щепки и сваливал их в сарае, – так сделал он и теперь, не заметивши на дворе клетки. Но зато закричала и залаяла встревоженная собака, с ним вернувшаяся, Граф, наполовину гордон, наполовину дворняга.
Лай у него был громкий, так что Яков Кузьмич спросил его из сарая:
– Что, Грах, али кот чужой?
Выйдя, увидел, что не кот, разглядел огромную птицу и попятился, а Коля, появившись на крыльце, сказал отцу важно:
– Видал, какой?.. Это я его камнем!
– Ты?
– Я.
– Камнем?
– Камнем.
– Как же ты его допер?
– Так и допер…
Гриф смотрел и на этого нового длинного человека так же презрительно-спокойно, как смотрел раньше на его жену, дочь. Он даже шеи не вытянул, а стоял нахохлясь.
И так как все мысли Якова Кузьмича вот уже лет тридцать были направлены на то, чтобы добывать для семьи деньги, то он сказал, наконец, подумавши:
– Кто же у нас черта такого могёт купить?.. Прежде бы какой господин богатый на чучело польстился, а теперь кто?
В это время Граф, переставший лаять, подбирался к клетке ползком. И вот, короткий, с рычаньем, бросок его к клетке, и тут же он отскочил с ошеломляющим плачущим визгом: это гриф, наблюдавший за ним, стремительно клюнул его в затылок.
Года три назад Графа звали еще Графчиком, он был забавным щенком. С ним возились дети Якова Кузьмича, как все дети. Ему говорила Ксюта:
– Ах, Графчик, Графчик!.. Ка-кой ты замечательный пес!.. Замечательнее тебя нет собаки на всей земле!
А Коля добавлял густым голосом:
– Даже нет и на всем небе!
Графу это нравилось: он жмурил глаза и сладко зевал от удовольствия. Поверил ли он в то, что нет собаки замечательнее его, но с другими собаками держался он необыкновенно важно. Грудь у него была широкая, голос трубный, шерсть густая, черная… Это был красивый пес.
На больших хищных птиц, которые вились иногда над их двором и от которых неистово кричали куры, он привык смотреть, как на врагов: он бросался за ними по косогорам и лаял, и казалось ему, что это от него они улетели, что это он прогонял их… И вот теперь, в сумерки, на дворе он визжал, как ошпаренный кипятком, катался по земле, перекидывался через спину, вскакивал, бросался к Якову Кузьмичу… У него точно вертячка, как у овец, появилась.
Все из дома выскочили на его визг.
На затылке Графа оказалась рана. Ее промыли водой, приложили к ней мокрой глины. Собака крупно дрожала.
Когда промывали, Яков Кузьмич обращался к дочери:
– Посмотри получше: черепка он ему не провалил?.. Мозги не вылазят?
Коля бормотал:
– Сунулся!.. Вот и получил… А зачем было соваться?..
Графа уложили на свежей соломе, накрыли дерюжкой, и весь вечер, пока не уснули, слушали, как он стонет по-человечьи, и по склонности человеческой кого-нибудь ругать – ругали Колю.
В утро этого несчастного дня Граф вышел из дому вместе с Яковом Кузьмичом и Колей, но скоро дороги мальчика и отца его разошлись, – надо было выбрать, за кем идти. Граф усиленно думал. Длинноногий хозяин пошел сутуло, даже не взглянув на него, а мальчик звал его и хлопал себя по ляжке. Граф побежал за ним, чуть скуля и продолжая думать: куда может идти мальчик с мешком? Куда-нибудь близко, должно быть?.. А длинноногий хозяин, – он знал уже это, – пойдет на целый день верст за пять от шоссе, и потом лесом горным, где все так таинственно, и можно обежать верст двадцать пять вокруг, пока хозяин прошагает пять. Представивши это, Граф на первом же завороте отстал от мальчика и стремительно бросился догонять Якова Кузьмича.
Пахло в это утро тончайшими запахами первых дней весны в долине, белыми подснежниками с гор, палым листом лесных высоких деревьев, ночлегами вальдшнепов, лисьими норами, барсучьим следом, совсем еще свежим, – должно быть, только этой ночью прошелся, – сыромятными, совсем еще новыми постолами на одной из тропинок, подкованными ослиными копытцами на шоссе, рассыпанными кем-то сушеными грушами, – и разве можно перечислить все то новое, что попалось ему в это утро под раздвоенный на конце, всевбирающий, жадный до запахов нос?..
Он носился, взмахивал ушами, останавливался иногда, слушал, нюхал, смотрел, подымал ногу, кружил, рыл передними лапами, иногда лаял в чаще и сам изумлялся круглоте и упругости своего лая.
А в деревне, где провел этот день Граф, такие были смешные псы с обрубленными ушами и заросшими сивым волосом мордами, что он глядел на них высокомерно, презрительно, через плечо и рычал предостерегающе, когда они подходили знакомиться, подымая ноздри и крутя хвостами.
В это утро гриф долго кружился над берегом, пока заметил выброшенного прибоем дельфина.
Распластанные на сажень крылья, носившие его уже тридцатую весну, – до чего же они казались ему прочными!.. Чуть шевельнул ими, – и вот уже перемахнул через Яйлу в степь, откуда море только едва синеет в дымах, и вон – направо – один большой город, налево – другой, прямо к северу – третий… А внизу видно каждую овцу из отар, каждого зайца, барабанящего утреннюю зорю передними лапками на полянке… Но у овец еще нет ягнят, – это будет через месяц, – а заяц забьется в кусты при малейшем шуме над головой… Это не добыча – это только приманка для глаз.
Тридцатая весна, тридцатая весна!.. Тишина, ширина, и всходит солнце над огромнейшим морем… И, бросивши вниз раза четыре свой горловой клёкот, долго в это утро любовался гриф своими горами, своим морем и своим солнцем, пока опустился на свою добычу: кто мог бы отнять у него этот подарок ему моря к тридцатой весне? Никто, конечно.
Слабо, с перерывами, до полночи повизгивал Граф.
То он старался глубоко зарыть голову в солому, то вытягивал ее и лежал оцепенело… Иногда он слышал, как мимо ворот пробегала чужая собака, но не пытался лаять. Даже ворчать он не мог.
Только часам к трем, когда очень посвежело в воздухе, бодрее стало в теле, оттянуло от головы. Повернул голову посмотреть, здесь ли эта страшная птица? Клетка стояла на прежнем месте, и птица спала в ней, издали безголовая, как все птицы, когда они спят. Попробовал разжать челюсти. Отдалось режущей болью в затылке, но вытерпел. Так сжимал и разжимал челюсти несколько раз… Захотелось пить.
Мелкий дождь начал быстро сеяться, но – не успела еще намокнуть шерсть – перестал. Как всегда по ночам, пробунел за окошками кашель хозяина. В таких случаях срывался с места Граф и мчался к воротам, лая, чтобы показать, что он не спит, стережет. (И Яков Кузьмич понимал его и бурчал о нем: «Ишь, стерва, зарабатывает!») Но теперь «зарабатывать» не поднялся Граф, промолчал.
Самое обидное для него было, что ударила его так больно птица. Еще когда он был щенком, он помнил на этом же самом дворе злого старого селезня с зеленой головой, который тоже пытался нападать на него с разинутым клювом и шипел при этом, как змея. Но ничего не стоило, отскочивши, ухватить его за жесткую шею и трепать его по всему двору, так что летели пух и перья, и кто-нибудь из дома бежал его отбивать. Потом, когда он подрос, все птицы его боялись, и, когда он бросался на эту страшную птицу, разве он думал, что она осмелится его клюнуть?
Очень хотелось пить.
Под трубой водосточной стояла кадушка, из нее лакал часто воду Граф, подымаясь для этого на задние лапы. Попробовал сделать это теперь, – тихонько встав, продвинулся к ней, но подняться не мог – сорвался. Постоял с минуту, приходя в себя, и медленно побрел искать глиняную миску с водой для кур, обложенную со всех сторон камнями, чтобы куры не могли ее опрокинуть. Нашел; вода там была мутная и скверно пахла, но все-таки полакал и стал крепче в лапах. Попробовал даже встряхнуться.
Ему самому нравилось всегда, и, он заметил, нравилось детям хозяина, как он, тряся головой, хлопал лопушистыми ушами, точно хлопушками. Но теперь он встряхнулся только спиной и боками, – голову он берег. Посмотрел искоса на небо: луны не было видно, только звезды, и облака бежали по ним проворно. Дул небольшой ветер, и скрипело около дома дерево, старый можжевельник с шишечками не больше горошины, который все собирался срубить хозяин и все не мог собраться. Но скрипело оно теперь до того жалобно, что Графу захотелось поскрести за ухом. Присел было и поднял уже заднюю лапу, но опустил. Скрипи, скрипи, можжевельник! Скрипи, проклятый!..
На клетку со страшной птицей Граф смотрел только мельком: глянет – и отведет глаза, как молнии.
Медленно переставляя ноги и держа голову вниз, Граф обошел вдоль забора и сарая весь двор. Посидел около ворот и так же медленно, но держась ближе к клетке, еще раз обошел его.
Гриф спал плохо.
Он спал по долгой привычке спать по ночам, – это была старая птица. Он спал от тяжести в зобу, как всегда даже и днем засыпал на время, если наедался плотно. Но сломанное крыло ныло и рвущей болью отдавалось иногда и в спине и в подвернутой шее. Тогда огромная, в полтора аршина высотою, птица вздрагивала и переступала лапами.
Это был одинокий гриф, еще не искавший себе самки на тридцатую весну. То, что случилось с ним на морском (своем) берегу, на туше своего дельфина, поразило его чрезмерно. Все остальное – и мешок, и эта клетка, и это человечье гнездо, и люди, которых он видел так близко днем, и черная собака, которая к нему кинулась вечером и которую он ударил клювом, – не могло уж поразить его сильнее.
Он не бился в своей клетке даже и с вечера, так как понимал, что не нужно это, что ему нужен покой, а не бесцельные движения. Голод его не мучил, и он мог ждать, что с ним сделают дальше.
Он даже чувствовал смутно, что собака, которую он клюнул и которая так визжала пронзительно и валялась в ногах у людей, что она теперь уже не визжит, не валяется, а бродит по двору, но о ней он не думал. Он думал только о том человеке, который подобрался к нему на берегу так близко, что мог его ранить.
Людей, которые в его горах рубили толстые буки и свозили их вниз, он не боялся, но он не любил их: после них оставалось в лесах так много плешей, с гладкими пнями вместо уютных деревьев. Случилось даже два раза в его жизни, что он рвал и ел двух мертвых людей, убитых другими людьми, но дельфинье мясо казалось ему нежней и сытнее.
Граф бродил по двору, с усилием ставя ноги, усиленно втягивая в себя все давно знакомые запахи: стружек старых, лежалых, и стружек новых, только вчера принесенных; кур, сидевших в сарае на насесте; глубоко влипших в сырую землю следов от ног Якова Кузьмича, и жены его, и Ксюты, и Коли, и маленького Ванятки (все пахли по-своему, очень разнообразно); мокрых досок, снизу покрывшихся белой плесенью, мокрых стояков, снизу подгнивших и источенных жуками, и много еще… Вслушивался в то, как и кто из знакомых собак на улице лаял: кто по одной только собачьей обязанности и кто от сердца… Ясно было, что никто из лихих людей не ходил около домов… Совсем не было теперь лихих людей, никого и нигде снаружи… Была только лихая птица, и она здесь, на дворе, в клетке.
Медленно и тихо, очень медленно и тихо, поднимая лапы и ставя их по-кошачьи мягко, подкрался Граф на два шага к клетке и смотрел. Птица спала. Он придвинулся еще на один шаг – просто подтянулся, распластавши ноги, и замер. Если бы кто-нибудь в доме хотя бы кашлянул во сне!.. Но даже и Яков Кузьмич устал, наконец, бухать, а остальных редко бывало слышно по ночам.
Глазами, горящими в темноте, пересматривал Граф все планки клетки: ему вспоминалось, что одна треснула и подалась под ним, когда он бросился. И вот он ее увидел. Она была надломлена посредине и даже разошлась немного. Все планки были из ветхих темных досок, но эту он и с вечера выбрал не зря: эта показалась ему и тогда самой гнилою. Он и тогда подумал, что проломит ее своею грудью, и вскочил: такой был напор тогда силы, что дощечка эта показалась ему куском серого картона.
Скрипел можжевельник о крышу… Долго ты будешь скрипеть?.. Скрипел можжевельник, но птица спала, – не нужно было затаивать дыхания.
Часто отворял двери с крыльца в комнату Граф, упираясь в них передними лапами. Надавит, и подается дверь. А один раз он потянул к себе дверцу шкафчика в сенях, и она тоже открылась. Там было холодное вареное мясо на тарелке. Он знал, что нельзя это, но как же утерпеть? И выпросить у кого же было, когда никого не было около? Взял мясо, вынес в сарай и там, в углу, за ворохом стружек, съел. Он думал, что подумают не на него, а на кошку, и сначала действительно били кошку, и он сам на нее рычал, но потом догадались почему-то, что это он, а не кошка, отворил дверцу, и его больно несколько раз ударили ремнем с пряжкой, так что пришлось опрокинуться на спину и повизжать.
И вот, как дверцу шкафчика, Граф осторожно отодвинул нижний конец сломанной планки правой передней лапой вправо и книзу.
Очень застучало в голову, – чуть не завыл от боли, но стерпел.
Припал к самой земле, боясь глянуть на птицу, а когда поглядел, даже поднялся и презрительно повел хвостом: гриф не вынимал головы из-под здорового крыла, гриф спал… Спи, спи!
И, уже стоя, тихо, концом морды, Граф отвел верхний конец сломанной планки влево. Пролом вышел широкий, свободный, шире его груди…
Но тут петух в сарае захлопал крыльями – и отскочил Граф.
И пока орал свое предутреннее петух, Граф стоял ошарашенный: птица вынула голову, птица вытянула шею, птица смотрит!
Замолчи, проклятый!
Птица смотрела подслеповато, как старуха, ныряя в темноте голой шеей в одну сторону, в другую, в третью…
У Графа так заныл раненый затылок, что он лег. Земля пахла куриными пальцами. Из трубы в кадушку капала вода с выдержкой: капп… капп… капп… Поскрипывал можжевельник.
Но вот коротко кашлянул Яков Кузьмич. Приказал, а не кашлянул. Все собранное в оскорбленный комок черное существо Графа только ждало приказа оттуда, из-за окошек.
Еще раз кашлянул коротко: кси, кси!..
И Граф зарычал, подымаясь.
Новое, необходимое: кси, кси, – и точно кнутом ударило Графа сразу по всем напряженным жилам. Окаменел хвост. Шерсть на спине встала щетиной…
Точно совсем не прерывалась борьба со страшной птицей, точно не было ночных часов, точно только что ударила она его клювом, а он отскочил, Граф упруго подобрался снова к грифовой клетке, на момент задержался перед проломом в ней, только захватил глазами ныряющую голую шею, хрипнул, оскалил зубы и кинулся внутрь.
От стремительного прыжка опрокинулась клетка и легла плашмя, и оттуда по двору рычание, визг, придушенность – звуки борьбы последней.
А в доме спали, и можжевельник усыпляюще поскрипывал веткой о ржавый угол крыши.
Какое новое утро настало благословенное!
Только что отслоились, осели из розовой мути горы по сторонам, все мягкие еще и зыбкие в очертаниях, только что упало вниз и чуть заянтарилось и чуть залиловело море вблизи, еще не вспомнившее о досадном дневном горизонте, а чайки – беспокойный народ! – уже развизгивали-раззванивали по всему побережью сложенную ими вчера балладу о том, как безусый тонкий человек унес в рыжем мешке большого грифа, одного из самых больших и самых старых грифов в этом краю.
В это время рыбаки – семь человек на баркасе – только что отчаливали от пристани, готовясь плыть верст за шесть в море, смотреть крючья, вчера – чуть стих прибой – поставленные на белугу.
В это время от прибрежных камней, покрытых львиной рыжей шерстью водорослей, отплывали в места поглубже ночные разбойники – морские ерши, все состоящие из огромной пасти, ненасытного брюха и колючек, прочных, как копья.
В это время сторож, потушивший маяк, всю ночь мигавший переменными огнями, торопливо переругивался со стариком, уборщиком улиц, спешившим на колченогой лошаденке до полного рассвета смести и вывезти конский навоз с белой набережной.
И еще – в это время рано встававший, чтобы не опоздать на дальнюю работу, Яков Кузьмич вышел на крылечко умыться и, разводя по волосатому лицу воду из кружки, вспомнил про раненого Графа.
– Грах! – позвал он тихо. – А Грах!
Но Граф не подошел. Графа не было на соломе. Только из клетки, очутившейся уже на середине двора, твердо вылезала его задняя лапа, упершаяся в землю и неподвижная.
Бормотнул Яков Кузьмич с недоуменной тоской и большой горестью:
– Ну, не проклятая птица!..
И, не кончив умываться, с засученными рукавами, с мокрой бородой, стал над клеткой, сверху смотрел на эту лапу черную, качал головой.
– Эх, Грах ты мой, Грах любезный!
Черная лапа закоченела.
Вынимал он потом из клетки Графа и грифа вдвоем с Колей. Перебитое крыло орла висело на одном сухожилии. Когтей его, зажавших ребра собаки, нельзя было разжать, как нельзя было разжать пасти Графа, зажавшей его голую шею.
Один глаз собаки был выклеван, другой открыт и блестел тусклым стеклом.
Глаза птицы потухли. Перья на груди сбились в кровавый ком.
С пухлыми от сна веками, подслеповато хмурясь и отбрасывая волосы, стояла Ксюта и по-отцовски качала головой в сторону Коли.
– Да до-ро-гая ж ты моя собачка драгоценная! – причитала на «о» ее мать со слезами в морщинках около широкого носа.
Поглядел на нее Яков Кузьмич, почесал в бороде, хекнул коротко и ударил Колю двупалым кулаком в спину.
Грифа не пожалел никто.
1927 г.
Мелкий собственник*

К пятилетнему Кольке, сынишке ночного сторожа Савелия и прачки Феклы, который остался в это летнее ясное утро один на хозяйстве (отец еще не приходил со службы, а мать понесла белье в город), подошла четырехлетняя Надя, дочь больничной сиделки, принесла на руках, как ребенка, прекрасную куклу, укрытую ярко-красным, атласным стеганым одеяльцем, и сказала с подходу, вся лучась и сияя:
– Вот Катя!
– И-шь!.. «Ка-атя»!..
Колька презрительно прищурился и большим пальцем правой ноги провел по слегка влажной земле загадочную черту. Руками он ничего не мог сделать: в одной был большой кусок белого хлеба, в другой – фунтик с красной смородиной: матери нужно же было его задобрить, чтобы никуда не уходил из дому и не скучал.
– Она, когда упадет, никогда не кричит, – расхваливает свою Катю Надя, – и она все кушает, все, все…
– Ну да, – все-е!.. – задирает Колька, толкая куклу локтем. – А небось, са-мо-родину не будет!
– И са-мо-родину будет!.. Еще ка-ак!.. Все, все кушает!
Колька мгновенно прикладывает к яркому ротику куклы ягодку, но фарфоровый ротик скользкий, и ягодка куда-то пропадает из-под его трепетных пальцев.
Он изумлен. Он вскрикивает:
– Съела!
– Ну да, съела! – не удивляется Надя. – И булочку будет кушать.
Колька тут же отдирает от своего хлеба порядочный кусок, приставляет ко рту куклы, а сам нагибается над нею и смотрит во все глаза.
– Не ест!.. А, что? – кричит он. – Вот тебе и Катя твоя!.. Даже и губами не пробует!
Но объясняет Надя спокойно:
– Большой очень… У ней ротик ма-аленький!.. Дай, я сама дам…
– Ну на сама, когда так!.. Щипай сама!..
Надя отщипнула крошечку, добросовестно сует в рот своей Кате и даже сама не замечает, что крошка прилипла к ее собственным пальцам.
Однако руку она отводит назад и говорит серьезно:
– А вот это съела.
– Съела?.. Где?.. А ну, я ей сам дам!.. Вот, а, что?.. Даже и совсем никак!..
– Сыта уж, – объясняет Надя. – Она маленькая… Разве она много может?
– Ее как зовут? – спрашивает Колька тихо.
– Катя же! – удивленно отвечает Надя.
Колька очарован. Колька уже влюблен в Катю. Колька весь до краев переполнен этой влюбленностью… И он говорит глухо:
– Пускай она спит!
Девочка тут же укрывает ее заботливо и начинает мурлыкать песенку, у которой свойство усыплять детей:
– Катя, крошечка моя-я, нена-глядышка моя!
– Хым… Оглодышка! – ввязывается Колька, кусая хлеб.
– Не надо так! – укоряет Надя.
– Почему это не надо? – наступает Колька.
– Некрасивое слово… И Катя спать не будет.
– Ну, нехай спит… И не просыпается…
Колька ест хлеб и смородину, а Надя все ходит около, укачивает и напевает:
– Не-на-глядышка моя-я, ненадышечка моя!
Это очень тоненько и даже, пожалуй, грустно.
– Уснула! – говорит она, наконец, серьезно, кладет куклу на траву очень нежно и очень заботливо и обращается ласково к Кольке:
– Дай самородинки!
– Ишь ты какая!.. Пойдем дикой лук искать, тогда дам! – властно говорит Колька.
– А Катя же как?
– Нехай спит!.. «Катя»!.. Будешь еще Катю свою везде таскать!
– Ну что ж, – соглашается Надя, матерински оглядывает спящую и идет: «Катя» лежит около дома на траве, потеряться она никак не может, а в кустах, пожалуй, изорвешь ее платьице.
Кусты здесь около, потому что это – окраина города, нагорный берег реки, и среди них много колючих, идти между ними нужно осторожно, а Колька так и шныряет и кричит то и дело откуда-то, где его не видно:
– Вот он лу-ук!.. А вот еще лу-ук!.. Сколько мно-го!
Лук этот жесткий и длинный; цветочки лиловые; пахнет от него чесноком.
Надя – синеглазая, в белом, в желтых туфельках – все старается поспеть за Колькой, который кружит по кустам, как собачонка, и потом совсем уж неизвестно где. В укромном уголку между кустами попался и ей одинокий длинностебельчатый дикий лук, и она рвет его, торжествуя, и нюхает и морщит носик. Но все-таки она крепко зажимает его в руке и кричит куда-то в зеленое кругом:
– И я-я нашла-а-а!.. Ко-ля-я!.. И я нашла-а-а!
Кусты очень густые и очень высокие, – так кажется ей. И так много тоненьких веток кругом, – рябит в глазах… И под самыми кустами, в глуши попадаются кустики фиалок, – цветов давно уже нет, одни листики, сверху зеленые, а повернешь, – то будто фиолетовые, то розовые: из них выходит букетик куда лучше, чем из вонючего дикого луку.
– Надь-ка-а!.. Ты игде та-ам?.. – кричит Колька из такой дали, что его еле слышно.
– Я здеся-я-я! – отзывается Надя тончайше, насколько может, а сама спешит-спешит к нему, продираясь мимо колючек боярышника.
Но вот не слышно стало Кольки, и нет его нигде: хоть бы где-нибудь мелькнула его розовая рубашка или круглая стриженая голова.
Наде становится немного страшно даже. Она бросает дикий лук, прижимает к груди букетик из листьев фиалок и начинает всхлипывать тихо.
– Коль-ка-а-а-а! – зовет она громко и очень долго тянет: – а-а-а!
Потом бросает и букетик. Еще раз зовет, – не отзывается Колька, а сама все продирается через кусты куда-то. Теперь она уже всхлипывает громче… И вдруг тропинка, по которой можно даже бежать, – такая широкая. И, хныкая и вытирая глаза, она добегает до дороги, с которой уже виден Колькин дом с одною трубою. Дальше бежать просто и даже весело, и слезы на щеках высыхают сами, пока она добегает до зеленой площадки, на которой оставалась Катя. Она ищет везде глазами, – куклы нет. Как же это?.. С большой тревогой обходит она вокруг всего домика, – нет нигде ни куклы, ни красного стеганого одеяльца.
Тогда она опускается на колени, начинает бить маленькими кулачонками траву и землю, на которой лежала Катя, и рыдает срыву, страшно, последним рыданием.
– Ты чего это? – сурово спрашивает ее Колька, вдруг взявшийся неизвестно откуда.
– А-а-а… Ка-тя… а-а… где?.. – еле может простонать Надя.
– А я знаю? – строго удивляется Колька.
– Ка-ти… а-а-а… нет!..
– Домой пошла! – догадывается Колька, а брови насуплены.
– Не-ет… а-а-а… Не до-мо-о-ой…
– Что?.. Не может, что ли, домой пойти?.. Во-от!.. Самородину ела, а домой нести ее надо?..
И Колька беспечно подковыривает большим пальцем правой ноги ту траву, на которой лежала кукла. Потом он подбирается этим самым крепким, круглым, черным, покрытым цыпками пальцем под колено Нади и сильно дергает ногу кверху. Надя валится на бок, на момент утихает от изумления и – новый плач.
– За-мол-чи! – делает над нею грозное лицо Колька.
– А-а-а-а!..
– Ух, и бить буду!.. Замолчи!
Он крепко сжимает кулаки около самых глаз девочки, и та мигает красными веками, длинными ресницами, слипшимися от слез, и отодвигается по траве. Она испугана теперь, и Колька действительно страшен; он выкатил свои желтые глаза, насколько мог, и оскалил зубы. И он стучит зубами… что, если ими ухватит за руку?
Надя вся трясется от рыданий.
– За-мол-чи! – шипит Колька.
И вдруг он толкает ее ногою в грудь. Надя перевертывается несколько раз, катясь по земле. Она до того испугана, что перестает рыдать мгновенно. Она только дрожит вся и всхлипывает. А Колька смотрит на нее так же страшно, и кулаки его сжаты.
Шагах в трех от него подымается Надя и так же срыву, как начала рыдать, бежит к своему дому серьезно, насколько может быстро мелькая ножонками, и молча.
Новый взрыв ее рыданий слышит Колька уже издали, там где-то, около ее дома, где, он знает, теперь тоже нет ее матери, больничной сиделки.
Тогда он бежит к себе в комнату, из-под подушки вынимает Катю, прижимает к губам ее фарфоровую кудрявую головку, и по лестнице, кое-как сколоченной его отцом из гнилых досок, которую он приставляет сам с очень большим трудом, лезет на крышу, а потом в слуховое окно на чердак, где пахнет кошками, мочалой, гарью и где темно.
Там, около печного боровка, за стопкой безуглой бракованной черепицы, он осторожно кладет Катю и прикрывает одеяльцем.
Никто не видит Кольку, когда он вылезает из слухового окошка на крышу и спускается по лестнице вниз… Никто ли?.. Надо хорошенько осмотреть все кругом… И до чего же внимательны и быстры и хищны теперь пятилетние Колькины глаза!..
По лестнице вниз соскальзывает он, потом выбегает за угол дома и стоит, заложивши руки назад. Никого. Нигде… От восторга удачи он кувыркается через голову несколько раз и кричит воинственно, как кричат кобчики или ястребки.
Потом он вынимает из-под кровати все свое имущество: большого черного шахматного коня с отломанными ушами; белого кролика, сделанного из чего-то очень пушистого и нежного до того, что Колька только любовался им, отставляя его на всю вытянутую руку, и говорил восхищенно: «Эх, ты-ы!.. Вот это так заяц!..» Глаза у кролика были два розовых стеклышка; кролик сидел на задних лапках на красной дощечке; когда Колька давил какую-то шишечку внизу этой дощечки, «заяц» пищал протяжно… Наконец, вытаскивает Колька торжественно пароход из тонкой жести, совсем как настоящий, так ловко окрашенный в черное, белое, красное, и с колесами, с мачтами, с двумя трубами… На воде он плавает, конечно…
– Да где же ты взял такой пароход, малый? – в свое время спросила Фекла.
И он ответил тогда, так же, как о коне и зайце:
– Где взя-ял!.. Нашел, – вот где взял!
Но была у него еще одна блестящая медная штучка, не большая, но затейная. Перестилал весною пол в их домике плотник Илья (нос красный, усы желтые; в фартуке, как баба), и вот у него увидал он эту штучку: в середине между медяшками стеклышко, и под стеклышком бегает шарик. Илья становил ее на балки и смотрел в стеклышко; потом подтесывал балки топором и опять ставил и смотрел.
– Это что-й-то? – спросил Колька.
Илья повернул к нему голову в екнем картузе, кашлянул, нахмурился и ответил:
– Это… для удивления дураков.
– А раньше? – обиделся Колька.
– Да и раньше так же само было: чтобы дураки удивлялись.
Колька отошел от него тогда, а сам следил зорко.
И когда уже кончил свою работу Илья и сложил все инструменты в обшитую парусиной худую кошелку, а сам пошел к колодцу, где стирала Фекла, получать за перестилку, Колька выхватил из кошелки то, что его поразило, и убежал, а Илья ушел с кошелкой домой, не заметив пропажи.
Эту четвертую свою игрушку Колька не показывал даже и матери. И вот теперь она важно сияет, эта игрушка, на двух поставленных кирпичах, очень важно!.. Так же, как собор в городе на горе… В траве перед нею пасется белый заяц… А вот вороная лошадь скачет!.. Она тебя, зайца, копытами сейчас затопчет! Беги, заяц!.. Беги во весь дух!.. И левой рукой он двигает коня, а правой спасает зайца. Конечно, он успевает при этом надавить там какую нужно кнопку, и заяц отчаянно пищит от страха. Однако погоди так уж очень резвиться, вороной конь! Подходит пароход к церкви (она же и пристань). Пароход подходит и гудит: – Бу-у-у-у-у!.. – очень долго и басом. Сделает небольшой перерыв и опять: – Бу-у-у-у!.. Привез какие-то мешки, ящики, – вообще грузы… Тут нужно бросить пока коня и скорей-скорей, пока пароход не перестал гудеть, нагружать его всяким сором. Конечно, подошел к пристани. Надо выгрузить этот сор на пристань и везти его дальше на вороном коне в город. Но у коня где же дроги?.. Может быть, лучше на зайце? У него есть куда сложить груз: на дощечку под задние лапы, и пусть везет… Эй, ты, заяц!.. Иди-ка сюда, заяц!.. Бу-у-у-у-у!.. Пароход дает уже первый гудок. Вот тебе, зайцу, груз, – трудись, заяц! Пускай и лошадь везет с тобой рядом, если тебе тяжело. А то ишь ты, лошадь! Только бы ей скакать, а возить не может!.. Бу-у-у-у!.. Гудит пароход: второй гудок… Сейчас еще третий и отчалит…
Но не удается отчалить пароходу: с низка по дорожке поднялись уже и подходят к дому сзади Кольки несколько человек. Тут и Надя, которую ведет за руку мать, сиделка, сверкая очками; тут и плотник Илья, – фартук и картуз синий; тут и садовник, Иван Николаич, в желтой соломенной шляпе, и, наконец, тут же мать его с небольшим узлом белья на спине и отец с узлом побольше.
И Колька, испугавшись такого множества, стремительно вскакивает, оставляет все игрушки и бросается в кусты.
Из кустов, с бугорка, шагов за сто от дома ему отлично видно, как блестит его церковь в руках у плотника Ильи, как его вороного коня и пароход взял Иван Николаич и как он качает своей шляпой вправо-влево; а Надина мать все наклоняется к его матери и показывает куда-то рукой, а в руке у нее белый заяц, и очки ее сверкают так, что даже больно смотреть.
Но он не все слышит, что они говорят, даже старается не слушать: все равно уж теперь не будет у него ни зайца, ни коня, ни парохода… Но зато они не найдут Кати! Куда им ее найти!
Колька не может даже и представить, как это сразу могло собраться такое множество людей в одно время, все сразу. Он не знает, что люди, как муравьи: сбегаются – разбегаются, сходятся – расходятся. Он не знал, что в домике садовника Ивана Николаича работал Илья; что когда он услышал по соседству, у сиделки, рыдания Нади и узнал, по какой причине это, – он вспомнил про потерю своего ватерпаса, а Иван Николаич кстати вспомнил про то, что совершенно непостижимо исчез куда-то конь из его шахмат, и вместо него теперь нелепый обрубок прыгает по доске, а кроме того, для него ясно стало, что, пожалуй, не цыганка бродячая украла пароход его Жени, а тот же самый мальчишка прачки, приходивший к Жене играть.
Колька не слышал, сколько торжества было в голосе Ильи-плотника, который крикнул, подходя к дому:
– Вон он, и ватерпас нашелся!.. Ну что, не говорил разве я?
Он вытирал ватерпас фартуком, вертел его так и этак и приговаривал:
– Дивно, как еще не расшиб!.. Этому народу долго ли?.. Кирпичом трахнул, и есть!.. А его теперешнее время, ватерпас-то такой, – где его купишь?.. Теперь и напильники продают, – маленькие, по восемь гривен, – только-только один раз пилу направишь, ну и бросай…
Не слышал Колька и того, с какой укоризной говорил садовник:
– Выходит, значит, это не мальчик у вас растет, а настоящий похититель!.. Потому что порядочный мальчик… – Обождите! Вы после скажете! – он должен получать наставления от родителей своих, – вот что!.. А вы, значит, ему никаких нотаций не читаете, – обождите, дайте сказать! – и будете вы с ним потом плакать… Я вам истину говорю!
Иван Николаич и не очень стар, – лет сорока пяти, – но он высокий, медлительный, чернобородый, с толстым, как сазан, носом, и важности необычайной.
– С пароходом еще благородно обошелся, – добавляет он задумчиво, – а вот коню ушки, конечно, пообломал!.. Ведь это порча вещи, – обождите!
Но и сиделка, мать Нади, не дает ничего сказать Фекле.
Она нападает яростно, потому что кролик Нади нашелся, вот он, – факт налицо, – но где же кукла?
– Если вы мне сейчас же не разыщете куклу, то я… я… я и не знаю, что сделаю!.. Я и не знаю, что сделаю!.. – наседает она.
Голос у нее звонкий, визжащий, талия тонкая, муравьиная, и она сгибается и выпрямляется, сразу, без всяких усилий, – и блещет, блещет очками.
– Колька-а!.. – кричит мать в кусты. – Колька, иди до дому!.. Ох, и бить буду!..
А ей, Надиной матери, говорит осторожно, улыбаясь одними глазами:
– Разве ж оно придет теперь?.. Оно теперь забежит на край света прямо! А как он через эту куклу паршивую пропадет?.. На-ку-пают чепухи всякой – кукол!.. Вот уж остатки буржуазии!.. А через эту куклу мальчишка пропадать теперь должен? По-вашему, так?
– Конечно, нотацию, – справедливые ваши слова, Иван Николаич, – говорит тем временем отец Кольки. – Однако что поделаешь? Природа, она преодолевает натуру, – вот!
Оттого, что он нес в гору тяжелый узел с бельем, у него из слабой узкой груди дыхание вылетает со свистом, но кашлять он не решается, терпит, и только трет себе шею рукавом рубахи.
– Мне до вашего мальчишки нет дела и до вас тоже! – кричит сиделка. – Белье себе я сама стираю!.. Мне есть дело только до куклы, которую, если хотите знать, я и не покупала, – да здесь такую и не купишь, – а подарила мне больная одна за мой труд каторжный, бессонный, если хотите знать!.. «У вас есть, говорит, дочка – девочка?» – «У меня есть, говорю, маленькая дочка – девочка». – «Так вот это ей, говорит, от меня подарок за ваш каторжный труд ночной!..»
Из-под очков на желтые щеки выползают у нее слезы, но тонкая талия все разгибается – сгибается, разгибается – сгибается, точно она делает гимнастику.
– Что вы ко мне с той куклой пристали? – начинает кричать и Фекла. – И очи мои той куклы не видели. Где ж она, эта кукла, быть может, когда ее нет?
– А я аж давно от Жени своего слышу, – медлительно продолжает о своем Иван Николаич, сверху вниз уставясь в морщинистое лицо Савелия с очень большими глазами. – Зря на цыганку думаете, будто она это взяла, – обождите… И после цыганки пароход мой у меня никак двое сутков был…
– А чего лестница на чердак стоит?.. Ты ставила? – не слушая, спрашивает у жены Савелий.
– Какая лестница, – отвяжись ты, хвороба!.. Лежала себе лестница, где и счас лежит!..
– Однако стоит…
И тут же как-то сами собой тонкие, в серых брюках, ноги плотника Ильи задвигались к лестнице, и вот уж, завернувши фартук, попробовав руками, выдержит ли, – лезет Илья на чердак и бормочет:
– Стамеску еще одну я где-й-то посеял, – хорошую стамеску, – нонче такой не найдешь… Не иначе, как тут у него склады…
Фекла кричит неистово:
– Ты что же это такое так нахально?.. С обыском в чужой дом явился?
Острое лицо ее покраснело сплошь, из-под белого платка выбились русые косицы, – чуть не ухватила она за ногу Илью, но, когда опоздала все-таки и он взобрался на крышу, толкнула лестницу, и, легонькая, сухо брякнулась она наземь, взбрыкнув ножками.
Столпились все поближе к слуховому окошку, и вот показалась из него рука с красным одеяльцем и потом другая рука с куклой Катей.
Чуть только увидела свою Катю маленькая Надя, всплеснула ручонками и спрятала лицо в платье матери.
Колька жадно глядел на крышу и, когда увидел на ней Илью и потом как из слухового окошка закраснелось одеяльце, как флаг, кинулся бежать дальше, пригибаясь к земле и воя, и уже не оборачиваясь назад.
Необыкновенно, чрезвычайно это вышло! Только выбежал Колька на пригорок, оказалось, сидел там какой-то человек, – старик, волосы седые, длинные, зонт над ним, а перед ним на фанерке картина.
Колька сразу перестал выть: старик водил по картине кисточкой, красил картину.
– Во-от, гляди!.. Красит картину!.. – для себя, но с таким удивлением сказал Колька, что старик услышал и обернулся.
Усы – тоже седые, а зонтик привязан к колышку бечевкой.
Поглядел только старик, – глаза черные, однако не злые, – опять принялся красить.
Тогда Колька подошел к нему совсем близко, на шаг, и очень хорошо различил на картине белые дома, церковь, собор – повыше домов, реку и на ней пристань. На пристани много ящиков, мешков, и отъезжают лошади с дрогами.
– Вот ка-ак!.. – начал улыбаться тому, что красил этот старик такое ему привычное, Колька.
– А?.. Что, братец? – спросил старик и еще раз поглядел на него, а глаза ничуть не злые.
Колька улыбнулся шире.
– Ты что, – здешний, хлопчик?.. Где живешь?..
На голове у старика ничего, – только волосы, как белая шапка.
– Там живу, – качнул Колька головой вниз.
– Та-ак… Здешний, значит… Ну, садись, рассказывай…
– Чего рассказывать? – насторожился Колька, а сам посмотрел в сторону дома: не идут ли за ним.
– Так, вообще… Тебя как зовут?
– Колька.
– Так вот, Колька… Значит, Колька… Валяй, рассказывай дальше…
– Об чем рассказывать?
– Ну, мало ли у тебя?.. Есть такие ребята… разговорчивые… Вот и ты, брат, такой, – я уж вижу…
– Нет! – уставился Колька на его ухо, из которого тоже лезли седые волосы.
– Плохо!.. Плох ты, Колька… Должен ты говорить и меня учить, а я должен слушать… в священном трепете…
– Ты говори сам, – предложил Колька.
– Я?.. Я уж говорил, брат Колька… Мне уж надоело.
И вдруг подавил он трубочку белую, – из нее так и выскочила, как червячок, оранжевая краска.
Старик повозил ее кисточкой по дощечке и ляп-ляп – вдруг загорелись, как живые, макушки собора.
От удивления, от крайнего восторга у Кольки как разинулся рот, так и не хотел очень долго закрыться. Эта яркая краска, от которой, как живая, стала церковь, эта золотая краска в серебряной трубочке его приковала… Тут же, около ящичка с другими красками, была на землю брошена эта трубочка.
И вот Колька присел на корточки так, что прочный большой палец его правой ноги пришелся как раз к этой трубочке, и он, не сводя глаз своих с незлых черных глаз художника, занятого своим этюдом, начал осторожно двигать этим пальцем, чтобы подтянуть трубочку под ступню.
Все не закрывая рта, как причарованный, глядел он на художника, и, заметив его взгляд, самодовольно говорил старик:
– Да-с… Вот так-то, брат Колька… Называется это – жи-во-пись… Живопись называется… От тебя же я все-таки смиренно жду, что ты мне такое велемудрое расскажешь…
– На кой? – хрипло выдавил из себя Колька, чувствуя уже трубочку под ногою.
– Как «на кой»?.. В поученье! – балагурил художник.
А Колька, все не сводя с него глаз, уже захватил осторожно серебряную трубочку с золотой краской левой рукою, но, захвативши, он не мог усидеть спокойно. Он вскочил и бросился бежать, и тут же заметил у него в руке свой тюбик кадмия художник, и он тоже вскочил.
– Ку-да-а?.. Куда взял?.. Ты-ы!..
И за бегущим Колькой побежал старик – сухой, рот черный, глаза страшные, волосы – белой шапкой…
Колька выпустил из руки тюбик, – только бы самому убежать! – а старик кричал ему вслед:
– Ах ты, жулик московский, а-а!.. Вот это так жу-улик!..
Колька вернулся домой тогда, когда все уже разошлись, отец лег спать, как всегда, а мать разводила огонь под вываркой у колодца.
Мать его била небольно (матери редко бьют больно), мать только все грозила ему:
– Вот погоди, дай отец встанет!..
И вот, в ожидании, когда встанет отец, он стоит около стены, к которой с таким неоцененным трудом приставлял он лестницу, и ковыряет пальцем штукатурку. Сыплется известка, сыплется глина, начинает уже показываться плетень, когда подходит кошка, мурчит и трется крутым лбом об его голую ногу.
Он отшвырнул ее. Она обиженно уселась недалеко и начинает вылизывать языком грудку. Она – плотная, серая с черными полосами, как маленький тигр, и хвост у нее толстый и черный, но на груди примостилось белое пятно.
Она кажется Кольке вдруг необыкновенно красивой, почти так же красивой, как кукла Катя. И она – своя… Это его кошка. А ну-ка, приди-ка кто-нибудь ее у него отбирать? Он тогда во всех будет швырять кирпичами! Он и на Ивана Николаича не посмотрит!.. Это его кошка!
– Кис-кис-кис! – зовет он тихонько, не поворачивая к ней головы, только скашивая глаза вбок до предела.
Кошка встревоженно глядит на него двумя зелеными огоньками и начинает облизывать грудь с еще большим одушевлением.
– Киса-киса! – погромче говорит Колька.
Кошка только чуть зиркнула и продолжает свое.
Кольке хочется, чтобы его кошка опять подошла к нему и потерлась об ногу лбом, но она не подходит.
Тогда он двигается к ней сам, – не открыто, а боком, лениво, и не глядя на нее, а даже отвернувшись. Однако кошка отскакивает шага на два, глядит тоже искоса, как он крадется, и зевает.
Он делает вид, что совсем она ему не нужна, и заходит немного в сторону, и, когда кошка беспечно растягивается на траве навзничь и начинает играть с колоском овсюга, он кидается на нее хищно, хватает изо всех сил и тащит.
– Ты чего не шла, когда я тебя звал, а? – грозно спрашивает Колька и дергает ее за хвост.
Кошка мяучит рассерженно и выпускает когти.
И как раз мать, вместе с чужим вынесшая мыть и свое белье, берет в это время в руки его одеяло и, оборачиваясь на мяуканье кошки, кричит ему:
– Брось кошку!
– Не брошу! – бубнит в ответ Колька.
– Эта кошка – ловущая на мыши, дурак!.. Это дорогая кошка, а ты ее таскаешь!
– Ну?
– Двадцать разов говорила тебе: не бери кошку на руки!.. Портится кошка от рук!
– Ну-у?
– Я тебе вот нукну сейчас!.. Брось, говорю!
– Не брошу! – твердо отзывается Колька. – Моя кошка!
– Как это твоя?
– А то чья же?.. Скажешь, – Надькина?
– И вовсе моя это кошка, а не твоя!.. Я ее у Петровны котенком достала, тебя еще на свете не было, дурака такого!.. Это – породного заводу кошка!
– Тво-я?.. А у кого она на кровати спит, а, что? – торжествует Колька, но уже озадачен.
– То-то у тебя в одеяле от нее блох полно!.. Да матушки ж мои родные, – так и ползают, как жуки!.. Брось сейчас кошку, тебе говорят!
Колька онемело смотрит на мать и бросает, наконец, кошку так, что она прыскает стрелою в кусты, а хвост – копьем.
– Ба-атюшки!.. Да их и не вытрусишь, окаянную силу! И до вечера не подавишь! – ужасается Фекла, проворно действуя пальцами.
– Не дави!.. – вдруг в голос кричит Колька.
– Как это «не дави»?.. Они же тебя, дурного, поедом едят, – кровь твою сосут!..
– Пусть едят!.. Не тебя ведь едят? – кричит Колька.
– Еще бы меня ели! Уйди! На тебя прыгнут!
Но Кольку уже нельзя теперь отогнать. Пусть игрушки были не его, пусть Катя была не его, пусть золотая краска была не его, пусть даже и кошка теперь не его, но блохи в его одеяле!..
И он подступает к матери, обеими руками крепко хватается за свое одеяло и кричит:
– Ступай своих блох дави!.. А моих не дам! А моих не дам!.. А моих не дам!..
И он весь дрожит тугой злой хорьковой дрожью, и глаза у него округлели, и зубы ощерены, – вот-вот кинется и укусит!
– Что ты, дурная мазница!.. Что ты, стервец! – удивляется и даже слегка пугается мать.
А он тянет одеяло изо всех сил, он краснеет до последнего, но уж не кричит в голос, а бормочет сквозь зубы, хрипя:
– Мои блохи!.. Мои блохи!.. Мои блохи!..
Февраль 1928 г.
Сливы, вишни, черешни*
Июньское причерноморское солнце, полуденное, самое безжалостное, не давало трем плотникам, – Максиму, Луке и Алексею, – дышать свободно даже и в балагане около постройки, где они делали просветы и теперь обедали, утопив ноги в кудрявых стружках.
Кроме того, мешали осы: нервные, неутомимые, наглые, они вились неотбойно кругом, облепляли ломтики розового сала, жадно пили молоко из кружек, и сладострастно дрожали, насыщаясь, их золотые с чернью, ловко скованные узкие тельца.
Но то оттуда, то отсюда подкрадывалось к ним синее лезвие складного ножа и очень метко перерезало их пополам как раз в тонкой талии, и вот вместо прекрасно устроенной взволнованной хищницы валяются и вертятся на верстаке два недоуменных желтых комочка, и так, пока обедали, Максим перерезал их не меньше двадцати штук, приговаривая однообразно:
– Еще одна! – и бородатое, светлоглазое, полосатое от загорелых морщин лицо Максима выражало сытое удовольствие.
Лука, у которого вместо правой ноги торчала деревяшка, – человек сухоскулый и моложавый, несмотря на седину в усах, – сказал как будто даже конфузливо:
– Однако ты к ним без милосердия!
– Гм… Они же, черти, вредные без конца, без краю, – объяснил Максим.
– Это я без тебя знаю, что вредные: виноград, груши спелые выпивают… А то вот татарки сушку на крыши кладут сушить, – бывает, одни шкурки оставят: все как есть высосут…
– Знаешь, да видать не особо! – зло поглядел на Луку Максим. – А вот я их узнал как нельзя лучше… Я от них две недели в больнице лежал, понял?
– От ос?
– А то от кого же?.. Конечно, я тогда мальчишка был… Эх, и до чего же подлые, – это надо видеть!.. И как сообща действуют, не хуже пчел… Прямо, войско… Мальчишек нас тогда человека четыре собралось, и куда же мы вздумали? – Сливы воровать… Как раз возле церкви старой, в ограде, слива стояла, – поспевать стала, – мы туда, значит… Церква старая, служения там не производилось – на это другая церква в селе была… А при этой пономарь только жил, и тот так что глухой и со слепинкой: годов ему семьдесят, и пил шибко… Ну, конечно, мы издалька поглядели, – и пономаря того нет в помине, куда-сь мотанул, – мы работать!.. Я помоложе других был, поглупее, вот мне и говорят: – Максимка, лезь на дерево, труси вниз, а сам не жри, – опосля разделим… – Чего не так? Я, конечно, живым манером, и так что норовил куда повыше залезть… Во-от рву, вот градом их вниз, сливы эти, сып-лю… А сливы уж синие попадались, ну были и с красниной… Ничего, сойдет… Говорится: в русском желудке и долото сгниет… Какие с красниной, они, конечно, твердые, – ни шу-та-а!.. Знай рву!.. Когда тут, откуда-то возьмись, – оса!.. Другая!.. Третья!.. Я рукой отмахнулся, сам опять же рву, свое дело сполняю… Вроде бы приказ мной такой получен: мальчишки, они ведь чудные… Гляжу, однако, а внизу прыгают… Ноги, конечно, у всех босые, штаны – не хуже, как теперь трусики, – куцые… Смотрю, – прыгают, смотрю, – айкают, – смотрю, – скачут округ и все руками махают. Да кэ-эк ударятся в бежки, – куда и сливы, мой труд, из картузов посыпались!.. Я это думаю: – Пономарь!.. Давай и себе вниз, а они – вот они: туча! И гудят, все равно – рой хороший!.. И что же ты будешь делать, – штаниной я зацепился, когда слезал, а штаны новые были, – казинет серый, – крепкие, черти, как все равно опоек!.. Я и повис головой книзу… А рубашка закатилась, они значит – на голое тело… Пронзительно тогда очень я заорал, не хуже, как поросенок… А ребята мои все повтикали, а меня бросили… Стало быть, я один тем тварям достался, на штане висю, качаюсь, а они меня шпарят, а они ж меня уродуют-калечат!.. Как-то сорвался все-таки, упал наземь, и куда же я упал? На самое на гнездо на ихнее!.. Они мне как в глаза повпивались, сразу мне весь свет позамстило, – ничего не вижу, и куда мне бечь – не понимаю, и одно, знай, только катаюсь по тому гнезду – вою… Спасибо, пономарь тот старичок на меня набрел… Вою бы мово не услышал, и глаза у него туманные, а так просто мимо проходил, – наткнулся на такое дело: осы мальчишку едят… Я уж даже понятия не имею, кто это, а он меня, – клюка у него была такая с крючком, – он крючком этим меня захватил, да поволок по земле: от гнезда бы ихнего подальше отволочь… Говорят, и его тогда шибко покусали… Все может быть, – они ведь остервенеют, какие дела разделать могут!.. А тут же, разумеется, родимое у них гнездо: вроде, они в полном праве… Ну, матери моей те мальчишки, мои товарищи, дали знать, – прибежала, меня в охапку, – домой… А я видеть ничего не вижу, только чуть ухми слухаю: пономарь будто матери моей говорит: «От сливы – дерева этого мы уж два года как отступились через то, как осы им овладали!.. Никаких силов-возможностей сладить с ними – нет!.. Кипяток для них кипятили, и только зазря один человек на себя тот кипяток вылил да бежать… Ну, разумеется, весь обварился, – кожа пузырями пошла… А мальчишку свово, говорит, не иначе, как вези ты в больницу: на нем теперь здорового зерна нет: голова, и та как пенек распухла…» Ну, мать меня повезла… и что ты думаешь? Две недели со днем в больнице я тогда вылежал!.. Вот тебе и осы… Теперь та-ак: чуть я ее где увижу, – что бы я ни делал, – работу всяку брошу, а уж ее, подлую, зничтожу!.. Понял теперь? – спросил он пытливо Луку на деревяшке.
– Тогда дело ясное, – сказал Лука. – Раз они считали, что ихнее, – должны они воевать за это… все одно, как германцы… Ты же в ихнюю державу залез и большую шкоду им делаешь: все у них дотла обрываешь, – денной грабеж, – как же им не загрызть тебя до смерти?.. Чисто германцы!.. За границей, бра-ат, там свое соблюдают!.. Я когда еще это узнал? Я это об загранице еще до войны, в плену еще не бывши, одним словом, как на действительной служил… Я тогда за кучера у командира батальона состоял, а где это дело было, то уж дай бог память… Как если забыл, то ничего мудреного нет за столько годов… Однако помню: граница как раз австрийская там проходила, – считалось местечко – Жванец. По эту сторону – Хотин-город, по эту – Каменец-город, а наспроти – Черновицы, – и уж Австрия… А тогда не как сейчас, – время была мирная, – командир батальонный возьмет да мне говорит: «Запрягай, Лука, до австрияков в гости поедем!» Запрягаю, – мне что? – и едут…
– Не должно быть, – сказал Максим строго. – Это же вражеская страна!
– Вот теперь я тоже думаю: как же так могло? Или тогда времена мирные были, или как? А может, я что позабывал… Ну, одним словом, ездили, я сам возил… Или это до панка какого на нашей стороне? Попьют-погуляют, – до зари домой… Чтоб ночевать, никогда не оставались… Хотя бы сказать – до панка, – как же тогда австрияк в шляпе соломенной? Австрияка ж того, старика, я крепче отца родного помню… Так дело было: везу я их, офицеров своих – их четверо сидело, – батальонный да еще трое, – будто по улице австрийской, а уличка узенька и сверх над ней вишня поспелая… А ягода крупная, не как наша, – ну, одним словом, шпанская… Офицеры, конечно, выпивши, – кричат мне: – Стой!.. – Стал я, – приказание сполняю… Коней остановил, а они, молодые трое, ну те вишни обрывать стали!.. И выходит тут со двора австрияк в шляпе соломенной, старик, покачал так головой: – И сразу, говорит, видать, что вы – русские!.. Сколько те вишни на улицу ни висели, австрийцы наши ни одной ягодки не обрывали, а вы как у себя дома, так и здесь! – и говорит по-нашему очень чисто, все можно понять до слова… Оглянулся я на свово батальонного, а он скраснелся весь и мне кивает… Я по коням вожжами, – пошел!.. А потом, отъехали, – слышу, укоряет он их: «Слыхали, что австрияк говорил? Спасибо, Лука догадался коней пустить, а то застрелить его через вас, господа офицеры, должен был я, австрияка, то есть, того, старика, как собаку бешеную… Всю нашу Россию этот в шляпе старик оскорбил! А вы же считаете себя образованный класс! А перед вишней спелой устоять вы не могли все одно как свиньи!» И так что после того случаю долго мы в те места не ездили. А когда война началась, я уж не в те места из запасу попал, я на германский фронт, в Пруссию… Ну, сначала мы шли, известно, беспрепятственно, и большой город мы ихний Лык взяли… Одним словом, названье только ему – город Лык, а лычка там не увидишь… Что дома, что магазины, что протувары на улицах, – эх, чистота!.. А это еще в начале войны дело было, – народ так еще не особачился, как посля, – гляжу я, – в один магазин мы зашли с товарищем, – а там все как есть побуравлено, поковеркано, только коробки пустые валяются, а обужу готовую всю казаки допрежь нас растаскали, и люстра висит разбитая, а ветер сквозной свободно везде ходит, и стекляшки на ней, какие половиночки остались, так тебе звенят жалко, аж тоска слушать!.. «Пойдем, говорю, Фадеев, отсюда: прямо здесь как могила!» Идем это мы по улице, а нам навстречу девочка беленькая, – так годков ей не больше семь… И откуда такая? Книжечки у ней в руке, – смотрит на нас с Фадеевым смело-храбро и нам по-своему, по-немецкому… Ну, мы тогда что могли понять? Я даже Фадееву свому: «Что это она? От нас не бежит, а вроде просит у нас чего, что ли?» А она опять нам смело-храбро и пальцем мне на живот показывает… Я головой ей покачал: не понимаю, мол… И Фадеев тоже… Стоим, башками мотаем… И та девчонка беленькая, что же она сделала? Подходит ко мне храбро-смело и пояс мой в шлевку вложила, потом поклонилась бы вроде и пошла по протувару, каблучками стукает… Я говорю Фадееву: «Смеется она с нас?» А Фадеев мне: «Это ж немецкая девчонка… А они, немцы, так с малых лет приучаются, чтоб у них аккуратно все было…» «Стало быть, говорю, девчонка эта с нас смеется, что у меня пояс болтался?» – «Поэтому выходит так…» – А ведь мы же ихний город заняли, мы хоть неаккуратные, и пояса у нас болтаются, а мы же их сильнее?.. Как же она, девчонка малая такая, с нас смеется? И взошла мне эта девчонка в мысль!.. А не больше прошло, должно, как две недели, немцы нас по грязи по болотной пленных гнали, – ну не меньше, как тысяч шестьдесят: всю армию!.. А наш начальник дивизии, какой нам речь говорил: «Братцы! Не больше пройдет месяцу, как мы в Берлине будем!» – генерал этот, немец, – вот, фамилию забыл, – он это на наших глазах к немцам в автомобиль сел, сигару ихнюю закурил, и дыр-дыр-дыр с ними по-немецки!.. Ей-богу! Все видели!.. А нас по грязи гонят-гонят, как стадо… А кто отстанет, пулю в него пустят, да дальше… Вот как мы, – не хуже как вы за сливами, а немцы за нас взялись, вроде осы!.. Уж когда девчонка ихняя солдата русского учит, как ему пояс носить, чтобы зря не болтался, а в шлевку лез, – куда же нам было с таким устройством? Я в плену четыре года прожил, много горя не видел, а как сюда возворотился – вот без ноги хожу… С ногой это у меня прямо одна чушь вышла… Ну, по-первых, всем известно, как с окопа в лазарет попадали?.. Выставит из окопа руку правую, – сразу не одну, так две пули поймал… Назывались эти: «пальчики»… А потом строгость на это пошла… Я-то думал тоже так – руку выставлю, – нет, брат: военный суд!.. Я тогда ногу под колесо сунул: мол, ногу отдавит, а сам я весь – живой, в лазарет, и домой отправят… Куда ж тебе, крепкая нога оказалась!.. Под три повозки ставил, – проедет колесо по ноге, и даже боли нет… Или это сапог такой был каляный, все одно лубок? Должно, сапог: он намокнет – засохнет, намокнет – засохнет… Железо!.. Это я ночью, как походом шли, а на другой день что же? На другой день это самое и вышло: нас всех в плен забрали!.. Иду я, думаю: вот кабы ногу-то я себе отдавил, – это, стало быть, мне чистая смерть!.. Отстал бы я, а немец в меня пулю…
– Все ж таки не уберег ты ее, ногу!
– Ногу-то!.. Так это уж свои… Не досадно бы немцы, а то свои!.. Это ж когда я в Красной Армии был, под Мелитополем, мы полустанок один заняли, ночью я в садок залез за вишеньем… А он так на отшибе садок, а часовому и покажись: белая разведка в кустах… Он винтовку на изготовку и даже минуты не думал, – может, это свой… Бац, дурья голова, в кусты спросонья, а у меня кость пополам… Даже лечить не стали, – отрезали…
Тут Лука вдруг ойкнул и замотал ожесточенно рукой: его ужалила в палец уж не оса, а только обломок осы, половинка ее, брюшко, к которому бездумно прикоснулся он, рассказывая о своем. Он сокращался, этот беспомощный на вид комочек, и чуть заметно то выдвигал, то втягивал жало и вонзил его в плотную плотницкую руку, так что Лука привскочил, стал дуть на руку, прикладывать к ней мокрую тряпку и ругаться.
– Вот как она тебя, а? – ликовал Максим. – Ты об одной ноге, а она и вовсе без ног осталась, – ноги ее в другую сторону пошли, так она ж тебя и безногая нашла!
– Ну, не стерва! – удивлялся Лука. – Жгет прямо как все одно уголь! – и даже уважение было в его голосе и в глазах, когда он смотрел на этот снова и снова воинственно сучивший жало безголовый и безногий комочек: он даже раздавить его не решался.
Таких комочков золотистых валялось на верстаке много, но ловко отсеченные передние половины ос бродили всюду и шевелили крылышками, а, натыкаясь на лужицы и капли молока, по-прежнему, как будто ничего не случилось с ними, начинали жадно сосать и обхватывали лапками крошки и усердно щекотали их хоботками.
Алексей, который был потяжелее и Луки и Максима, бритый, краснолицый, с белыми ресницами и очень подвижными рыжими бровями, с никуда не спешащим вздернутым и так застывшим постановом прямых плеч, с жирной грудью, видной в прорезь расстегнутой рубахи, с закатанными рукавами, обнажившими толстые у локтей золотоволосые руки, до того старательно жевавший остатками пятидесятилетних зубов хлеб и сало, что даже и не вступал в разговор Луки с Максимом, теперь как раз кончил жевать и вытер фартуком рот.
Он тоже нагнулся над верстаком посмотреть, что могут делать осы, когда они разрезаны пополам в талии и каждая половинка начинает жить особо, и, приглядываясь, заговорил изумленно:
– Ну, не жадные черти, а? Смотри!.. Ведь это ж им смерть, а они об том не соображают, а готовы и посля своей смерти все жрать!
– То черт с ними, что жрут, а вот же руку печет, как огнем! – испуганно удивлялся Лука, держа в молоке палец.
– Ну, так ей же злость свою сорвать надо, а ты что думаешь?
– После смерти своей?
– Хотя бы ж… А то как?.. Раз злости своей не сорвешь, это ж тяжелей ничего на свете нет!..
И три человека, которым в общей сложности было больше чем полтораста лет, смотрели то на копошащиеся кусочки на верстаке, то друг на друга, и у морщинистого бородатого Максима был вид несколько снисходительный к двум другим: он знал, что такое осы (узнал в детстве), и теперь задал эту свою задачу Луке и Алексею, – решайте, – и в мозгу Луки засело без устали жалящее воздух безногое брюшко, а в мозгу Алексея – жадно сосущая молоко и сало осиная головка, как будто может она обойтись без брюшка одними ножками и нелетучими крыльями.
Наконец, точно сразу придя к одной совершенно бесспорной мысли, начали все трое давить эти остатки ос – один сосредоточенно, другой испуганно, третий брезгливо, и когда покончено было с ними, усевшись на досках, где и раньше сидел, только плотнее и покойнее, заговорил Алексей:
– Вот через такую жадность я и черешню свою спилил… через людскую жадность спилил, – я об людях говорю, которые не хуже тех ос: от них уж и так голова одна осталась, и глазки имеют маленькие, а жадные без числа, и все готовы зубами схрустать, а ты ж оглянись-погляди, куда ж оно может дальше пойтить!.. Ей же итить дальше некуда, как ты уж пополам порубан и раскидан куда зря!.. Э-эх, люди!.. Спилил к чертям, как я через эту черешню со всем округ себя соседством поссорился…
– Ка-ак спилил? – жалостно удивился Максим.
– Что-о?.. Скажешь, спилить не имел права?.. Она, брат, зле мово дома стояла, сам я ее сажал, сам поливал, а не то что мне ее власть дала!.. Вчерашний день, с работы придя, и спилил ее к черту!.. Почему такое?.. Соблаз, – вот почему!.. А ты что думаешь?.. Стоит дерево-красота у всех на виду и каждый глаз к себе манит: почему это у Алексея черешня есть, а у меня нету?.. Должна у каждого черешня быть, а не чтобы мое-твое… По-нашему, по-русскому, так выходит, а в плену я не был, за другие царства я молчок… Э-эх, замечать я стал округ себя, до чего же лютой народ пошел – образовался!.. Сущий зверь! Об мальчишках-девчонках не говоря, а об том народе я, какой в годах и какой в виду… Это ж кто того-другого на мушку не посадил, да мне таких людей почитай и видать не приходилось… Звездарев-штукатур весной тут работал, комнаты белил, а потом смылся, – это ж убийца: двух человек зничтожил, – люди с его деревни говорили… Про двух люди знают, про этих говорят, а про каких не знают, про этих молчок… Кондуктор был старорежимный, между Харьковом – Киевом на товарном ездил… Он, Звездарев, к нему и подсыпался в те года… не то в двадцатом, не то в двадцать первом… Да, кажись, в двадцать первом… «Вот, говорит, в економии одной, – теперь она совхоз, – двадцать мешков сахару-рафинаду спрятано, человек один продает крадучи, – купить если, – это ж товар, лучше не надо! Бери деньги, айда прямо ко мне в деревню!..» А тот бра-авый из себя мужчина, – известно, кондуктор старый, это ж не то, что теперь пошли – один рахит с золотухой, а то и вовсе баба какая… Это ж красавец был, вид имел, при часах серебряных, – приз выбил, когда еще на службе военной… Ну вот, что скажешь? Взял до поверил черту! Явился с женой, двоечкой, прямо к Звездареву в хату… А Звездарев тоже с женой вдвох работал… «Нехай, говорит, баба твоя посидит пока, как она уставши с дороги, а мы с тобой дойдем – сговоримся, потому до завтрего ждать, кабы кто другой тот сахар не захватил»… Вот ведет он его, ведет, – а дело к ночи, – ну, зима, – месяц светит, от снегу, конечно, тропку видать… Завел беднягу за гумна да как чкнет из револьвера в голову, сзади идя… Тот упал, а ще живой… Он его еще раз!.. Опять живой… Еще!.. Нет, бормочет… А тут патронов больше нема… Он ему веревку за ногу привязал (рук даже боялся и трогать, потому кондуктор этот силу имел большую), поволок в речку, в пролубь!.. Тут в пролубь ему голову всунул, – давай карманы обыскивать… А у него денег-то самая малость… Как это так? Не иначе у жены деньги!.. Ну, он его под лед пустил, – скорей в хату… Жене своей говорит: «Души ее!..» Ну, та, конечно, женщина, – мнется, – робость у ней… Он ее пихнул да сам к той: схватил за косу да за горло… Женщине много не надо… Деньги, какие были, обобрал, а ее опять куда же? Ее в соломы омет: закидал, и все… Ну, зимой она знаку не подавала, а к весне дело, как уж лед тронулся, – он ее из соломы вытащил, веревку с кирпичом ей примотал да с берега бултых, ночью тоже… Думал, конечно, что ее понесло: полая вода быстроту имеет, ан она и шагов сто не проплыла: кирпич в кореньях запутался, вроде как на якорь она стала, а упала вода, – люди смотрят, – вот она вся: женщина неизвестная, волосья размотаны, а сама страшная… Долго искать не стали, – чья такая… Раз баба чужая, – значит, дело не наше… И Звездарев кричит: «Закопать ее к чертям, падаль эту!» Так на бережку, далеко не нося, закопали… А потом, уж год прошел, родные ее кинулись свою бабу искать: куда девалась? Говорят им: – Уехала с мужем, и оба счезли. – Как это счезли?.. – Одним словом, там парнишка был у них шустрый, красноармеец бывший… Приехал в ту деревню: – Где у вас тут женщину закопали? Раскапывай сейчас, – у ней примета есть!.. – А примета, говорят, какая? – Двух пальцев на левой руке не хватает… – Ну, значит, уж раньше того была резаная… Раскопали кости, – так и есть: двух пальцев нема! Ну, жена Звездарева от страху того призналась, его и забрали. И что же ему дали за это? Три года он просидел, – выпустили… А люди его здесь на работу берут и знать даже того не знают, – кого же это они берут?.. Вот так-то и насчет других тоже: на кого ни глянь, – почему же это он на тебя зверем таким смотрит? Ага! То-то и есть… На его мушке, может, десять человек сидело… Эх, дай водицы ледяной выпить, – душа горит!
Максим подсунул к нему жестяной чайник, сказавши:
– У нас уж самая ледяная: тот же кипяток!
Алексей пил сначала из носка, потом открыл крышку, подул и стал пить через край, пил долго, а отставши, наконец, – сморщил нос и губы, вздохнул и заговорил:
– Нет к рабочему человеку внимания… Нет и нет… Ему что надо?.. Зимою – чтобы чай был горячий, летом – чтоб вода ледяная… Вот когда он может ожить… А черешню свою это я через одного мальчишку спилил… Через Петьку Рыбасова… Не знали Рыбасова? Или вы здесь недавние, правда, поэтому вполне можете не знать. Рыбасов сам, это был Федор, свининой с рундучка торговал, а когда свинины не было, – мясом, а когда рыбой тоже… Мы тут только говорится зле моря живем, а рыбу только весной видаем, и та какая рыба? Камса! Что привезут к нам теперешнее время судаков во льду, – то и наше… А он, судак этот, какой?.. Мне же это хо-ро-шо известно, двадцать разов видал!.. Поступает она, матушка рыбка эта, на зады, где ямы выгребные, и там, конечно, водопровод есть… Вот под краном жабры ей холодной водой вымоют, крови бычачьей из мясной возьмут, туда, в жабры покапают, и пошло: «Эх, рыбка первый сорт, первый сорт, – прямо из моря!.. Наземь упадеть, бегать зачнеть… Вот рыбка, вот рыбка!..» Подходит хозяйка какая, понюхает: – А чтой-то, будто запах есть? – Что вы, гражданочка, запах обыкновенный рыбный: у мяса свой, у барашки свой, а рыба опять же свой запах имеет… Сколько отвесить? Али поштучно желаете? Можно поштучно… – Так и рассует ее Федор… И что же ты думаешь? На что голодный год был, – и то не помер… Он себе два камушка гладких нашел на пляже, друг к дружке их приладил, а к камушкам палочку, а к палочке веревочку, – образовалась у него мельница!.. И так что не только кукурузу, пшеницу молол, ей-богу!.. Принесет к нему татарин какой пшеницы пуд, он туды-суды, – за палочку, за веревочку, и камни вертятся, и мука бегит… С пуда четыре фунта ему оставалось, он и сыт… А мальчонка этот, Петька, – тогда пупырь еще был, – стоит за воротами и всех встречает, кто с мешком идет: «Вам куда? На мельницу?.. Это вот сюда, в калитку, направо!» – Так что все с этого мальчишки удивлялись… Ну, сколько ему тогда? Ну, пять годов было: пузырь!.. «Вам, дядя, на мельницу?» А там и мельница-то два камушка да палочка… Концы-концов – утопнул он… не мальчишка, а сам Рыбасов Федор… Связался со Степкой-матросом. И нашел же с кем связываться! Тот же своей жизни никогда не жалел… Что ни вонючее ему давай, – слопает, ему ничего… Мешки ли на пристани таскать, другие в поту все, как лошади, а он – скрозь сухой… «И даже, говорил, не знаю, что это за пот такой!.. Пятьдесят пять лет прожил, потинки на себе ни одной не видал!» Камень на соше били, – он в артели с другими – вдвойне против всех выгонял… а каким же манером?.. Ночью все спять уставши, а он встанет часа в два, мешок на плечи да на сошу… Пока другие проснутся, он из кучек, – какие подальше только, – из ближних, из тех не брал, а какие подальше: хитро-о поступал! – понатаскает камню битого мешков тридцать, усядется, колотит свое… Встают другие, – гора у него камню набита. «Степка, черт, да ты когда же это?» – А вы бы, черти, дрыхли больше!.. – Один жил и все в земь ховал. Деньги откуда получит, – и те в земь зароет… А курица гребет лапами, – глядишь, выроет. Мальчишки подберут, – легкого табаку себе на его деньги понакупают… А как в сады на работу, на уборку фрукты пойдет, он, бывало, пудами груши в землю закапывал… Наворует, а куда же их? Не иначе, в земь!.. Там же, поблизу где, под деревом… А свиньи ходят, разроют весь его клад, – сожрут на здоровье… Ну, так чтобы он не украл, – этого он не мог. Винограду притащит мешок: «На, Алексей, – только бутылку вина становь!» А в мешке пуда четыре… Это ж четыре ведра надавить можно, а он за бутылку отдает!.. «Как же это ты умеешь, Степка?» – «Вона, скажет, умеешь! Дивное дело!.. Я когда на службе был, у свово командира часы золотые спер… Пошел их закладывать, а мне так: „Как ваша фамилия?“ – Вам, говорю, часы принесены, а не моя вам фамилия!.. – „А ну, тогда вот к этому окошечку подойдите, – тут нам виднее часы ваши поглядеть, какой у них ход анкерный…“ – Только, говорит, подхожу я, а из окошечка щелк, и ничего больше… Часы взяты, квитанция дадена, а за деньгами завтра в десять утра, а то кассира сейчас нет, – он так поздно не займается… На корабль на свой прихожу, а там уж все до точки известно, и портрет мой туда представлен… – Конечно, на фуражках у матросов пишется, какой корабль… Меня к командиру. Тот, ни слова не говоря, хлоп мне в ухо! Я – брык на пол и лежу. Потом думаю: „Должно, встать надо“. Только подымаюсь: – Виноват, ваше высоко… А он мне опять цоп по скуле! Я – брык, и вроде даже без чувств. Мне этот бой его, конечно, сущий ноль, а ему (это все ведь знать надо!) – ему-то лестно, что кулаком матроса с ног сбивает!.. Вот сила у него какая, – несмотря что седой!.. Так тем и кончилось – боем этим… и даже под суд не отдал, и так что даже и под арестом я не боле недели сидел…» Как начнет рассказывать, где он плавал да чего с ним было, – скажешь ему: – Степка, черт, а ты же не врешь? – А он: «Разве же так складно соврать можно?» А здо-ро-вый, несмотря что рост имел небольшой… Купаться разденется, – ну, прямо сиськи у него на руках!.. Так что раз мы купались так-то, а Мирон-кровельщик мне: «Замечаешь, сиськи какие у него оповсюду торчат? Это ж и называется си-ила!» Он, как у нас тут красный фронт открылся с татарами, – подался в Севастополь: «Принимай меня, товарищи, у орудия стоять буду!» Там ему: «Стариков нам не требуется, – молодых хватает!» А я, говорит, как осерчал: – Давай, говорю, молодых твоих дюжину, в минуту половина за бортом будет!.. – Ну, конечно, ему поворот… Он сумочку на плечи, опять сюда пришел. «А только, говорит, дачу брошенную где-то нашел, ночевал в ней, а утром проснулся, поглядел, – округ его мебели всякой полно, а такого, стоющего не-ма-а!.. Искал-искал, шарил-шарил, – уж до него обобрали… Гардеробы пустые да книги разные толстые… Книг до ужасти много было… Как схватил я, говорит, палку, да как начал направо-налево крестить да все рвать да ногами топтать!.. Ну, стоит статуйка какая небольшая, – девка голая, – это ж разве мыслимо?.. А чего стоющего не-ма-а!.. Таких там черепков наворочал, – гору!.. Кабы спички были, или хоть зажигалка оказалась, я бы, говорит, подпалил все к черту, – ну, не было! Эх, а терпенье ж у человека было какое!.. Сроду другого такого не видал… Мы раз с ним мост поправляли… Вот через речку мост какой стоит, – это ж наша с ним работа… Он, конечно, за рабочего – балки подымать… И случись, – одна балка дубовая ему на пальцы закатись… Два пальца отдавило… Не то чтоб их прочь долой, а уж кости живой не осталось… Балка ж дубовая, толстая, – для моста, известно, сосна не идет… А рука неважная, левая… Обмотал он ее тряпкой, – ни черта, опять ворочает… И так что два дня он виду не подавал, а на третий малого скрутило… И чем же его доконало? Подмышкой начало пухнуть… Я его в больницу турю, а он мне: „Сроду в больнице не был, а то из-за такой пойду ерунды!..“ Так и не пошел. Полушубком укрылся, лег… День лежит, два лежит… Ты ж, говорю, пропадешь без больницы! – Нехай, говорит, пропаду! – Ну, лежи, когда ты такой огнеупорный… – Дня через три опять к нему захожу, а он что же делает?.. Зеркальце, – так, шибочка маленькая, у него на подоконнике стоит, а он с лампочки горелку отвертел да карасином себе подмышками мажет… карасином!.. „Ты ж, говорю, черт, что же это делаешь?“ – „Огурцов, говорит, мне солоных поди расстарайся да вина покрепче, а то я четверо сутков совсем не жрал!“ – „А опух же твой как?“ – „Выдавил, говорит, к чертям… И черви, какие там завелись, – белые, в палец, – и червей тех долой!“ Вон он какой был, Степка этот матрос!.. Дай-ка, Максим, еще водички выпить, душу промочить!..»
– Ты же об черешне своей хотел… – заметил было Лука на деревяшке, но Алексей, напившись, уставился на него красными глазами в рамке белых ресниц весьма удивленно.
– Так, а я об чем же?.. Об черешне ж тебе и говорю… С Рыбасовым Федором будто за султанкой поехал он, а ялик, конечно, спер… А разве хороший ялик спереть можно, – ты подумай!.. Это уж ялик был такой, на произвол брошенный… В нем, конечно, течь, – руку закладывай, а как следует заделать, – гудрона даже, и того не было… Где его по тем временам найти, гудрона? Шуточное дело, – гудрон!.. Тряпками кое-как забили, – по-да-лись! А Рыбасов этот, он такой, что его редко кто и Федором называл, и фамилию его забыли, а назывался он Бас. Из себя сухощавый и росту был, ну, не выше меня, а как крикнет вечером, – лампа тухнет… Вот скажи, отчего это, а? Пятнадцать человек нас было, – ей-богу, я сам считал, – изо всех сил мы по команде кричали, аж посинели от крику, а сами на лампу смотрим: хоть бы тебе шевельнулась! А он как запоет божественное (он кроме божественного не признавал), – глядим, – лампа наша миг-миг – и потухла!.. Прямо, два бы дня даром работал, а деньги бы ему отдал: пой! Вот до чего нравилось мне того баса слушать! Он раз в столовую на базаре зашел, а денег на обед нема, а хозяин-болгарин ему: «Спой, говорит, Бас, обед поставлю». – Я, говорит, кроме божественного, не могу, а теперь народ леригии не приверженный, – ну, как смеяться будет? – Тут ему все уверяют: – Пой, ничего!.. – Он и пошел обедню жарить… Прямо, – гром с неба, и весь базар сбежался!.. Конечно, милиция запретила. Прежде бы ему с таким голосом, когда по церквам хоры, – э-эх!.. Он и видать в хоре хорошем пел, все службы знал, и так, что даже попа нашего раз пощунял на Пасху: – Что же, говорит, ты величанье Пасхи пропустил? Мы же зачем здесь в церкви собрались? Мы чтоб ее, матушку-Пасху, провеличать, а ты это самое главное и пропускаешь! – Так что поп наш тык-мык, и, что отвечать ему, сам не знает… «Извиняюсь, говорит, величание, действительно, я пропустил… В другой раз этого уж не будет!» – «А в другой раз меня в вашей церкви не будет, когда такое дело!» Вон он, Бас этот, как тонко все знал!.. Да он на службе церковной самого бы архирея сбил!.. Он ведь тоже не хуже Луки – вот в плену у немцев находился, по шахтам там работал, уголь копал, и так мне потом рассказывал: «Составили, говорит, мы там на шахтах хор, да такой вышел хор знаменитый, что ихнее начальство немецкое на ревизию приезжало, как нас послушало, как мы поем, аж заплакало да говорит: «Выдать им, сукиным детям, по бутылке рому на брата!» И выдали!.. Пятнадцать человек их в хоре было, пятнадцать бутылок с немца заробили… А так мужик он был тихий, этот Бас, – не знаю, ни в чем не замечен, – а мы ведь рядом жили… Ну, семья, конечно, одолевала: жена больная да ребят трос… Он и на то и на се кидался… Печи класть кафельные мог, а печи кафельные класть это не всякий печник согласится, – с ним надо уметь, с кафелем, как его поставить, чтоб он обратно не шлепнул, – ну, да в то время какой такой кафель? Его и сейчас-то нигде нет… Иконостасы мог он золотить тоже… И-ко-но-ста-сы!.. Кому теперь нужно? Об их и думать забыли… Свининой торговал, – опять толку нет… да и свиней тогда, – у кого они были, сам тот и резал… Нужда!.. Вот он Степке-матросу и попался… Тот дела свои по ночам завсегда один делал, а спал если дома, – он же рядом со мной тоже жил, – никакой кровати-маравати не знал, – прямо на полу, и нож с ним рядышком… Проснулся, первое дело он так руками цапает: нож в руку взять!.. Нож схватил, тогда только глаза открывает и сразу на ноги – хлоп: готов!.. Может куда угодно итить… Умываться, – это он никогда не занимался… «Я, говорит, человек чистый, чистей воды…» И всегда один… А тут, с Басом, он уж иначе: в море, видишь, одному нельзя, – море компанию любит… Ну, он, Степка, другого никого не искал, только Баса, – знает, что мужик тихий… «Поедем, Бас, султанки привезем!» А у того ж семейство, он об нем болеет… Хорошо даже не расспросил… «Ну что ж, поедем»… Чем свет и пошли… А султанку, ее где ловят? Ее зле берега: это рыбка недальняя… А между прочим, человек один их заметил двух: «Сели, говорит, двое в ялик, – один повыше, другой пониже, и поплыли себе в море… думаю так, – рыбацкие крючья щупать, какие на камбалу поставлены… Потому для султанки сеть такую надо иметь, вроде ятеря… Сеть эта ялику на нос кладется, и издаля она очень заметная, – между прочим, я не заметил»… Одним словом, с сетью ехать за султанкой надо, а сеть, конечно, спереть, а он, Степка, только ялик этот калекий пригнал… «Купил, говорит, и буду теперь рыбальством заниматься, как я есть моряк природный»… Ну, уж как поехали тогда, так больше ни Степки, ни Баса мы уж не видали… Не иначе, на худой посуде залились… Ну, Степан хоть отчаянный, а Басу – нужда подошла… Жена больная лежала, детишки… Я их потом хлебом кормил… Или так где, бывало, свинятники борова купят, режут-смалят. Я туда Петьку посылаю: беги, потроха проси, как твой отец-покойник тоже по свиной части занимался!.. Глядишь, ему печенку-легкое дадут… А мальчишка шу-устрый был!.. Ну что ж, на такого он доктора наткнулся, на неука… Как Степка-матрос докторов не терпел, так и я, признаться, пользы от них не вижу… Крепко много они на тот свет людей загоняют… Ну и я ж зато одного доктора на тот свет загнал, – во-от загнал!.. Лет семнадцать, а, может, все двадцать назад дело было. Доктор тут жил один приезжий, – я ему дачу строил, а пришло время ему бассейн бетонный делать для воды, он опять же ко мне: – Так и так, Алексей, сделай! – Я же, говорю, есть плотник! – Это я, говорит, хорошо сознаю, только я к тебе потому, что за честного человека тебя признал, – на мошенника очень боюсь нарваться!.. – Это-то, говорю, хоть так… Мошенники теперь кругом. Ну что ж, тогда возьмусь, говорю. – Нашел из рабочих, какие на толчке стоят, знающие бетон мешать, – взялси!.. А, конечно, выставки становить – обшивать, упоры давать, это все равно моя же работа: без плотника не обходятся… Я это форму сбил, – ребята, трое, бетон мешают… «Сыпь!» Валят-трамбуют, знай, валят-трамбуют… Смотрю, – что за страсти? Как в прорву!.. Влез я в яму, – как тут и была! Вся наша форма разъехалась!.. Стоп, – бетон назад выгребай!.. А жарко, лето, не хуже вот этого, – июнь, – боюсь, бетон погибнет!.. Я сейчас одного малого вниз на базар: «Бери еще двоих-троих, сколько на толчке окажется!..» Другого на лесной склад: «Тащи волоком доску вершковую!..» Третьего за водкой: «Неси две бутылки!..» Сам тут около в сад за виноградом сходил… (Значит, это уж в августе дело, – виноград тогда был!) Поел фунта три, лег, от мух закрылся. Только это сон меня взял, а он тут и есть, доктор этот… В яму посмотрел, заметил, да ко мне!.. То-се, подобное… «Ах, ты, говорю, черт старый!.. Ты что мне каркаешь в уши? Не видишь, – у меня тоска, и рабочих куды-зря погнал?..» Да как следует его, как следует!.. Схватился он за живот: «Ох! Ох!.. Сердце зашлось!.. Я – человек дюже крепко ученый, а ты меня так не по-печатну!» С тем и лег, – ей-богу!.. Лежал с неделю, а потом жена-старуха в Москву его потащила, лечиться… Нет, брат, не вылечился! Больше уж не приехал, помер там… Вот как я его: словом одним убил!.. Что значит народ-то ученый!.. Нашего брата обухом колоти, мы все живы, а они от одного слова дух спускают!.. А еще хотели спроти нас войну весть!.. То-то мы от них клочья оставили… Не хуже, как я взялся трубы в одном доме чистить… Это в двадцать втором годе, – тогда люди за все брались, лишь бы подковок не отодрали… Может, лет пять, а то все десять не чищено, – понимаешь? И дымоход от печки до чего по-уродски сложен: косяком так идет вдоль стены, камнями заложен, и пошел косяком до потолка, – как его чистить? Стенку что ли ломать?.. Взял я соли котелок, карасину туда, в соль, налил, в печку поставил и сижу около: что будет?.. Как начала моя соль рвать, как начало там стрелять!.. Сижу, не жукну… Кэ-эк загудело!.. Думаю даже, может, это прибой такой сильный?.. Ан это моя соль так работает!.. И до чего ж я тогда спугался! Что вспомнил? – Трубу, вспомнил, я не открыл!.. Выбежал на двор посмотреть, а моя сажа прямо клочьями из трубы чешет!.. Значит, это я другую трубу не открыл, а эту открыл, – а то бы пожар явный… Ну, тут уж и безо всякого пожара такое пошло, – весь дом сбегся!.. Огромадные клочья из трубы кверху, и горят!.. Я опять к своей печке, – прижук… Думаю: – Сейчас команда пожарная прискочит, и мне труба!.. Бунит, понимаешь, как все одно море… Ну, слава богу, пожарные другим делом заняты были: два года своей жизни справляли… а то бы за такое дело… Так всю сажу ее и вынесло к чертям!.. Соль!.. А бертолетой, я слыхал, на Кавказе, когда деревья большие корчуют, вон какие махины рвут!.. Так и летят с земли, как галки! И никакого тебе пороху не надо: наука!.. Лектричество, ты думаешь, штука мудрая? Ан я до нее сам достиг… Как что где по складам найду – прочту насчет этого, какой порошок надо взять или что, – сейчас в аптеку: «Давайте мне этого вот!» – Да это, говорят, тебе ни к чему, да дорогое: два рубли стоит… – «Что за дорогое, говорю, два рубли, когда я в день пять обгоняю? Сыпь, тебе говорят!» Таким манером я сколько там денег на это извел, а все ж таки я добился… Хлористый цинк главную роль играет…
– Ка-кой цинк ты назвал?
– Хлористый… Тридцать пять граммов, – понимаешь? Одного тридцать пять, другого, третьего, – уж забыл чего, – и ведь как действует!.. Хлористый цинк этот, его года на два хватает… А тут есть у нас Коротков Евсей, тоже плотник, теперь уж он дюже старый, – тоже вот, как с вами, вместе работали… Идем с работы, – а он же старый, – ворчит мне в ухо: «Ты, грит, лектрическим светом занимаешься, а над просветами должей меня провозился!..» А он – подслепый: раз сумерклось, – шабаш, – вроде куриная слепота у него… А зле дома его – яма: для столба телефонного выкопана или так зачем… Вот я иду с ним да на яму эту потрафляю… А он, знай, свое: «Ты же, говорит, и когда пьешь, примерно, так ты же пей с толком… Я, говорит, и сам всю жизнь пью, а только я пьяный никогда ще не валялся!» И только это выговорил, – в яму!.. А тут жена его зле дому… «Бери, говорю, мужа свово, должно, крепко-дюже пьяный!» Ух, он же тогда и расшибся!.. Пришлось нам его с бабой на себе тащить… Ден пять пролежал, – с места не вставал…
– А ты же хотел насчет черешни своей, – грустно напомнил ему Лука, все еще дуя на свой палец, укушенный полуосою.
– Ну, а я ж тебе о чем же? – удивился Алексей. – И я же тебе об Петьке Рыбасове… Он, Петька, мальчишка уважительный очень был… Куда его послать, что принесть, это он сбегает, слова не говоря… И собой ничего был… Так ему уж годов двенадцать, должно, сполнилось… Корпус справный, и с лица тоже… Или уж я привык к нему? Да нет, безобразным никто не звал… Только шишка с орех, – вроде как кила, – желвак такой на шее… С орех волоцкий. Ну желвак и желвак, – пусть… Что ему, замуж выходить? А мать же его, мальчишки этого, в больницу служить поступила, а как белый халат надела, – отступись, не подходи! «Ти-ти-ти, ти-ти-ти, – так и поет щеглом. – Операцию, операцию!..» А у ней же еще двое ребят, – ну, те девчонки… А я ей даже говорю: «Кабы прежнее время, я бы его к себе по плотницкому делу взял…» Ну, конечно, теперь уж не возьму, – теперь учеников брать не полагается, а откуда мастера новые возьмутся, как мы, старики, подохнем, этого нам не говорят… Опе-ра-ци-ю!.. Дюже крепко умна стала! «Ти-ти-ти, ти-ти-ти…» А черешню, ее у нас скворцы одолевают… Чуть они поспевать, – тут и скворцы поспели… Чем свет прилетят стаей, – в пять минут всю дерево оболванят, – только косточки одни болтаются, а листья все одно кровью попрысканы… Тут уж не зевай, – чем свет выходи, смотри… А у меня ж сорт был крупный, красивый, называемое «бычье сердце»… Стемна красная… Вот я четвертого дня чем свет встал, смотрю, а на черешне вместо скворцов Петька Рыбасов сидит. Тут в картуз рвет-поспешает, тут трудится!.. Я ему: «Ты же, стервец этакий!.. А ну-ка, слазь!.. А ну-ка я тебя ремнем!..» Слез он, сам мне картуз протягивает: «Дяденька Алексей! Дяденька Алексей!..» Одним словом, отмолился… А я ему: «Ты бы, говорю, у меня попросил лучше: – Дяденька Алексей! Дай черешни!.. – Я бы тебе, слова не говоря, дал… А теперь, раз ты такой воришка оказался, то и картуза ты не получишь!» Ну, он пошел, и так что день целый мне на глаза не попадался. На другой день является: «Картуз дай!» – На тебе картуз! – Отдаю, ни слова не говоря… А он шишку свою рукой трогает: «Меня, говорит, нонче резать в больнице будут…» – Ну что же, говорю, пущай, ежель мать твоя стала такая крепко умная… – «А ты же мне, говорит, обещал черешен дать, ежель я попрошу… Я, говорит, рвал, действительно, а съесть я ни одной не поспел». – А я ему на это, конечно: – А ремня не хочешь? Ишь ты, черешней ему! А за вухи к матери отведу, – не хочешь?.. Ты же мне, лазявши, две ветки обломал, дерево попортил!.. – Ну, он пошел, а сам невеселый… А у нас тут старых докторов-то их не осталось, – все пошла молодежь, неуки… Эх, доктор был раньше Молчанов, – вот кого одобряли! Бывалыча, куда бы ни позвали, хоть к бедному, хоть к богатому, – без сороковки из дому не выходил… Войдет в дом, – он сначала сороковку из кармана на стол… Нальет, выпьет, аж потом только глазами лупает: «Где больной? Давайте его сюда!..» Вот раз так-то его позвали, – пришел, выпил сороковку… «Давайте больного!» Говорят: – К больному подойтить надо… Он тоже вот так-то, как вы, – пил-пил, да теперь трое суток сидит не разгибается… Только молоком его поим… – Подходит доктор Молчанов: «Что-о, брат! Залил в печенку?.. Теперь же у тебя кишка, как бумага папиросная… Ни боже мой, тебе такого кусочка хлебца нельзя!.. На-ка, вот пилюльку одну проглоти: сам такие от пьянства принимаю…» Проглотил малый, – и что же ты скажешь? На наших глазах разгибаться стал!.. Эх, до чего же был доктор знаменитый!.. А эти теперь что?.. Мальчишка пошел вроде бы пустяк сделать, а его там зарезали: жилу какую-то сонную перерезали, – кровь и пошла винтом!.. Туды-сюды, метались, как кошки, а мальчишка кровью истек!.. Как я про это услышал вчера, пришел, – у меня на глазах аж слезы… Что же это вышло, – до чего же я-то зверь стал, что раз мальчишка у меня перед смертью черешни попросил, а я ему взял да не дал!.. Сущий я после этого азият стал! Перед смертью мальчишка, а я ему чепухи пожалел! Вот посмотрел я на ту черешню тогда да говорю жинке еврей: «Когда такое дело, – вынеси мне пилу двухручную, я ее сейчас долой!.. Полное право имею, раз она в моем дворе, а чтобы мне через нее зверем быть, да чтобы воров через нее делать, – не надо… Другой бы и не хотел, да у него нет возможности, понимаешь? Терпенья к ягоде нет!.. Давай, жинка, ее лучше от греха спилим!..» Ну, баба моя было на дыбошки. А я ей кричу: «Хочешь живая остаться, бери за тот край, пили!.. Пили, а то изуродую!» Ну, она после этого пилу бросила да бежать!.. Я уж тогда этой плотницкой своей спилил ее, ягоды обобрал, топором ее порубал, в кучку склал, – нехай сохнет, – осенью спалим… Жинка ругается, а я ей одно свое: «Когда раз народ такой округ нас живет, что без того он не может, чтоб на черешню не залезть!.. Глазки у него маленькие, а он весь свет норовит обворовать-ограбить!.. Зле такого народу живешь, напоказ ничем как есть не выставляйся, а подальше ховай!..» И когда ж у нас те воры переведутся?.. Будет у нас когда такое время?..
Алексей приподнял кепку и почесал лоб, потом поднялся и сам.
Кончился обеденный отдых, – нужно было снова начинать выстругивать филенки для дверей.
Максим, наскоро разрезав пополам еще двух ос, сложил свой ножичек, вздохнул и сказал задумчиво:
– Али пойтить опростаться?
И когда он вышел из двери балагана, а за ним заковылял Лука на деревяшке, Алексей внимательно поглядел на ящик новых трехдюймовых гвоздей, стоящий под верстаком, потом еще внимательнее на сквозящие стены балагана, кашлянул и, решительно запустив правую руку в ящик, набрал гвоздей сколько могла держать рука и, отвернув фартук справа, проворно высыпал их в карман широких штанов… Потом он зевнул, еще раз оглядел обшивку балагана и, не желая терять ни секунды, запустил в ящик левую руку, отвернул левую полу фартука и уверенно высыпал гвозди в левый карман.
Крым, Алушта.
Сентябрь 28 г.
Блистательная жизнь*

До четырех лет он совсем почему-то не говорил, и первое слово, которое он твердо усвоил и вполне правильно произнес, так же как твердо говорили его отец и мать, содержатели маленькой пивной, было: «Откубрить». Можно было думать, судя по такому началу, что из него выйдет горький пьяница, но нет, не пьяница, а совсем напротив, вышел из него трезвейший и рассудительный человек.
Даже и женился он, имея тридцать два года от роду, только тогда, когда очень дешево, по случаю, приобрел небольшой домик на окраине города: иначе куда же было ввести жену как хозяйку? Говорили, что, кроме домашней рухляди, он и приданого за нею никакого не взял, и этому можно было поверить.
Служба у него была хотя и в частной страховой конторе, но прочная, и казалось бы, причин для беспокойства не появлялось, однако странный человек этот всегда имел необычайно озабоченный вид и не улыбался: может быть, не умел делать этого и в детстве.
Люди, совершенно не способные улыбаться, производят разное впечатление. Их называют или строгими, или глубокомысленными, или угнетенными большим горем. Иногда их уважают, иногда их побаиваются, иногда им сочувствуют до того, что, глядя на них, перестают улыбаться сами.
Но когда проходил по улице безулыбочный Гуржин Мирон Мироныч, все, знавшие его, снисходительно улыбались ему вслед. Между тем по виду он был вполне приличен, ростом не низок и не слишком высок, лицом не уродлив, костюмом приятен. Если узнавал, какой галстук считается самым модным, непременно покупал именно такой, а старый укладывал в стол, где лежало порядочно других галстуков на всякий случай: мода переменчива, и, кто знает, может быть, какой-нибудь из этих отверженцев войдет снова в моду, – тогда незачем будет тратиться на покупку: разыскать его у себя в столе, надеть и носить.
Походка его была нетороплива, хотя сам по себе он был отнюдь не тяжел: просто торопиться было не в его натуре: к чему? и куда именно? и зачем?
Кроме того, он был подозрителен и очень осторожен.
Это последнее, может быть, появилось в нем оттого, что он служил в страховом агентстве, куда приходит кто-нибудь, как будто с виду и положительный, застраховать дом, а через какие-нибудь три-четыре месяца дом его вдруг сгорел. Заподозрить злой умысел трудно, однако не заподозрить еще труднее.
– Что же это вы, так-таки и погорели?.. И отчего же это? – не улыбаясь, спрашивал клиента Мирон Мироныч.
– Что будешь делать, когда огонь такой горячий? – весело отвечал клиент и улыбался.
Не принять страховку нельзя, и поручиться за то, что клиент надежный, тоже нельзя, и доказать, что поджог, – поди докажи, – а страховому обществу явный убыток.
Может быть, именно такая служба, где приличные с виду люди иногда вдруг обнаруживали себя как жулики, повлияла на Мирона Мироныча в сторону подозрительных взглядов и нерешительных слов, но он сложился именно таким к зрелым годам своей жизни.
Много ли тридцать пять лет, когда люди доживают и до ста? Но вот именно в этом возрасте, как-то летом, когда, как известно, всюду в домах идут ремонты, он особенно удивил свою жену, сказавши тихо и несколько грустно:
– Предполагаю я, что надо уширить наш коридорчик так еще на пол-аршина.
– Ка-ак это так у-ши-рить?
Жена его Феона Петровна была ниже его и толще и, подняв на него мутные маленькие глазки, старалась понять ход его мыслей.
– Уширить по соображениям такого свойства, – начал объяснять он. – Например, умираю я, скажем, в спальне… Как меня вынести оттуда, если соблюдать, разумеется, уважение к мертвому телу?.. Я ложился на пол и вытягивал ноги, как у меня это будет тогда, и я примерялся и так и этак, оказалось – никак нельзя!.. Поэтому я и пришел к мысли, что…
Напрасно махала на него налитыми руками – короткими и тяжелыми – Феона Петровна, даже принималась плакать несколько раз, – переубедить его было нельзя!.. И к концу лета в их домике в четыре комнатки (три окна на улицу, два во двор) появились плотники, урезали, раздвинули, и комнатки вышли уже, коридор шире на пол-аршина.
Тогда же, в сентябре, он как-то приехал домой на извозчике, привез большой чугунный узорный намогильный крест, покрашенный в серьезный и прочный аспидный цвет.
– Господи! Что это за страсти такие? – испугалась Феона Петровна.
– Дешево: всего шесть рублей, – ответил он ей, помогая извозчику выгрузить и внести во двор покупку.
– Да на что же, на что же он нам?
– Как же так неосмысленно спрашивать, на что? – укорял Мирон Мироныч. – Никто из нас не знает дня кончины, а вот когда помрем, – пригодится.
– Такая вещь, она свово дождется! – говорил и извозчик кряхтя.
– Да ведь я же теперь спать больше не буду! – ужасалась Феона Петровна.
– Ничего, я думаю: привыкнешь, – скромно, ко упорно опровергал Мирон Мироныч.
– Сон придет, уснешь! – поддерживал извозчик.
Так водворился в сарае чугунный крест; был он, конечно, прочен и ждать мог долго.
Когда же Феона Петровна, скучая без живого существа, за которым она могла бы ухаживать, задумала купить корову, Мирон Мироныч долго ходил по комнате, опустив голову и шевеля губами, наконец, сел к столу, взял лист бумаги и карандаш и начал графить и писать своим убористым четким почерком.
– Что же ничего ты мне не говоришь насчет коровы? – спросила жена.
– А разве можно сказать так сразу? – ответил муж. – Сообразить надо и… вычислить.
– Сколько корму на нее пойдет?.. Это я уж считала.
– Кор-му!.. Ум женский!.. Разве дело в корме?.. Дело совсем не в корме… А вот, например, она заболела… Хорошо… Заболела… И ведь ее же не спросишь: чем ты, корова, заболела?.. Скорее надо, например, прирезать, чтобы кровь стекла. Хорошо, как это случится в октябре, в ноябре, в декабре… Или, начиная с нового года – в январе, в феврале, в марте месяце… А если в мае? Если в июне? Если в июле?.. Что будем делать тогда мы с мясом? Солить нельзя: летом никто не солит мяса… Мяснику продать, не иначе… А мясник воспользуется случаем да даст совершенные какие-нибудь пустяки, а торговаться с ним не станешь?.. Держать мяса долго нельзя, – погода жаркая, значит, вот и придется отдавать за бесценок… А то еще может и такое быть, что мяса и продать нельзя: сибирка, например, чума – да мало ли их есть, болезней страшных?
Речь Мирона Мироныча, вдумчивая и богатая злыми примерами, тщательно внесенными на графленый лист, окончательно сбила с толку Феону Петровну, и от коровы она отказалась. Зато подобрала она где-то брошенного котенка, маленького, беленького, тоненького и с огромнейшими прозрачнейшими ушами.
– Безжалостные люди, – говорила она мужу, – бросили животное, а ведь оно может пропасть без пищи!.. Иду я, слышу – пищит, как из земли, а оно в яму забилось и пищит… И где-то в колючках лазало: из одного только животика я семнадцать штук повытаскивала. Шутка ли было ему терпеть, бедному?.. И вот вымыла я его теплой водой да на окно посадила сушить, боюсь, кабы не простудился… Кажись, даже покашливать начал.
Мирон Мироныч долго смотрел на котенка, дрожавшего на окне, хоть и закутанного в теплый вязаный платок, и сказал наконец:
– Ничтожно!
А после этого долго ходил по комнате и думал.
Крысы в его домике не водились, а от мышей Мирон Мироныч ставил мышеловки, в которых каждого мышонка сосредоточенно колол шилом, прежде чем обварить его кипятком. Минут через двадцать после усиленного обдумыванья вопроса о котенке он добавил к слову «ничтожно» еще:
– И бесполезно.
Однако котенок не простудился, а недели через две появился у Феоны Петровны другой котенок, дымчатый, а еще через месяц – трехцветный.
– Больше этого числа я запрещаю! – твердо сказал ей муж.
– Больше я и сама не буду: хватит и этих, – сказала жена.
Котята выросли, сделались котами, и так как Мирон Мироныч не любил их, то дал им имена и отчества своих врагов по службе и по соседству, и даже Феона Петровна, звавшая сначала котят то Мурчиком, то Мурзиком, то Мырчалкой, стала называть их сложно: одного – Яков Сергеич (был такой бухгалтер в страховом агентстве), другого – Семен Сидорыч (старший помощник агента), третьего – Мордухай-Болтовский (был по соседству такой отставной подполковник, пьяница и задира, который, встречаясь на улице с Мироном Миронычем, норовил смотреть на него уничтожающе или даже толкнуть его локтем и обругать мужицкими словами).
Затрагивать кого-нибудь из этих трех своих врагов Мирон Мироныч боялся, но, получивши от того или иного из них как-нибудь очередную обиду или неприятность, он подходил к мирно дремавшему на подоконнике или на стуле коту, носящему имя обидчика, и, прицелившись хорошенько, давал ему в середину выпуклого лба такого щелчка, что кот, как ошпаренный, вскакивал и вылетал стремглав из комнаты. Больше всех доставалось трехцветному Мордухай-Болтовскому…
Когда же в агентстве на летние месяцы как-то вместо Якова Сергеича, получившего месячный отпуск для лечения геморроя, был приглашен молодой человек Кишмишов, сразу не поладивший с Мироном Миронычем, то Феона Петровна сообразительно подобрала четвертого котенка, сразу получившего кличку: Нахалюга Кишмишов.
Впрочем, этот котенок, приятного рыженького цвета, стал получать так не по возрасту много щелчков и таких сильных, что скоро сбежал, и это вышло, конечно, кстати: вернулся Яков Сергеич.
Кто-то завел по той улице, по которой обычно проходил Мирон Мироныч, огромного сенбернара, любившего лежать около своей калитки на тротуаре. Сенбернар этот был уже старый и необыкновенно мирного склада, но Мирон Мироныч непобедимо испугался его в первый же раз и поспешно повернул обратно, потом перешел на другую сторону этой очень широкой улицы, чтобы, пройдя квартал, опять перейти ту же улицу и идти по своей привычной стороне.
Иногда сенбернара даже и не было видно на тротуаре, но ведь он мог выйти из калитки как раз в ту минуту, когда Мирону Миронычу придется проходить мимо. И Мирон Мироныч все-таки не решался идти прямо и переходил через улицу, делая кружный путь.
Так он делал четыре года, пока огромная собака, наконец, не издохла. Тогда, измеривши точно шагами ширину улицы, помножив эту ширину на два, а что получилось еще на два, так как обходить собаку приходилось два раза в день, потом подсчитав, сколько дней было в четырех годах, Мирон Мироныч как-то на досуге высчитал, что сделал он всего крюку сто двадцать верст… И ради кого?
Сказал он жене скорбно:
– Ведь это все равно что в Москву пешком дойти!.. Эх, люди!
А Феона Петровна соображала вслух:
– Посчитать бы еще, сколько такая собака стоила ее содержать!.. Ей-богу, дороже лошади, если лошадь одним только сеном кормить!.. Ну, так ведь от лошади же польза, не с собакой сравнить!
Все-таки задумавшись по этому случаю прилежно: зачем люди заводят собак, она втайне решила завести на случай ночных воров домашнего сторожа, маленькую комнатную собачку (все-таки даст знать, когда уснешь крепко), и достала совсем куцего крохотного лохматого черненького щеночка с висячими ушками и белыми еще глазами; назвала Куклой.
Кукла оказалась, правда, комнатной, – ее не обманули, – и скоро в низких комнатах зазвенел высокий заливчатый лай очень уверенной в себе собачонки, которую даже Мирон Мироныч не называл глупой.
Нет, она даже удивляла его тем, что отлично ужилась и ладила с тремя котами, а когда наиболее подвижной из них Мордухай-Болтовский затевал с нею оживленную игру, трогал ее лапкой, отскакивал, проносился мимо нее вихрем, стараясь задеть ее весьма пушистым хвостом, ложился перед нею на спину с видом большой покорности, а она на него победно лаяла изо всех сил, и Феона Петровна, глядя на них, восхищенно била себя по жирным ляжкам и вскрикивала: «У-мо-ра!» – тогда и Мирон Мироныч устремлял на них свои задумчивые глаза не без удовольствия.
Правда, ни один мускул не шевелился при этом на его лице, сработанном аккуратно, без всяких следов страстей и без резких линий сильных характеров, но зато он говорил веско, обдуманно и резонно:
– Ддда… действительно!
Еще когда был он холост, хотел Мирон Мироныч сдать экзамен на чин при местной гимназии и сосредоточенно читал необходимые учебники, однако непостижимо провалился по всем предметам: даже «Отче наш» не мог правильно прочитать. А на вопрос математика:
– Какие бывают треугольники?
Он ответил вдумчиво и неторопливо:
– Треугольники бывают: треугольные, четырехугольные, пятиугольные, шестиугольные и многоугольные вообще.
Когда же математик показал ему на угол стола и спросил:
– Может быть, вы знаете, какой это угол?
Мирон Мироныч ответил презрительно и высокомерно:
– Деревянный.
Что он не был лишен честолюбия, он показал в 1905-м году, когда конторские служащие всего города собирали подписи под своим заявлением какого-то политического свойства. Он только справился тогда:
– А не опасно ли будет подписаться?
Ему ответили:
– Как же может быть опасно, когда объявлена конституция?
И он взял лист и торжественно вывел на нем:
«К сему прошению всецело подписуюсь. Мирон Гуржин.»
– Это и многословно и не совсем точно, – сказали ему.
Но он ответил вызывающе:
– Ничего! Пусть!.. Пусть во всем городе знают, какой у меня красивый почерк!
Когда он бил комаров на себе летом, то приговаривал однообразно, однако вполне серьезно:
– Дай, боже, и мне такой же легкой смерти!
А когда покупал что-нибудь в магазине, то никогда, принеся домой пакеты, не резал на них шпагата ножом, а непременно развязывал, какие бы ни были тугие узлы: чтобы не выводились в доме деньги.
Феона Петровна говорила «вифлеемица» вместо «инфлуэнца», «животрепячая рыба», «клетчистое платье» и в первое время, когда вышла замуж, ретиво учила своего мужа по вечерам играть в какие-то «лягушечьи дурачки».
Но серьезный Мирон Мироныч этому безделью не поддался.
Иногда она грустила по своей веселой девичьей поре, говоря мечтательно:
– Бывало, соберемся и танцуем, танцуем себе, танцуем, пока гармонист наш «Тоску по родине» не заиграет… Тогда уж, разумеется, расходись по своим домам.
И добавляла к этому соблазняюще:
– Хоть бы когда в театр нам сходить!
Он же отвечал каменно-твердо:
– Ничего… Хороши и без театра…
– Ну, как же так хороши!.. Все-таки там что-нибудь иной раз увидишь!.. – убеждала она.
А он:
– Что же из того, что увидишь?.. И яблоки у соседа в саду вон висят, и мы их со двора своего тоже видим, а они все же не наши с тобой… Увидишь – в карман не положишь…
Пробовала Феона Петровна дома в первое время веселиться так: встретит его, когда он только что вернется со службы, и скинет фуражку, и скажет ему таинственно и вся лучась сквозь щели узеньких серых глаз:
– А у меня медведь!
– Ка-кой мед-ведь? – отступит он боязливо.
– Такой! Настоящий!
– Где медведь? – занесет ногу назад за порог Мирон Мироныч.
– Вот он!
Тут она кидалась ему на шею и ерошила его волосы, как могла.
– Посмотри теперь на себя в зеркало, не медведь?
Но Мирон Мироныч не способен был понимать никаких шуток, – он только запомнил это, чтобы отучить ее петь.
И когда она начинала петь тонким и жалостным голосом, возясь над тем или иным по хозяйству, он подходил к окну на улицу, отворял его (или форточку в нем, если это случалось зимою) и говорил мрачно как будто кому-то назойливому:
– Это не ваша гиена воет, нет, не ваша!.. Что из того, что зверинец у вас разбежался?.. Никакого нам дела до этого нет!.. Похоже на вашу гиену?.. Ну, что же что похоже! А только это – наша гиена, а совсем не ваша!
Так понемногу Феона Петровна совсем отвыкла петь.
Уже к пятому году супружества она одомашнела до того, что когда пришлось ей быть свидетельницей на суде, где и предложили-то ей всего только два вопроса, то от волнения потеряла она за один день восемь фунтов весу.
И если думающий о смерти Мирон Мироныч без ее ведома купил чугунный крест на могилу, то она, поглощенная заботами о жизни, в первый же год замужества, проходя с базару мимо одного скромного дома и разобравши крупное объявление на его воротах: «Богословские книги, проповеди и супружеская кровать продаются», сделала тоже самочинную покупку, и, конечно, не богословскими книгами и проповедями, а супружеской кроватью вдовой попадьи украсилась спальня Мирона Мироныча.
Однако кровать оказалась несчастливой: Феона Петровна не тяжелела и говорила по этому поводу недоуменно:
– Что же это такое? Вроде как пострамление!.. Или это мне за то, что я на полотенце к образам ангела вышила, а он у меня какой-то кривой оказался?.. Ну, так разве же это я нарочно?
Но, убиваясь и оплакивая в одиночестве свою бесплодность, она неудержимо толстела.
К скромному жалованью своему Мирон Мироныч прирабатывал немного в тех случаях, когда его посылали определять убытки при маловажных пожарах. Тогда каждому хозяину хотелось, чтобы в протоколе осмотра сгоревшего было гораздо больше, чем на самом деле, и для достижения этого под протокол подсовывалась та или иная кредитка, но очень жалких качеств.
И Феона Петровна не тратила денег на пустяки: она хозяйничала толково, аккуратно, ретиво и с полным пониманием своего дела.
Есть иранская пословица: «Время – отец чудес»… Но время летело над домиком Мирона Мироныча, чудес же от него не было.
Может быть, они и хотели иногда проникнуть в какое-либо из пяти окошек этого обиталища, но остановились перед несокрушимой стеною безулыбочности и расчетливости, как известно не допускающей никаких чудес.
Даже когда Феона Петровна, не в меру располневшая и засыпавшая почему-то только на левом боку, вскакивала среди ночи от перебоев сердца и начинала жаловаться на страшные сны, Мирон Мироныч спрашивал несочувственно:
– Что же ты все-таки такое страшное видишь?
– Да все их же поганых, чертей! – стонала Феона Петровна.
– Гм… И что же они?.. Как же?
– Да все гонятся за мною и гонятся, гонятся и гонятся, проклятые!
– А догнать, значит, они тебя не могут?
– От них какое же еще спасенье? Возьму да проснусь со страху!
– И как же у них – все, стало быть, явственно? И рожки и хвосты видно?
– Ну, а как же еще?
Мирон Мироныч добросовестно думал минут десять, и, когда супруга вновь уже засыпала, кое-как устроившись на правом боку, он объяснял ей серьезно и спокойно:
– Это, наверно, козлы какие-нибудь тебе снились.
Тогда Феона Петровна обижалась и на то, что он ее разбудил снова, и на то, что не поверил в ее опытность, и ворчала:
– Ну вот – что я их, отличать, что ли, не умею?.. Городит черт-те что-о: коз-лы-ы!.. Пусть ты меня такой уж из дур дурой считаешь, однако ж рукавов я еще пока не жую!..
Сам же Мирон Мироныч или совсем не видал снов, или забывал их бесповоротно тут же, как просыпался. Он не хотел придавать значения снам: он находил, что и без снов жизнь достаточно загадочна и требует всегда неусыпных забот и размышлений: где и как, например, обойти? С какой поспешностью отступить? Как и чем отклонить грозящую неприятность: молчаливостью, вежливым ли поклоном, или же положиться на проворство ног?
И когда началась внезапно и грозно мировая война, он присвистнул тихо и сказал озабоченно:
– Ну вот и на тебе!.. Опять война… Давно ли была с японцем, теперь с немцами!.. Хорошего от этой истории я ничего не жду!
Война же лично его не касалась: как раз перед войною в апреле месяце ему исполнилось сорок три года, так что и в ополченцы его взять не могли.
Газет никогда не читал он раньше, не читал и теперь, а в телеграммах, расклеенных на улицах, он сначала удивлялся тому, сколько пленных берут наши армии и сколько орудий и пулеметов. Привыкший иметь дело с жилыми домами, которые большей частью и страховались в их агентстве, он сначала изумлялся: куда же денут такую уйму пленных, например девяносто тысяч?..
Он говорил Феоне Петровне ошеломленно:
– Ты пойми: ведь для них три таких города надо построить, как наш, чтобы их разместить только!
Но уже через несколько дней трех городов оказалось мало, – надо было десять или одиннадцать, а потом Мирон Мироныч потерял даже и счет этим предполагаемым городам.
В их же городе между тем дома как-то сразу перестали строить, и со страховыми делами началась какая-то непонятная странность.
Деньги падали, надо было повышать страховые, а клиенты, махая руками, говорили на это возмущенно:
– Ну вот еще! Что это выдумывать такое зря!
– Однако же, – пробовал объяснить Мирон Мироныч, – лимон вчера жена моя пошла в лавочку покупать, а прибегает оттудова сама не своя, лица на ней нет… «Что ты, Фаня? Что с тобой?.. Или сердце?..» А она: «Ты пойми: два-дцать пять копеек!..» – «Что? Лимон?» – «Лимон! А то что же еще! Ли-мон!.. Тот самый, какому кровная цена пятачок!»
Но на это возражали Мирону Миронычу клиенты:
– Лимоны – они заграничные… И скоро их совсем, похоже, не будет… А страховые конторы – они наши, православные, и никуда от нас они уйти не могут…
Хозяин Мирона Мироныча, которого он называл за глаза принципалом, а в глаза Августом Эрнестычем, страховой агент «Первого российского страхового агентства», важный и плотный старик, хотя и был русский подданный, чувствовал теперь себя как немец не совсем ловко. И когда, подымая кулак и откачивая бородатую лобатую голову, он кричал, блистая очками: «О-о! Мы им покажем, этим немцам!» – то даже и Мирон Мироныч, потупясь, отводил от него глаза.
За год перед войной Август Эрнестович вошел в партию октябристов, и, конечно, в ту же партию записались вслед за ним, чтобы поддерживать его на выборах, все служащие в его конторе: и Семен Сидорыч, и Яков Сергеич, и Мирон Мироныч.
Записавшись в октябристы, последний долго ходил задумчивый, наконец сказал об этом жене.
– И что же, набавка жалованья тебе за это будет? – живо осведомилась Феона Петровна.
Со всех сторон еще раз, но безмолвно, обдумал происшедшее Мирон Мироныч, наконец сказал:
– Дело новое… И ко многому может оно привести…
Однако та война, которая шла и шла, не переставая, оказалась делом еще более новым.
Город Мирона Мироныча хотя и был из очень хорошо запрятанных в лесные дебри, однако ж к осени пятнадцатого года дохлестнули и до него беженцы из Галиции, из Польши, из Белоруссии, и на улицах зазвучала речь, до того совершенно неслыханная для четы Гуржиных, и появились непривычные для глаз черные вздутые муаровые картузы, смушковые высокие шапки, белые войлочные шляпы и много всякого, – и в городе стало заметно теснее. Замелькали и команды пленных австрийцев…
– Была я на кладбище, – рассказывала Феона Петровна мужу, – мамашу поминала, как ей теперь ровно двенадцать лет смерти, и стоит там один хохол, – дите похоронил, – стоит и сам ругается: дорого с него взяли – пять рублей могилку детскую выкопать… «А ты, говорю ему, дядя, взял бы да сам выкопал, как ты с землей обращаться умеешь…» А он на меня как гаркнет: «Хиба ж у нас от така земля?.. Я на цию зэмлю и плювати нэ хочу!..» Вот они какие беженцы называются!
А Мирон Мироныч говорил опасливо:
– Нынче к нам еще двое поляков наниматься приходили, чтобы в конторе писать… Каждый день ходят! Каждый день ходят!.. Теперь за место всеми зубами держись, а то возьмут и вырвут!.. Август Эрнестыч приказал себя Антоном Эрастычем звать… Говорит будто это – одно и то же… Мы зовем Антон Эрастыч, – что ж… Язык не отвалится… И прежде явственно он подписывался Кесслер, а теперь по подписи как будто Киселев он выходит… Русскую рубашку с косым воротом и петушками вышитую надел…
Подполковник Мордухай-Болтовский в первые же месяцы войны был мобилизован, и куда-то угнали его в ополченскую дружину, так что трехшерстный кот, ставший теперь очень важным и ленивым, совсем уж не получал щелчков.
Яков Сергеич и Семен Сидорыч иногда еще досаждали Мирону Миронычу тем или иным, и соответствующие коты соответственным образом страдали.
Кукла же разжирела, как и ее хозяйка, очень взлохматела, много спала на мягком стуле и оравнодушела ко всему на свете.
Но вот вдруг в конце февраля царь почему-то не захотел больше править Россией и отрекся, и в первый раз за всю жизнь Мирона Мироныча стала Россия без царя.
– Что же это такое?.. Как же теперь будет? – воззрилась на мужа Феона Петровна, принеся ему страшную новость с базару, так как Мирону Миронычу нездоровилось и он уже два дня не ходил в контору.
Он выслушал новость эту ошеломленный, но даже и сомневаться в ней не стал: он только захлопал беспомощно глазами, и в раскрытый рот его, перескакивая через утлые усы (бороду он брил), вдруг потекли крупные слезы.
Когда же он получил возможность говорить, он сказал жене укоризненно, веско и веще:
– А ты еще пилила меня тогда, зачем я за шесть целковых крест чугунный купил!..
Все это показалось Феоне Петровне до того необъяснимо ужасным, что и она заплакала и шлепнула тяжкой ладонью Куклу, спавшую в это время на ее супружеской кровати: не дрыхни, подлая, безмятежно, когда такое настало!
Царя так и не оказалось, полицейских тоже сняли, но страховое агентство еще кое-как скрипело, и даже вместо невнятного «Киселев» опять появилось на бумагах принципала довольно отчетливое «Кесслер», и когда в имени-отчестве его стали сбиваться опять на прежнее, он уже не поправлял…
Он говорил теперь раскатисто:
– В данное время, господа, – раз царя нет, – то скорый и почетный должен быть мир!.. Скорый и почетный… и… и… и вечный!.. Мировой пожар скоро будет потушен, это знайте!
И, передавая эти слова жене, Мирон Мироныч добавил полушепотом:
– А Яков Сергеич, от большого-то ума, возьми да и спроси после этого: «А какое же агентство будет по этому пожару убытки платить?» Ведь вот же неймется человеку!.. Ах-ах-ах! Август Эрнестыч на него только глянул, а сказать ничего не сказал… За подобный вопрос, если теперь так все переменилось и войну до победного конца объявили, он ведь его может с места долой!.. Ясно, что платить немцы будут!.. Наши уж на них так в наступление и рвутся!..
Но потом, когда густо и неудержимо повалил солдат с фронта домой, а мужики начали жечь барские усадьбы, Мирон Мироныч загрустил. Походит-походит по комнате, остановится вдруг и скажет громко: «Викжель!..» Потом опять зашагает из угла в угол.
Однажды он даже купил газету и сначала прочитал ее всю про себя, потом начал читать ее снова и вслух Феоне Петровне.
К тому, чтобы Мирон Мироныч говорил очень долго подряд, хотя бы и читая вслух, она не привыкла; больше того, ее пугало это, и она все норовила улизнуть от него куда-нибудь по хозяйству. Но он неотступно двигался за ней и читал: она на кухню – и он на кухню; она в сарай – и он в сарай… Так что взмолилась она наконец:
– Господи! Да что же это за наказание!..
В то, что читал ей муж, она совершенно не вникала и никак не могла вникнуть, но даже виски у нее взмокли от напряжения.
А он читал о том, что «нашими солдатами зверски убит помощник фронтового комиссара Романенко», что, «несмотря на наши сильные природные позиции у Микулинце и Струсова, немцы переправились в этих пунктах через реку Серет», что «Ллойд-Джордж принял звание председателя нового клуба „Русско-британского братства“, и это показывает, что он не утратил еще веры в будущее России…»
Как-то в октябре что-то случилось еще, по-видимому, самое страшное, потому что вскоре собрался неожиданно и исчез куда-то из города Август Эрнестович.
В воскресенье занятий в конторе не было, а утром в понедельник пришел Мирон Мироныч, и контора оказалась запертой.
Потом подошел Яков Сергеич, подергал все двери, заглянул во все окна и сказал, наконец:
– Значит, сбежал, немец проклятый!
Справились у дворника. Оказалось, что действительно в воскресенье, в обед, куда-то уехал со всем семейством, но вещей домашних с собой не вез, только чемоданы, корзины.
– И много ли чемоданов? – справился Яков Сергеич.
– Чемоданов-корзинов… так что порядочно, – ответил дворник.
Семен Сидорыч почему-то тоже не явился. Пошли было к нему на квартиру, но так и не добились, дома ли он или тоже скрылся. Однако вышла к ним с заднего крыльца его жена, вся расстроенная, и шепнула:
– Говорят, большевики октябристов арестуют!
Мирон Мироныч не стал ожидать, что предпримет Яков Сергеич: он махнул рукою, сказал убежденно: «Я предчувствовал!» – и пошел домой.
Три ночи он не спал: все ждал, что к нему явятся какие-то неведомые и потащат в тюрьму. Наконец, не выдержал: надел на себя все самое старое, дырявое, взял узелок с домашними пышками и пошел к городской тюрьме.
Около тюрьмы прохаживался какой-то маленький человек с большой винтовкой-берданкой и с красной повязкой на рукаве обыкновенной байковой ватной куртки.
Мирон Мироныч подошел к нему, усталый, измученный бессонницей, и сказал хрипло:
– Сажай и меня в это здание: я октябрист!
И хотя человек с винтовкой крикнул в ответ на это: «Пшел отседа, а то заколю!» – и действительно грозно выставил штык, Мирон Мироныч только отошел не спеша на противоположную сторону тюремной площади, сел на пень какого-то дерева и сидел до вечера, неотрывно впившись глазами в тюремные ворота, к которым иногда подъезжали автомобили.
Только к ночи Феона Петровна, пришедшая проведать его в тюрьме и узнать, не надо ли ему еще пышек и дали ли ему чаю и сахару, нашла его на этом пне и не без некоторых усилий увела домой.
Несколько дней понадобилось на то, чтобы он успокоился и пришел в себя.
Однако страховая контора все-таки продолжала оставаться запертой, никто не платил Мирону Миронычу привычного жалованья, никто не посылал его определять убытки от пожаров. Существование потянулось безденежное, бессмысленное, ничтожное…
– Приходится переждать пока, – говорил он жене задумчиво и не совсем убежденно.
Потом началось самое странное.
Август Эрнестович как в воду канул; и все другие страховые агентства и конторы нотариусов, и даже камеры мировых судей, и все вообще привычные места, где писали такие же Мироны Миронычи, закрылись, а вместо них открывалось что-то новое и с новыми, непохожими людьми.
Жизнь дорожала; Феона Петровна начала худеть, Мирон Мироныч сутулиться и глядеть исподлобья, и волосы его стали седеть прядями. Если бы он остригся наголо, то голова его казалась бы точно усеянной серебряными пятачками. Даже и в черных лохматых бровях засеребрело.
Однажды – это было тоже осенью, через год после того, как бежал Кесслер, – в городе замаршировали по улицам военные отряды, блестя страстью ружейных стволов, на рысях проскакал взвод кавалеристов, и вороные сытые лошади, нагнув головы, провезли одну за другой шесть пушек мимо домика Гуржиных куда-то в поле.
А потом домик весь сотрясался от орудийных залпов, с подоконников на пол падали стаканы, и Феона Петровна, ползая по полу боком, подбирала осколки, Мирон же Мироныч, весь смятенный и укротившийся, шептал:
– Да ведь это же значит – бой!.. Как же у нас бой?.. С кем?.. А если крышу провалят?..
Когда смерклось, вороные лошади провезли пушки обратно, промчалось несколько кавалеристов галопом, потянулся обоз, очень шумный и бестолковый, и, наконец, замелькали беспорядочно пехотинцы.
Очень страшно было на улицах, но когда стемнело, оказалось, что дома сидеть еще почему-то страшней. И вот, в темноте и в осенней сырости, оба они, привязав Куклу снаружи стеречь дом, который заперли всеми замками, крадучись по задворкам, ушли, перебравшись через два невысоких забора, в сад к соседу, где была старенькая гнилая беседка в такой глуши, что кто же новый, не зная, ее найдет темной ночью?..
Там они просидели час, два, три, пока отгремели какие-то близкие выстрелы и отсвистели пули вверху.
– Боже мой, боже мой! – шептала Феона Петровна, крестясь.
– Господи, господи! – шептал Мирон Мироныч.
Но вот утихла стрельба, только как будто сопела и кряхтела кругом окраина. И часам к двенадцати ночи выбрался из своего убежища Мирон Мироныч, и, держа за руку жену, осторожненько, прислушиваясь, вглядываясь в слоящуюся темноту кругом, долго он пробирался задами к своему дому.
Нет, все-таки это было единственное надежное – свой дом, самое прочное из всего в этой утлой, расколыхавшейся жизни… Все-таки можно, придя, лечь на свою честную преданную кровать, и, может быть, удастся уснуть, а завтра будет видно, что это была за пальба и в кого палили.
Когда же выбрались они к своему двору, больно поразило их: фыркали лошади в их сарае – в том самом сарае, в котором сколько уж лет были у них только дрова, куры да чугунный крест!
Сначала они даже не поверили ушам, но нет – и пахло лошадью!.. и намешанная лошадиными копытами грязь чавкала под ногами.
Когда же из-за сарая открылся дом, он так и прянул ярко в глаза освещенными окнами.
– Неужто зажгли все три лампы? – прошептал Мирон Мироныч, едва шевеля губами.
– И сколько же мы керосин берегли-прятали, неужто ж нашли? – прошептала Феона Петровна.
А в грязи на дворе вдруг слабо пискнуло что-то, и при свете из окна разглядели они, что это (ах, злодеи, злодеи!) валялся их сторож, Кукла, раздавленная так, что уж не могла подняться.
Кукла узнала их, Кукла начала визжать громче; они были ее боги, они были всесильны, они должны были взять ее, вымыть и высушить, положить на мягкий стул, сделать ее прежней здоровой, резвой собачкой.
Феона Петровна плакала бы по ней, если бы не опустилось в ней все, если б не такая страшная тоска, что даже заболели сразу все зубы на правой стороне.
– Куда же теперь? – беззвучно спросил Мирон Мироныч.
В это время вдруг вышел из сарая какой-то солдат с охапкой дров, солдат настоящий – в фуражке с кокардой.
Они стояли в темной тени, и он их не заметил, прошел в дом.
– Печку топят! – шепнула Феона Петровна.
– Добровольцы! – шепнул ей Мирон Мироныч.
И как будто с этим солдатом, пронесшим охапку их дров, отошла часть страха, сковавшего ноги: они осторожно, за шагом шаг и держась тени, придвинулись к ближнему окну и глянули внутрь.
Лампа горела вовсю, и даже красный язык тянулся в стекло, но не замечали, что коптит она, офицеры, рывшиеся в сундуке, в котором лежали платья Феоны Петровны, теперь разбросанные всюду по комнате.
Один из офицеров был белобрысый, молодой и плотный, другой с черными усиками, сам плешивый, третий же был старик, и погоны его, две красных полоски по золотому полю, почему-то – неопределимо почему – показались знакомыми Мирону Миронычу, и мясистое розовое ухо старика этого тоже и еще больше напоминало кого-то очень знакомого…
А когда старик поднял голову от сундука и стал дрожащей рукой прикручивать лампу, оба – и Мирон Мироныч и Феона Петровна – присели в одно время и толкнули друг друга локтями: это был Мордухай-Болтовский.
Он постарел страшно, он похудел, он подстриг себе бороду, но это был он.
И Мирон Мироныч почувствовал всем телом, что нет у него больше дома. Это уж не оторопь была: оторопь приходит и проходит, – это было опустошение внезапное, но последнее.
Мирон Мироныч решительно потянул жену от окна, и жена покорно двинулась за ним следом.
Дрожащие и бескостые, какие-то оболочки двух людей, хлюпанье и студенистый трепет, переползли они опять через ночные осенние скользкие и невнятные заборы, добрались до той гнилой беседки, в которой перед тем сидели, но не задержались в ней, пошли дальше.
Куда именно? Неизвестно… Они не растворились же, конечно, в этой темной испуганной ночи, нет, но они больше уж не приходили в свой дом. Им не пришлось умереть на своей супружеской кровати, и напрасно, значит, уширял коридорчик на пол-аршина Мирон Мироныч: его тело не суждено было выносить из спальни!.. Напрасно купил он и чугунный крест, окрашенный в прочную аспидную краску… Все было напрасно… и вообще очень трудно человеку угадать свою судьбу…
Говорили, что дней через пять после того, как они ушли, когда добровольцы уж снова были выбиты из города, три разномастных кота в их разграбленном домике жрали чей-то, «по-видимому, человеческий», желудок, набитый пшенной кашей… Но коты ведь вообще имеют обыкновение тащить в дом все, что попадется им в зубы… И, может быть, желудок этот был совсем даже не «человеческий»… И, наконец, какое отношение мог иметь этот желудок к пропавшим Мирону Миронычу и его жене?
Я не верю, чтобы так-таки бесследно и пропала эта чета… Она непременно укрепилась где-нибудь в другом месте… Велика страна наша, и добрые люди ее населяют, и если вы знаете, где живут они теперь – Мирон Мироныч Гуржин, лет этак пятидесяти семи, и Феона Петровна, лет на тринадцать моложе, – то сообщите мне об этом.
1928 г.
Как прячутся от времени*
Неисправимый народ художники! Счастливцы кисти и любимцы жизни Рубенс и Ван-Дик испортили внешность их на три столетия, и теперь еще случается у нас – отращивают они длиннейшие волосы, откапывают где-то широкополые бандитские шляпы, надевают их живописно на правый бок, и если не всегда бывают в плащах, то необыкновенного покроя куртки из темно-зеленого или рыжеватого полосатого Манчестера с ними неразлучны; и теперь еще в нашей трезвейшей стране вид у них мечтательный, и глаза их стремятся находить рядом с тем, что для всех очевидно, что-то неуловимое, едва мелькающее, чуть-чуть очерченное, неясно окрашенное, скорее всего несуществующее совсем.
Такой именно художник и бродил в июне по кладбищу одного из кавказских городов. В картинных волосах его под старой, но опрятной панамой увязло уже достаточно седины, небольшая бородка была не моложе по виду, но серые глаза глядели еще двадцатилетне, с большим расширявшим их любопытством.
Сюда, на Кавказ, он приехал с севера, откуда давно уж не выезжал, и все его здесь занимало, как может занимать только художников и неиспорченных детей. В руках у него был небольшой карманный альбомчик, и он привычно бегло набрасывал в него то памятники сквозь деревья, то деревья, осенившие памятник. Кладбище было из старых: попадались памятники столетней давности, попадались и очень странно звучавшие теперь старинные надписи, – их он тоже заносил в свой альбом.
В силу странной работы мысли, которая только у художников может отбрасываться от настоящего далеко в глубину веков, он думал теперь на кавказском кладбище в июньский день 1929 года не о себе, не о своем, не о том, что видел он час назад в этом городе, не о том, что видел дней десять назад в своем северном городе, – он думал о голландском городе Гарлеме, где в 1664 году умирала от легочной чумы возлюбленная художника Корнелиса Бега (ученика Ван-Остаде), певца и музыканта, человека скромного, робкого, преданного. Он представлял, как в этом патриархальном Гарлеме по ночам ходили с факелами могильщики в черных масках и просмоленных плащах и крючьями на длинных шестах выволакивали из домов тела умерших. И осязательно, гораздо живее и яснее, чем это кладбище около него, видел он сейчас улицу Гарлема, небольшой дом с низко над землей расположенными окнами и около одного из окон, за которым лежала она, обреченная неизбежной и скорой ужасной смерти, самого Корнелиса, длинноволосого, в бархатном синем берете, с небольшой курчавящейся светлой бородкой. Он обезумел от горя; он хочет влезть к ней в окно; едва удерживают его, раньше такого кроткого, два дюжих друга. Но вот он всовывает через окно к ней палку свою, умоляя: «Поцелуй хоть палку эту так же крепко и любяще, как меня целовала!..» И когда друзья выхватили палку, конец ее был уже заражен умирающей, а он, Бега, покрывал его поцелуями. И через три дня он умер, и труп его вытащили смолеными крючьями люди в просмоленных плащах.
Случайно вызванное из памяти, это маленькое событие в маленьком Гарлеме, совершившееся двести шестьдесят пять лет назад, занимало его теперь неизвестно почему: потому ли, что самому ему, как и Корнелису Бега, шел сорок третий год, потому ли, что сам он был скромен и робок, потому ли, что месяца три назад у него умерла жена, с которой вдвоем перенес он много за последние двенадцать лет.
Сложения он был некрупного, в плечах неширок, в поясе тонок. Когда он зарисовывал памятники и купы деревьев, он делал это тщательно, остро вглядываясь во все очертания, но в то же время держалась в мозгу, никуда не выпадала узкая улица Гарлема, и он думал, что, придя в гостиницу «Франция», набросает ее в другой большой альбом.
Он знал, что это будет никому решительно не нужно, кроме него, так же, как никому не нужен и этот рисунок кладбища, но рука привычно чертила в альбоме, а мысль еще деятельнее чертила в мозгу.
Он приходил на это кладбище еще два раза раньше, и ему нравилось, что оно так пустынно. В первый раз он увидел на нем только двух девочек – черноголовую побольше и белоголовую поменьше, которые резали серпами густую и высокую траву и раскладывали ее рядами для просушки, а во второй раз он прошел мимо двух парней, которые копали могилу и из которых бросился в глаза особенно один, очень широколобый. Теперь, обойдя все кладбище, он никого не встретил. Такое равнодушие живых к покойникам объяснил он бурным темпом нашего времени, исключающим заботы о прахе предков.
Ему нравились здесь могучие осокори с почти березово-белыми стволами и белой изнанкой листьев; чтобы лучше вобрать их слегка смолистый запах, он старался шире раздувать ноздри узкого носа. Белые акации здесь уже отцвели, и опали венчики их цветов, устилая могилы, но слабый запах от этих опавших, нагретых солнцем венчиков еще оставался в воздухе. Серенькие пеночки болтали в густейшей сирени негромко уже, не по-весеннему, и эта болтовня их тоже как-то была ему необходима, чтобы дополнить настроение грусти, отрешенной и деятельной в одно и то же время.
Он заметил, что дорожки на кладбище были чисто подметены и посыпаны желтым песочком, а где росли за оградами могил цветы, они были густы, сочны, душисты, – видимо, никто не рвал их зря целыми охапками, за ними был уход, их поливали. Над цветами гудели облепленные золотой пыльцой пчелы, а гуденье пчел художник так же любил, как болтовню пеночек.
В этот день на кладбище особенно привлекла его небольшая церковь над склепом редкостно найденным соотношением линий. Как будто простая с виду, она была очень тонко обдумана в каждом повороте карнизов, в наклоне крыши, сделанной из четырехугольной аспидной гладкой черепицы, в небольшой колоколенке над этой крышей с праздно висящими тремя маленькими колоколами, от которых вниз не тянулась даже веревка. На фронтоне очень естественно был вылеплен голубь, распростерший крылья так, что казалось, вот сейчас он, белый, сядет на круг из пышно сплетенных белых лилий.
Художник обошел всю церковку кругом, пытался заглянуть внутрь ее через окно с железной решеткой в середине, но окно было чрезвычайно запылено, и едва мерцал сквозь него иконостас. Тогда, отойдя на сколько было нужно, он начал зарисовывать и эту церковь и успел уже набросать ее до половины, когда сбоку его, в кустах, послышалось густое покашливанье, похожее на львиный рык, и к нему вышел человек лет сорока трех-четырех, рослый, плотный, выпуклый, в белой длинной рубахе под ремешок, которые зовутся толстовками, в коричневой соломенной шляпе, с густой рыжей недлинной бородою и с волосами, подстриженными в кружок на уровне прижатых ушей.
Художник прикрыл альбом, как делал это всегда, когда к нему подходили: он был скромен и даже, пожалуй, застенчив, а подошедший остановился не больше как в трех шагах, кашлянул и спросил глухо, но очень серьезно:
– Чем могу вам служить?
Художник удивленно поднял редкие бровки, почесал впалую щеку карандашом, ответив:
– Немножко не понимаю вашего вопроса, простите…
– Не понимаете?
Подошедший уставился в его глаза немигающими круглыми странно желтыми глазами, подняв волосатую кисть руки до ремешка на рубахе, и добавил, ткнув в ремешок пальцем:
– Я – арендатор этого кладбища!
Художник слегка дотронулся до панамы, протянув неопределенно:
– Во-от как!.. А у вас, я заметил, большой тут порядок…
– Что?.. Порядок?.. Да, конечно, порядок… А какая вам надобность во мне?
– Помилуйте, какая же может быть мне в вас надобность? – удивился художник. – Умирать я еще не собираюсь…
И в голосе его – он был слабогрудого тенорового тембра – были и оторопь и веселость; художник даже улыбнулся одним краем рта.
– А если никакой нет надобности и даже смешно это вам как будто, то зачем же вы сюда вошли, скажите?.. Сюда посторонним вход воспрещен!..
– Неужели?.. Почему же так строго?
– Не полагается, и все!.. Об этом сказано в объявлении, – висит на воротах…
– Не обратил внимания…
– Это как же так не обратили внимания, когда вы списывали его, когда в первый раз сюда явились?
И одутловатое, тугое лицо арендатора кладбища стало строгим.
– Да, верно, я что-то там списывал, – вспомнил художник. – А вы откуда же это знаете?
– Обязан знать все, что касается моего кладбища!
– Ага… Гм… Вот, кстати, скажите же мне, давно построена эта церковь? – беспечно кивнул бородкой художник на дверь, обитую железом, покрашенным в серый цвет.
Но этого вопроса как будто ждал арендатор, чтобы оглядеть очень зорко всего художника, начиная от черной ленты на панаме и до концов его парусиновых туфель, и ответил расстановисто и чуть сузив глаза:
– Это совсем не церковь… Это – часовня…
– Вот как?.. Часовня?.. А как же я видел в окно иконостас, а за ним – алтарь?.. Правда, алтарь маленький…
– А я вам говорю, что часовня!
Тут арендатор подбросил голову и засопел коротким, но тугим ноздреватым носом, добавив:
– Что касается церкви, то она тут одна, при входе на кладбище.
– Ту я видел, конечно, но эта, признаться, мне нравится гораздо больше, – беспечно сказал художник и улыбнулся.
– Это я вижу! – очень зло ответил арендатор, и глаза его теперь – неподвижные, круглые, янтарного оттенка – показались художнику знакомыми: он видел именно такие у подбитого охотником там, у себя на севере, этой весной ястреба-тетеревятника.
Он сказал арендатору:
– Не только архитектура нравится… Я воображаю, какая там должна быть интересная живопись, в этой церковке!
Тогда арендатор протиснул сквозь зубы:
– Я вам говорю, что часовня это!.. Хотя говорить с вами зря я не обязан…
И добавил в полный голос:
– А вот попросить вас времени у меня не отнимать – это я могу!
– Не я к вам, вы ко мне подошли, – удивился этому полному и густому голосу художник.
– Я – хозяин этого кладбища, я и подошел, а вы мне тут… очки втираете!.. Вот пожалуйте с моего кладбища, так как мне надо запереть калитку!
– Как так с вашего? – обиделся художник.
– С арендуемого мною, да-с!.. Вот и пожалуйте!
И арендатор придвинулся вплотную к художнику, выпятив по-лебяжьи грудь, а художник отступил на шаг, выдохнув:
– Вот так дичь!
– У вас в голове! – крикнул арендатор, наступая. – В голове у вас дичь!
Художник оглянулся мельком, куда можно ему отступать еще, и спросил тихо, но совершенно серьезно:
– А вы… не сумасшедший?
Тогда плотный, рослый человек с рыжей бородой и в белой толстовке еще заметнее уярчил глаза и, тоже понизив голос, сказал выразительно:
– Я т-тебе т-такого сумасшедшего покажу, что т-ты до города будешь лететь, как… шар воздушный!
Он сжал добела туго оба кулака, и, убедясь, что перед ним действительно сумасшедший, художник быстро повернулся и пошел в направлении к воротам, все убыстряя шаги и предусмотрительно повернув голову кзади, а сзади еще слышался какой-то неразборчивый, однако нелестный для него густой рык.
Когда он проходил в калитку, то мельком заметил на дворе слева, в открытом сарае, двух ребят, похожих на тех, которые рыли могилу, только один из них строгал рубанком, другой бил молотком по глыбе камня; а дальше, около церкви, он наткнулся на бабу в желтом платке, по виду – казачку из пригородной слободы, стоявшую рядом с другой бабой, простоволосой, приземистой, черной, похожей на армянку.
Эта, в синем нескладном платье, полоскала кучу белья около водопроводного крана, и художник заметил ее в подробностях потому, что уже видел ее здесь же в первый свой приход, и потому еще, что она сама очень пристально на него поглядела.
Между кладбищем и ближними домами было пустое поле минут на двадцать ходьбы, да и то это был еще не город, а пригородная слобода казачья.
Художник, часто в недоумении подымая плечи и брови, остановился на полдороге к слободе, очень закудрявленной частыми садами, а когда обернулся назад, то увидел, что странный человек, назвавшийся арендатором кладбища, стоит уже без шляпы на паперти церкви, напяливая на толстовку черную рясу, а рядом с ним, одергивая эту рясу, торчит совсем маленький белоголовый мальчик в розовой куцей рубашонке без пояса, и тут же казачка в желтом платочке стоит и держит в руках коричневую соломенную шляпу. Потом все они трое вошли в церковь.
Это так заняло художника, что он, забыв обиду, подвинулся к церкви и сам и вошел на паперть.
В церкви он увидел попа с круглой лысиной на темени, в епитрахили поверх рясы. Он служил панихиду, очень быстро, но отчетливо читая наизусть все, что полагается; казачка истово крестилась, а мальчуган, такой маленький, не больше, как лет семи, босой и распоясый, совсем не по-детски серьезно раздувал в уголку кадило, делая при этом страшные глаза, потом спеша понес его попу.
Художник достоял почти до конца панихиды, устроившись около дверей, видел, как баба чмокнула серебряный крест, потом толстую руку арендатора кладбища и сунула в эту руку рублевую бумажку, но, заметив спрашивающий издали и открыто ненавидящий, уже знакомый, обращенный к нему взгляд круглых желтых глаз, вышел. Спешить ему было некуда, – он шел медленно, и казачка в желтом платке, задевая припадающей левой ногой пыльную дорогу, догнала его – загорелая, с крупными морщинами около рта.
Она сознательно забрала в сторону, обходя его, но он спросил, обернувшись:
– Это кто, поп служил вам панихиду?
И только тогда понял, что вопрос получился совсем нелепый, когда казачка, скосив на него строгие белесые глаза, ответила вопросом же:
– Ну, а как же не поп?
– Гм… Конечно… Как-то он все-таки… И кто же он такой? – несвязно забормотал художник.
– Как это кто такой?.. Отец Лука! – еще строже ответила женщина и яростно пошла вперед, заметно пыля левой ногой при каждом танцующем втором шаге.
В этот день за обедом рыжебородый Лука был более, чем обычно, строг к своему выводку, плотно обсевшему круглый обеденный стол.
Отправляя в полнозубый рот, отлично приспособленный для речей, пения и обедов, ложку за ложкой, он взглядывал исподлобья то на одного, то на другого из детей и говорил, выбирая из своего голосового богатства только средние, глухо рокочущие ноты:
– Почему, Степан, не подвинешь ты солонки Евфалии, чтобы не тянулась она через весь стол?.. Не-ве-жа!.. Вы живете, как на острове, и должны все держаться друг за друга зубами и помогать… а ты даже соли сестре подать не хочешь!
Степан, старший, лет шестнадцати, очень широколобый и плотный, больше, чем все остальные, похожий на отца и с такими же круглыми желтыми глазами, отозвался, чуть усмехнувшись:
– Нужно же понять, что она за солью тянется!.. Зачем ей соль? Разве борщ несоленый?
– Для меня – несоленый, да! – отозвалась Евфалия, откачнув черноволосую голову, выпятив острый подбородок и в то же время заострив кпереди плечи, что означает у девочек-подростков по четырнадцатому году недоумение, обиду и вызов.
– Тебе соль не нужна, мне вот тоже не нужна, а ей понадобилась после того, как половину тарелки съела… почему это?
Так как Лука глядел в это время на среднего сына, пятнадцатилетнего Евтихия, то он, подумав, ответил:
– Ясно: соляной кислоты в желудке мало.
Он был горбоносый, похож на армянина, как мать, сухощав и лупоглаз.
– Петр! Утри нос! – свирепо поглядел в это время Лука на младшего, белоголового, лет семи, вытер усы салфеткой и заговорил:
– Вот ты понимаешь, Евтихий, насчет кислот, – меня этому не учили, – и мог бы из тебя доктор выйти, а ты исключен из школы за мое поповство и должен кресты строгать… Однако не пеняй, – живешь ты на свежем воздухе и ешь вволю… цени это!.. Между прочим, займись механикой… И ты тоже, Степан… У вас есть свои деньги, купите книги… И говорить! Механике и говорить!.. Два эти искусства – основа у нас всего!.. В сарае работаете вместе, – говори друг с другом, говори, – понимаете? – а не молчи!.. Только дураки молчат, потому им сказать нечего, а вы – спорь!.. И не в два слова спорь, а целой речью… Также могилы когда копаете… А когда отдыхаете, сломанные часы почини, примус поправь, – вот какой должен быть ваш отдых… Дарья! Сиди прилично!
Дарья, лет десяти, такая же белобрысая, как Петр, и сидевшая с ним рядом, в это время вздумала ущипнуть братишку за голую коленку, и он пискнул.
– Дом у нас кладбищенский: арендатору полагается жилплощадь… Уплотнять его здесь некем, – от этого мы избавлены… А церковь, из которой я ушел сюда, говорят, не сегодня-завтра закроют: хор имели, а певчих не страховали!.. Теперь из страхкассы иск предъявляют в пять тысяч, а?.. Где им такую сумму собрать! Ни за что не соберут! Значит, прикроют… Теперь вопрос: куда оттуда отец Афанасий пойдет?.. А мне аренда дана на пять лет!.. Еще, значит, вам обеспечено четыре года… четыре же года – это срок!.. Через четыре года даже и Петру будет одиннадцать! Петру одиннадцать, Дарье четырнадцать, а тебе, Степан, двадцать! Ка-ко-во?..
Так как приземистая, в синем, попадья собирала в это время тарелки от борща и устанавливала гору их на кастрюле, чтобы отнести в кухню, Лука подмигнул ей как будто даже несколько удивленно:
– Каково? Двадцать!.. Тогда пусть женится, если хочет, и – на свои хлеба… Евфалия – замуж выйдет… Евтихий – он тоже со счетов долой через четыре года… Останутся, стало быть, двое с нами: Дарья и Петр… Та-ак!.. Покупайте книги, какие нужно, Степан и Евтихий, я тоже буду вместе с вами механике учиться!
Попадья сказала только:
– А у прежнего арендатора на сколько лет бумажка была составлена? – и пошла на кухню с тарелками.
Лука подбросил было голову, кинув ей вслед:
– Под меня не подроются, нет! – однако очень внимательно стал разглядывать всех своих пятерых и только коротко чмыхал носом, а те тоже молчали, занимаясь каждый своим: Степан щупал немалый уже бицепс на правой руке, Евтихий обгрызал заусеницы, Евфалия расстегивала рукавчики блузы и закатывала их выше локтей, Дарья заплетала распустившуюся льняную косичку, укрепляя в ней голубую ленту, а Петр проворной горстью ловил мух над куском своего хлеба.
Комната, в которой обедали, была большая, но стены голые, на окнах – сетки от мух, потому что окна выходили на двор, откуда тянуло запахом сухого кизяка.
Когда принесла попадья из кухни огромную сковороду жареной картошки с коричневыми кусками печенки посередине и сама принялась накладывать всем на тарелки, Лука сказал ей небрежно:
– А этого, в панаме, я с кладбища, конечно, прогнал!.. Наш брат – живец, разумеется, но-о хитрости непомерной!..
– Прогнал?.. А он что?.. Пошел? – забеспокоилась попадья.
– Да ведь ехать ему было не на чем… пошел, конечно… Я его на месте застал: подробную опись всему кладбищу делал и… плани-ровал!..
– Что?.. Ведь говорила я!
У попадьи застыла ложка в руке, глаза стали, как из черного стекла, и побелел загнутый нос.
– Твоя правда!.. Очень расспрашивал насчет церковушки… Для меня ясно: полкладбища, подлец, хочет оттяпать!
– Если не все! – вставила Евфалия.
Лука посмотрел на дочь, и голос его стал торжественным и важным.
– И, несмотря что я его с кладбища погнал, чуть только панихиду я начал служить бабе этой, он, понимаешь ли, тут же, в церковь, и стоит!.. Вот Петр его видел.
– Видел, мама! Я видел! Видел!..
Выпустив зажатую в кулак муху, Петр засиял, заболтал ногами, наконец поднял колени и уткнулся в них подбородком.
Попадья тянулась в это время с ложкой картофеля к тарелке Евтихия, но от беспокойства и оттого, что не могла отвести глаз с лица мужа, высыпала картофель прямо на белую клеенку стола, беззвучно прошептав при этом:
– И что же он в церкви?
– Конечно, все осмотрел пристально, однако в конце концов смылся… Теперь он, разумеется, в отдел местного хозяйства пойдет: я мысль его понял!
Лука нанизал на вилку сразу несколько кружочков картошки, выбирая самую поджаристую, и, когда она захрустела у него на зубах, добавил:
– А мысль эта та, чтоб за аренду полкладбища хо-ро-шую цену им предложить, – вот эта мысль!
– Если не всего кладбища! – сказала Дарья, протягивая тарелку матери.
– Вот тебе и четвертый за один год! Сколько же будет их за пять лет? – спросила попадья испуганно-тихо.
Петр встал на стул и старался свою тарелку протянуть к матери ближе, чем сестра.
– Сядь! – крикнул на него Лука и добавил: – Этот четвертый – он самый хитрый… Те трое прямо ко мне приходили, не приму ли я их в долю, потому что деваться им некуда, а этот… Этот окольным путем действовать хочет!.. Не иначе у него в местхозе знакомство есть… Сиди ровно, Евфалия, а то горб наживешь!.. Этот по-хозяйски планировал!..
– Чепуха! – сказал Степан, дожевывая печенку. – Договор пишется, чтобы его соблюдали… Раз арендный договор есть…
– То его найдут невыгодным, – досказал Евтихий, а Евфалия добавила:
– Кольев набьют, колючую проволоку натянут, и все.
– Петр! – крикнул Лука на младшего, все еще не получившего картофеля и опять вскочившего на стул.
– И размножится кладбище наше делением, как инфузория, – угрюмо буркнул Евтихий.
– Поди сам в местхоз, а не жди! Узнай, какие у него такие планы, – сказала попадья, леденя мужа черными стеклами глаз.
Но Лука отозвался бурно:
– Планы его?.. На его планы у меня свои контрпланы есть!.. И контрпланы эти я скорее его, подлеца, могу в дело пустить!.. Пусть он знает: захочу – и в два счета сделаю!.. По-ду-ма-ешь, какая явилась зеленая тля!.. Дарья! Сиди смирно, тебе говорят, а то выгоню из комнаты вон!
Год с небольшим назад на прежнего арендатора кладбища поступил донос, что он в девятнадцатом помогал белым. Донос был за подписью Луки Суховерова, служителя культа, а не позже как через месяц сам Лука Суховеров, подписав еще и другую нужную бумагу, договор с местхозом, перевез сюда свою большую и дружную семью.
Уволенный из школы, Степан начал учиться каменотесному делу и теперь довольно исправно владел нужными инструментами; Евтихий выполнял заказы на деревянные кресты из дубовых пластин; Евфалию пока еще не исключали из школы, и на ее обязанности было делать в городе те или иные необходимые мелкие покупки; Дарья училась дома и помогала матери на кухне, а теперь, летом, должна была еще поливать цветы на могилах и посыпать дорожки песком. Петр обязан был помогать отцу в церкви, и если отец служил заупокойные обедни, то Петру, даже и летом, полагалось надевать новые ботинки.
Так как со старыми могильщиками выходили частые споры, то Степан и Евтихий взялись рыть и могилы сами, но с тем, чтобы с каждой отчислялось в их личную пользу по рублю на брата. Лука подумал и согласился, и этим их деньгам, которые у него же хранились, велся особый счет.
Кладбище было обширное. Город основался еще при Александре I, и с тех пор все везли и везли на это кладбище покойников – знатных, сановных, чиновных и совсем незнатных, совсем нечиновных. Однако нечиновные с течением времени покрылись одними чиновными, и могил без памятников и чугунных или железных оград в середине кладбища уже не было, а ближе к церкви памятники были исключительно из мрамора, белого, черного, серого, больших размеров и очень дорогой работы.
Нужно было разобраться в своем новом хозяйстве, и Лука всесемейно обошел кладбище, найдя на нем много примечательного.
Об одном вместительном склепе, в котором не было никаких признаков гробов, зато в несколько примятых кучек разложена была прелая солома, он сказал, присвистнув:
– Эге!.. Да здесь, кажется, босячня ночует! Выходит, что это – отель «Босяк»!..
О другом, где солома была посвежее и даже полуприкрыта не особенно грязными полосатыми тряпками, он выразился:
– А это уж отель «Комфорт»!.. Тут ночуют, должно быть, воры…
В одном месте тесно друг около друга покоились четыре доктора медицины: Фатюшин, Колесов, Редько и Козловский. Можно было подумать, что они умерли во время борьбы с какою-нибудь эпидемией, но нет, – года на крестах стояли разные. Лука посопел тугим носом и сказал задумчиво:
– Что же это тут такое у них, у этих докторов медицины?.. Консилиум для всех покойников?..
Так разные участки кладбища стали называться у них в доме: отель «Босяк», отель «Комфорт», «Консилиум»…
Кроме того, в одном глухом углу, где был третий разряд могил, буйно разросшийся осокорь поднял подгнивший снизу утлый деревянный крест толстою веткой, пошедшей от корня; ветка росла, тянулась кверху и поднимала легкий, источенный крест. Теперь крест этот виднелся саженях в четырех из земли. О нем Лука тоже сказал проникновенно:
– Вот так воздвиженье честнаго животворящего креста!..
Этот участок стал называться «Воздвиженьем».
Чтобы разные темные личности все-таки не ночевали в склепах, Лука вздумал было поправить там двери и навесить на двери замки. Это оказалось ошибкой: замки исчезли, а у него на дверях появилась записка, приклеенная хлебом и составленная из одних только сильных выражений по его адресу.
Лука думал было идти жаловаться в милицию, но попадье показалось, что будет еще хуже. Тогда на всякий случай Лука купил по очень сходной цене двустволку – курковую с расстрелами и сильной отдачей – и повесил у себя над кроватью. Подсыпая под пистоны пороху на ночь, чтобы не было осечки, он говорил иногда старшим – Степану и Евтихию:
– Мы здесь, как на острове: за две версты, в случае чего – не добежишь, не скажешь… Мы на себя надеяться должны…
Казалось бы, что с памятников, рассчитанных на вечность, трудно что-нибудь унести человеку, да еще ночью, однако уносили железо с оград и вывинчивали большие медные винты, которыми были привинчены мраморные доски к памятникам из гранита.
Лука сделал объявление в местной газетке, чтобы все, имеющие склепы и памятники на могилах своих родных, в кратчайший срок заявили ему, арендатору кладбища, о своем желании их поддерживать и за ними следить. Он ждал неделю, две, три, – никаких заявлений к нему не пришло, никто к нему не явился.
Тогда Лука углубился в изучение арендного договора и однажды за вечерним чаем сказал торжественно своему дружному семейству:
– Итак, чье же это бесхозное имущество? Чьи все эти склепы, памятники, плиты и ограды?.. Живых владельцев не оказалось, мертвые – не в счет… Местхоза? Разумеется… Однако описи на все это нет…
И, сделав желтые круглые глаза почти веселыми, закончил:
– Так недолго дойти до мысли, что имущество это – наше!
Сделав этот вывод как бы в шутку, он в ту же ночь (это было в середине октября) взял свою двустволку и двух старших и пошел окарауливать кладбище.
Не доходя до отеля «Босяк», он сделал выстрел и потом долго растирал правую ключицу.
Евтихию показалось, что зашуршало в дальних кустах, что бегут с кладбища к ограде не меньше, чем в десять ног. Степану показалось тоже, что бегут двое или трое. Отцу их ничего не казалось, так был он занят потерпевшей ключицей, но все-таки он закричал грозно:
– Сто-ой, сукины сыны! Стрелять буду!
И выстрелил сгоряча из другого ствола, после чего бросил свой дробовик наземь и забормотал испуганно:
– Кажется, перешиб пополам кость!
Наутро оказалось, что с этого самого отеля «Босяк» сняли и унесли железную дверь.
Без досок с полным обозначением имен, отчеств и фамилий, чинов, титулов и строгих дат рождения и смерти памятники на кладбище потеряли вложенный в них смысл, стояли под деревьями, как украшения в парке, и кто бы мог запретить Луке Суховерову перемещать их на свежие могилы, если они не были громоздки, или оставлять на прежних местах, но с новыми покойниками под ними, если передвинуть их было трудно? К ним прикрепляли старые мраморные доски (воры брали только медные винты, а не доски), на оборотной стороне которых выбивал Степан новые надписи и даже бронзировал их, чтобы они имели вполне богатый вид.
Так движимое имущество кладбища передвигалось, или в него вкладывался новый, современный смысл: новизна всегда победоносна.
Правда, памятники шли очень дешево, но все-таки за них хоть что-нибудь давали. Когда же один из мавзолеев, представлявший глыбу красного гранита с очень удачно сделанными античными горельефами, хотели вывезти отсюда для украшения соседнего курорта, Лука этого не позволил сделать, и довольно сложная переписка по этому поводу между курупром, местхозом и Лукою так пока и кончилась для курупра ничем.
На воротах кладбища это именно Лука, а не его предшественник укрепил расценок мест и список правил, обративший на себя внимание художника. Довольно длинная черная железная таблица белыми четкими буквами и цифрами предупреждала, что место в первом разряде стоит десять рублей, во втором – семь с полтиной, в третьем – пять; что вырыть могилу стоит четыре рубля; что посетители могил своих родственников должны обращаться за пропуском к арендатору кладбища; что посторонним лицам вход на кладбище воспрещается; что перелезать через ограду, рвать цветы, ломать деревья, ночевать в кладбищенских склепах воспрещается под угрозой штрафа, а расхитителей кладбищенского имущества ждет строгая кара по такой-то статье уголовного кодекса.
Когда художник почувствовал, что ему недостает этой маленькой кладбищенской церковки, что она ему очень необходима, она показалась ему истинным чудом архитектурного искусства. Рисунок его был не закончен, – нужно было сделать другой и взять для этого другую точку, левее, ближе к окну с запыленными стеклами.
Об арендаторе кладбища теперь – это было через два дня – он думал, что тот был просто сильно выпивши, и когда увидит его на кладбище, то извинится, конечно.
Смотря на картины старых мастеров, видишь не только краски, в большинстве очень потускневшие, постаревшие, часто потерявшие даже соотношения, о которых можно только догадываться, – нет, видишь еще за каждой и самого мастера и прослеживаешь, как именно клал он свои краски, но для этого нужно всмотреться и вдуматься.
Так и художнику хотелось именно теперь, после знакомства с охранителем редкостной церковки, присмотреться уже по-настоящему, вдумчиво к ее архитектуре и к старой живописи ее икон, хотя бы через окно, затянутое пыльной железной решеткой.
Ему даже начинало казаться, что он сделал какое-то открытие.
Бывает, что валяется между мусором, хламом и голубиными гнездами на чердаке, среди калеких венских стульев и двуногих табуреток, какой-нибудь старинный, весь скульптурно-резной дубовый стул, привезенный еще при Петре Великом из-за границы каким-нибудь из его «денщиков», уже рассохшийся, но еще такой массивный, что с трудом можно его поднять, и такой непобедимой крепости, что даже жуки-точильщики ломают на нем свои челюсти.
Восторг любителя и знатока при находке на чердаке в захолустье такого стула бывает безмерен. Так и художник с севера убеждался все больше и больше, глядя на свой рисунок и вспоминая, что какой-то большой мастер лет сто назад делал чертеж этой церковки, а может быть, и сам наблюдал за ее постройкой.
В тот день, когда художник пошел снова на кладбище, с утра был дождь, и он надел свою необычайного покроя куртку из темно-зеленого Манчестера и, подходя к воротам, глядел направо, на этот одноэтажный каменный, весьма таинственный дом с высоким крыльцом и тощим палисадником, присевший тут же, за большой церковью, – не покажется ли оттуда снова желтоглазый человек в толстовке, в коричневой соломенной шляпе. Но показалась в деревянных воротах сарая, примкнувшего к самой кладбищенской ограде, знакомая уже, приземистая, черноволосая женщина в синем, подошла к калитке железных ворот кладбища, потопталась около них немного и тут же скрылась во двор.
Художник понял, что это она запирала калитку, заметив его издали.
Подойдя, он подумал, что, должно быть, принято тут платить за вход, и, чтобы найти, кому уплатить, вошел в ворота сарая и стал, потому что синее платье очень проворно мелькнуло куда-то в темный угол, откуда выдвинулась широколобая, широкоплечая, мрачная фигура парня с молотком в руке. Парень этот (художник принял его за кузнеца) переложил молоток из левой руки в правую и глянул на него очень недоброжелательно, потом ушел куда-то. Двухмесячный, не больше, очень сытый, чистенький, короткомордый поросенок пробегал по двору, скуля, но вдруг, увидя его, чужого, остановился, крутя хвостиком, поднял на него пятачок и хрюкнул вопросительно; потом боком отбросился на шаг и хрюкнул недоуменно, а когда загремела железная толстая цепь у конуры, хрюкнул неодобрительно и кинулся со всех ног, тонко визжа.
Из-за конуры подняла большую лохматую голову песочного цвета и с мутными глазами собака, лежавшая там в тени, и ударила, как в колокол, несколько раз подряд, с ровными промежутками, не спеша, выжидая, однако и не обещая напрасных надежд.
Сильно пахло коровой, рылись в навозе куры, – люди явно спрятались, и художник счел за лучшее ключа от калитки не спрашивать: в нем пробудилась вся присущая ему застенчивость и скромность. Он пошел вдоль кладбищенской стены, над которой нависали густые деревья, уже не думая попасть к той маленькой церкви в этот день, а только желая остыть в тени, так как день после дождя утром неожиданно оказался жарким.
Он замечал в степи за кладбищем на самом горизонте даже журавли колодцев на казачьих хуторах, до такой степени прозрачен стал после дождя воздух, а с другой стороны, вправо от города, синели небольшие, отдельно стоящие горы, похожие на исторические курганы, и к югу будто задержались близко к земле белесые извилистые облака и остановились: это, он знал, блистали снежные верхушки Кавказского хребта.
В нескольких местах, заметил художник идя, каменная из плотного известняка стена кладбища была разобрана, но потом заделана снова, и эти заплаты издали бросались в глаза.
Но совсем уже неожиданно для себя в одном из таких проломов вверху он увидел арендатора кладбища, который орудовал широкой лопаткой каменщика, накладывая из ведра известь и умащивая тяжелый камень в пролом.
Правда, он был уже не в коричневой шляпе, а в серой рабочей кепке, не в белой толстовке, а в какой-то дырявой на плечах казинетовой блузе, и с первого взгляда даже не узнал его художник и прошел бы мимо, пожалуй, если бы не ожег его тот огнем незабываемых желтых круглых глаз.
Он не успел посторониться, как комок извести, ловко брошенный с лопатки, упал на его темно-зеленую куртку.
– Это… что такое, а?.. Вы… Ты как это смеешь? – крикнул художник, так как этим он был возмущен донельзя.
Но Лука – он стоял с той стороны высокой ограды – заорал и сам во весь свой могучий голос:
– Что-о? «Смею»?.. Я смею тебе и шею свернуть!.. Ты видишь – человек работает? Чего под стенку лезешь?
И он схватил большой кусок щебня и поднял его над головой с явным желанием запустить им в человека, намерения которого были для него ясны.
Художник оглянулся кругом, ища защиты, но никого не увидел и попятился от стены в поле. Он пятился долго, боясь оборачиваться, чтобы успеть уклониться от камня, если этот совершенно умалишенный, неслыханный поп вздумает действительно его бросить, и, только отойдя так на большое расстояние, потряс в сторону стены тощим кулаком и принялся очищать от извести свой Манчестер.
На другой день он выехал из этого города дальше к югу, где белели горы. Во Владикавказе они были уже рукой подать, и по Военно-Грузинской дороге он ехал к ним на легковой машине, угорело мчавшейся. Ингуши на двуколках попадались навстречу (день был базарный). Шофер, рядом с которым сидел художник, вертел свое колесо и, должно быть, очень был замучен зубною болью, потому что был обвязан платком и то и дело плевал на дорогу. Однажды кто-то сидевший сзади сказал громко: «Вон замок Тамары!» – но художник так и не разглядел на склонах гор никакого замка. Терек, так воспетый поэтами, оказался очень мелкой и чрезвычайно мутной речонкой. Кудлатые буйволы, с ног до головы вымазанные илом, стояли на его островках или заходили по грудь в воду. Высоко и далеко от воды торчали вдоль шоссе плетневые дамбы и фашины. Развалины бывших военных постов кое-где виднелись… Художник жадно впивал то темную хвойную зелень на горах, то светлую, яркую зелень горных лугов; наконец, проехали Ларс, и открылся Казбек, ослепляюще белый с сахарно-синими тенями, и на станции Казбек шофер сделал остановку на час, чтобы полечить больные зубы водкой. Толпа ребятишек облепила художника и вперебой совала ему куски горного хрусталя и серного колчедана: «Купи!.. Денег не хочешь давать, дай карандаш…» Грузинки – почему-то все очень некрасивые – носили здесь воду в древних горлатых темномедных кувшинах, держа их на широких плечах очень устойчиво. В ресторане он ел форель и пил фруктовую воду, а когда хозяин подал ему счет, сказал ему удивленно:
– Однако и дерете же вы, почтенный! Что же это за цены!
– За-де-ре-ешь! – ответил хозяин спокойно. – Не то что цены, и ноги задерешь, когда шесть тысяч одной аренды платишь!
Пообедавши, он пошел было через мост на другой берег Терека, чтобы дойти до Нарзана, но оказалось, что не успеет, и, только полюбовавшись необычайной зеленью долины, вернулся. Монастырь отчетливо рисовался на горе, но к нему подняться тоже не было времени. Зато маленькая церковь в самом селении Казбек до того напомнила ему другую недавнюю маленькую церковь, что он ахнул. Те же почти (но только художники знают, что значит «почти» в искусстве) были линии стен и карнизов, такая же четырехугольная аспидная черепица, неплохо и тут была прилеплена крошечная колоколенка, только от колокольчиков вниз тут тянулась веревка, а на фронтоне не голубь в кругу из лилий – пара львиц или барсов, очень грубо, но энергично сделанных, разрывала зубами и не могла разорвать круглую железную цепь. Тут же была и надпись: «Александр I» – у хвоста одной львицы и «1821» – у хвоста другой.
Эта церковка оказалась вполне доступной для осмотра.
Очень ветхий старик в рыжей овчинной шапке, церковный сторож, отпер ему двери, и художник мог досыта налюбоваться творениями прихотливой кисти какого-то давно истлевшего в земле своего собрата, у которого женщины на иконостасе все вышли краснощеки и очень далеки от целомудрия, мужчины в тогах и хитонах искрились неподдельной веселостью, ангелы имели вид шаловливый. Старик, шмурыгая по каменному полу тяжелыми опорками, зажигал на подсвечниках огарочки очень тоненьких свечек, должно быть желая создать настроение для молитвы, но художнику не хотелось молиться. С большим любопытством разглядывал он на хоругви белого коня под Георгием Победоносцем. Конь этот с очень тонкими, не знающими устали ногами имел густой хвост, чудесно закрученный в три яруса, и и из ноздрей его пышало пламя.
Когда же художник заглянул в алтарь, то первое, что там он увидел, была крыса, попавшая в огромную стоявшую на полу крысоловку.
Художник знал о бедности церковных мышей, но не мог понять, как и чем могли питаться большие крысы в такой маленькой и сплошь каменной церкви. Он хотел узнать это от старика, но старик с такой жадностью и такими дрожащими руками припал к крысоловке, что ничего ему не ответил. Должно быть, она грызла иконостас, потому что он был холщовый.
В тот день, когда художник в последний раз был на кладбище, Лука Суховеров сказал о нем за обедом зло и торжественно:
– Как во-олк голодный около стада ходит, – так и он!.. И даже стену шагами меряет, подлец.
И, бросив тут же круглый взгляд на старшую дочь, добавил раскатисто, в средних нотах:
– Ев-фа-лия! Убери плечи!
Вечером Степан и Евтихий собрали свои кирки и лопаты (Степан на всякий случай взял еще молоток и зубило) и пошли вместе с отцом, который нес фонарь, работать в усыпальнице, а не больше как через неделю Лука стоял около маленькой церкви в своей выходной толстовке, снявши шляпу и вытирая толстую красную шею платком; рядом с ним, наблюдательно переломившись в пояснице, стоял молодой (или не так уж молодой – трудно было понять) человек из местхоза, маленький, весь бритый, щуплый, с аккуратно обточенной головой, голой и загорелой, так как, следуя твердым убеждениям, ходил он без шапки, и портфель он держал скатанным в трубочку, потому что была в нем всего одна бумажка, набросанная им еще там, в городе, – здесь ее нужно было только подписать после осмотра осевшей и треснувшей церкви.
Прельстившая художника церковка треснула во всю вышину, как от землетрясения; даже аспидная черепица ссунулась вниз, а несколько штук упало.
– Гм… вот как!.. – сказал загорелоголовый, задумчиво побарабанив по гладкому темени костлявыми пальцами. – Отчего же она все-таки? Какая причина?
– О-че-видно, действие почвенных вод, – вздохнул Лука, – почвенные воды подмыли фундамент… как я и докладывал в местхозе.
– Да, это у меня записано… Там что – подвал внизу?
– Называется – склеп, а не подвал, но, разумеется, подвал, а то что же? Лежат там преподобные генеральские мощи… спрятаны от тления (Лука усмехнулся и покачал головой). А наследников никого, похоже, не осталось в нашей Советской стране: не иначе, за границей спасаются… Так что поправить некому.
– Как это по-пра-вить?.. Что поправлять?.. Вот это?
Серые небольшие глаза в круглых больших очках поднялись на Луку, а костлявый палец левой руки уперся в трещину на крыше, которая пришлась чуть ниже колоколенки.
– Это – прекрасный повод, чтобы разобрать ее до основания, а чтобы по-пра-влять, – шалишь! Поправлять такие капища мы не позволим!..
– А если кто захочет новую такую воздвигнуть? – робко спросил Лука.
Но этот вопрос развеселил молодого человека до того, что он даже улыбнулся.
– Мы вам тогда про-пи-шем, как говорится, касторки! – протянул он ехидно и начал вынимать бумажку из портфеля.
– Но на чей же, однако, счет ломать? На мой, что ли?
– Да уж не на наш, конечно… Вы – арендатор, вы должны и ломать…
Лука покорно пожал плечами и вздохнул, и в тот же день вечером, с помощью двух своих старших, начал снимать черепицу и колокола, а на другой день нанял в городе для разборки стен каменщиков и при них, соблюдая уставную торжественность, облачившись в ризу (Петр помогал ему в этом), перенес алтарь с антиминсом и иконы в большую церковь.
Тесаный камень стен сложили штабелем невдалеке, склеп завалили землей, и если бы художник вздумал еще раз заглянуть на кладбище, он нашел бы отель «Босяк», отель «Комфорт», «Консилиум», «Воздвиженье», но не то, что начал было зарисовывать в свой альбом с таким восхищением и что не удалось ему закончить.
Но художник был уже далеко.
Время, время!.. Оно идет… Оно бесстрастно отсчитывает секунды, а из этих секунд растут года, десятилетия, юбилеи, согбенные спинные хребты, внуки, правнуки.
Когда-то давно, еще перед мировой войной, когда он только что картинами на двух выставках заработал себе имя, на это имя, как на ночной огонь, к нему в жизнь влетела молодая женщина, и они сошлись, чтобы разойтись вскоре. Их общее длилось не больше двух недель. Женщина эта была такая же северянка, как и он, но она имела мужа в Тифлисе, грузина, инженера, и в Петербург, где художник жил тогда, приехала выправить какие-то бумаги. Он помнил ее довольно смутно: высокая, русые волосы, округлые щеки, короткий нос… Еще он помнил, что она часто курила и как-то сказала о себе в первый день их знакомства: «Я сквэрная, я куру!..» Так говорил, должно быть, ее муж, кавказец, а она переняла даже и самый выговор его рабски, по-женски.
Он не вспоминал о ней семнадцать лет, но теперь, когда умерла его жена, память его стала искать в прошлом женщину и натолкнулась на эту случайную двухнедельную из Тифлиса. В одном из его старых альбомов уцелела ее визитная карточка и на ней – тифлисский ее адрес. Ее звали Татьяной, а она просила звать Тамарой.
И когда, приехав в Тифлис, художник ходил по улицам, в нем не суета большого южного центра звучала, а только это: «Я сквэрная, я куру!.. Тамара Гоголашвили…»
Художник был бездетен, и, дожидаясь в адресном столе справки, он думал, как странно это будет, и ново, и необычайно, если вдруг у него здесь окажется сын шестнадцати лет… или дочь!.. Ему казалось, что коренным образом должна будет измениться тогда его жизнь, что из этого красивого, шумного города он тогда уже не уедет.
Но приговор времени был суров: не нашлось в Тифлисе ни Татьяны, ни Тамары Гоголашвили. И сразу как-то незачем стало оставаться в нем. Он побывал на горе Давида, постоял на мосту через бешено быструю Куру, еще раз вспомнил те четыре слова, какие остались в памяти, и с ночным поездом поехал в Батум.
Но вот что увидел он здесь перед отъездом на одной узенькой улице: человека средних лет, с белесой бородкой, в серой замасленной блузе, в сбившейся набок синей кепке, которая стала в таком виде похожей на голландский берет середины семнадцатого века, пьяного и буйного, обхватили и тащили куда-то – домой, должно быть, – двое других его собутыльников, более трезвых и рассудительных, из которых один, плотный, чернобородый, напоминал арендатора кладбища, каким он его видел в последний раз на стене, другой же – в кубанке, бритый, но с усами, лихо торчавшими вверх, с бородавчатым, красным, вздутым лицом, вздернутым носом и маленькими серыми глазками, имел какое-то сходство, пожалуй, с Рембрандтом, – и пять-шесть минут мог он наблюдать их трех, пока они проволоклись мимо и закрыли их другие люди. Это вышло в своем основном так похоже на то, что рисовалось в его мозгу, на то, что набросал он как эскиз для картины «Безумие Корнелиса Бега», что он усмехнулся грустно: пьяная уличная сценка в Тифлисе 1929 года убила в нем трагическую сцену в Гарлеме 1664 года.
Когда же он ехал к Батуму, за черным окном поезда мелькали прихотливые живые огоньки, цвет которых казался зеленоватым. Он вспомнил, – говорил ему кто-то о летающих светляках, которые будто бы водятся на Кавказе, и спросил с живым любопытством своего соседа:
– Это что там?.. Летучие светляки?
Но восточный длинноносый черный человек в папахе, его сосед, положив на его колено два горячих тяжелых пальца, ответил:
– Тибе скажем так: э-это искры ад паровоза, – и густо задышал на него чесноком.
1929 г.
Сказочное имя*

Когда у областного хозяйственника, члена горсовета Хачатурова Андрея Османыча родился сын, он сказал своей жене Людмиле Сергеевне, урожденной Вельяминовой:
– Я придумал, как мы его назовем!.. Я взял, понимаешь, отрывной календарь, и есть там такое имя – Садко, а?.. Мне понравилось… Мой дед назывался Садык. Садык, Садко – очень между собой похоже… И где-то я слышал такое: Садко… Гм, Садко… Где именно, не могу вспомнить.
– Опера есть такая – «Садко», – сказала Людмила Сергеевна.
Она хотела было добавить, чья это опера, но знала, что муж ее, хозяйственник, все равно минут через десять забудет имя композитора, и она, лежа в постели, только морщила страдальчески лоб и смотрела хмуро на блестевшее в соседней комнате, недавно заново отполированное пианино.
Через день Андрей Османыч, явившись с работы и внимательно вслушиваясь в покряхтыванье ребенка, подняв к носу палец, сообщил жене:
– Итак, сделано!.. Записал его в загсе… Появился, мол, на свет новый советский гражданин Садко… Приходи, кума, радоваться…
Андрей Османыч был невысокий, но очень плотный, лет тридцати пяти, бритый и с бритой до синевы круглой, лобастой азиатской головою, с глазами, как спелый терн, и с приплюснутым носом, – он был из Уфы родом, – а Людмила Сергеевна – рослая красивая блондинка, похожая на англичанку, с длинной шеей и покато спадающими плечами.
– Все-таки такого святого – Садко – нет и никогда не было, – отозвалась она мужу, чуть улыбнувшись.
Он провел по ней не спеша взглядом.
– А на черта нам эти святые?
– Все равно конечно, пусть… Пусть он будет Садко, а я буду звать его Сашей…
И, взяв на руки крохотное существо, недавно от нее отделившееся и зажившее своею собственной сложной и непонятной, трудной и волнующей жизнью, она добавила нежно:
– Дитенок мой, дитенок мой крохотный! Ты будешь носить старинное сказочное имя!
Носитель сказочного имени был явно доволен этим: он чмокал губами и пускал приветственные пузыри.
В первые месяцы Садко казался матери (он был у нее первым ребенком) до такой степени безобразным, что она показывала его своим знакомым женщинам только в сумерки и с ужасом ждала, что те всплеснут руками и скажут о нем непосредственно:
– Урод!.. Но ведь это же настоящий урод!.. Разве могут быть такие нормальные дети?..
Однако они ничего страшного не говорили: по их мнению, ребенок был как ребенок. Когда же они узнавали его имя, они восхищались:
– Садко?!. Скажите!.. Садко – гусляр новогородский!.. – и щелкали пальцами перед его пуговкой-носом.
К году Садко выровнялся, очень располнел, заговорил, передвигался по комнатам, держась за все встречные предметы.
Андрей Османыч, наблюдая, как он учится ходить и бывает недоволен, когда ему помогают, говорил с чувством:
– А что?.. Ого!.. Малый далеко пойдет!.. Наркомфин будет… а то нет?.. Товарищ Хачатуров, Садко Андреич!..
Маленький Садко был единственным ребенком в семье и потому становился чем старше, тем деспотичнее. Часто, когда было ему три года, гнал он от себя свою няньку, скромную старушку:
– Уйди! Совсем уйди! Противная!
– Вот ты уж какой богатый стал! Нянька уж тебе не нужна оказалась! – притворно удивлялась старушка и разводила руками.
– Уйди!
– Уйду, когда такое дело…
И уходила. Но один Садко долго оставаться не мог. Минут через пять он уже звал ее, сначала тихо:
– Ня-янь!
Потом погромче:
– Ня-янь-ка!
Наконец во весь голос:
– Ня-я-я-я!..
Тогда появлялась хитрая старушка и как ни в чем не бывало начинала его занимать.
– А вон, посмотри-ка, собачка!.. Ах, какая знаменитая собачка! Сама рыженькая, ушки черненькие, глазки – янтарики!..
Садко тянулся к окну, чтобы посмотреть собачку, но старушка говорила жалостно:
– Ах, досада какая нам! Да ведь взяла, подлая, и убежала!
Но Садко замечал, что она выдумала свою собачку, и, глядя на няньку исподлобья, кивал укоризненно головой.
При нем нельзя было сказать ничего такого необычного, чтобы он не обратил внимания, не заметил и не запомнил. Как-то зашел к ним в гости председатель горхоза, немолодой уже человек, член ВЦИКа, Карасев и сказал Людмиле Сергеевне:
– Да вы меня очень не угощайте, хозяюшка, я все ем без разбора… кроме гвоздей и мыла, конечно…
Тогда из своего угла, где он был занят игрушками, вышел изумленный четырехлетний Садко и – палец во рту – спросил его тихо, но настойчиво:
– И вак-су ешь?
Большую подушку он называл подухой, столовую ложку – логой, отцовскую фуражку – фурагой, тщательно подразделяя все предметы на маленькие и большие.
Говорить он начал речисто, чисто, убедительно и однажды на детской площадке побил девочку одних с собою лет за то только, что она сюсюкала и картавила. Кто-то из ее домашних научил ее читать наизусть старые стишки, и она их вздумала читать на площадке, как дома, – нараспев и враскачку, – так:
Мальсиска сиганенок,
Для всех сюзой лебёнок
Силётка бедный я;
Где есть земля и небо,
Вода и колька хлеба, –
Там едина моя!
Садко послушал-послушал и вдруг серьезно и сердито начал колотить ее по спине кулаками.
Когда его оттащили и спросили, за что он бил девочку, Садко ответил, возмущенно передразнивая:
– Се-лёд-ка бедная!.. Ишь!.. Колька хлеба!.. А не умеешь говорить, так и не суйся!.. Тоже!.. Сюзой лебёнок!..
Сказали об этом Андрею Османычу и просили не пускать сына на площадку в течение недели.
Хачатуров гладил сына по круглой, как у него самого, вместительной голове и говорил жене:
– Ну что? Не волевая натура?.. Вот то-то и есть!
А Садко ворчал:
– На неделю!.. Тоже еще!.. Да я совсем туда больше не пойду!.. Никогда! Совсем! Никогда! Никогда! Никогда!
(Когда он волновался, то повторял одно и то же слово по нескольку раз.)
В пять лет он уже читал, писал крупным, прямым почерком и решал простые задачки.
Раз как-то вздумал спросить отца:
– Папа, а ты знаешь, что случилось, когда… у мальчика было две монеты в две и три копейки, а он одну потерял?
– Что случилось тогда?
– Да.
– Что же тогда могло случиться?.. Плакал он, должно быть, этот мальчик?
– Что ты, папа? В арифметике?.. – удивился Садко. – В арифметике никто никогда не плачет!
Сам же он и вне арифметики старался плакать как можно реже.
Когда будил его отец по утрам:
– Ну-ка, Садык, вставай!
– Не рычи, сделай милость! – отзывался Садко, не открывая глаз.
А когда однажды и отец и мать его ушли на собрание, оставив его на попечение няньки, а к няньке зашла нянька из соседней квартиры и обе старушки заговорились при вечерней лампе на кухне, Садко слушал их, слушал, переводя глаза с одной на другую, наконец покачал головой, вздохнул и сказал задумчиво:
– Сидят, как два чертика, и болтают!.. А моя нянька и забыла совсем, что мне надо ужинать и спать!
Глаза у него были большие, серые, с длинными ресницами, как у матери, нос же не ее, не прямой, а скорее приплюснутый, как у отца, отцовский подбородок, но матерински тонкие губы; и цветом волос, теперь очень светлых, но которые должны были скоро зазолотеть, он вышел в мать.
Людмила Сергеевна, сама очень неплохо игравшая на пианино, стала учить его музыке и поражалась его слуху.
– У него почти аб-со-лютный слух, а ты говоришь: ко-мис-сар!.. Из него не комиссар, из него композитор может выйти! – говорила она восторженно.
– И на кой же черт он тогда будет кому-нибудь нужен? – удивлялся ее восторженности Андрей Османыч.
Но все-таки сам же купил ему балалайку, которую так полюбил Садко, что даже и ночью она висела над его постелью.
Как-то Андрей Османыч был свободен от горхозных дел и, выспавшись после обеда, оказался очень семейно настроен. Он посадил сынишку к себе на колени и спросил его:
– Что же ты, житие своего ангела знаешь?
– Какого ангела?.. Не знаю никаких ангелов!.. Пусти, я сейчас воробья сшибу рогаткой!
Но отец не пустил его, отцу захотелось пожаловаться на свое прошлое.
– Вот ты даже и не знаешь, а кому ты этим обязан? Нам! Это мы все подобное списали со счетов долой… А меня вот заставлял поп учить наизусть, а? Житие моего «ангела» Андрея Первозванного… И сейчас даже помню я, что он «водрузил крест на горах киевских»… Во-дру-зил!.. А? Не понимаешь?.. И я тоже… Говорят: ВСНХ, например, это как сказать? Ни на что, говорят, не похоже… А «водрузил», это на что-нибудь похоже? Погоди-ка, к нам, говорят, летом опера заедет на три спектакля… Вдруг эту самую оперу «Садко» поставят?.. Вот ты и узнаешь житие своего Садко…
– Я и так знаю, – бойко отозвался Садко. – Он был гость новгородский…
– Гость?.. Как это гость?
– Да-а! Богатый купец…
– Нэпман?
Но тут маленький соскользнул с толстых отцовских колен, стал в дальнем углу комнаты, зажав рогатку в левую руку, поднял голову и начал читать сразу в голос:
Сидит у царя водяного Садко
И с думою смотрит печальной,
Как моря пучина над ним высоко
Синеет сквозь терем хрустальный…*
И дочитал всю эту длинную балладу до конца, не сбившись ни в одном слове. Андрей Османыч удивился. Он сказал даже смущенно немного:
– Однако, шельма ты этакий!.. Ты как же так это, а?.. У тебя, оказалось, очень хорошая память, Садык!.. У тебя память, она, пожалуй, даже лучше, чем у меня!.. Гм… вот как!.. Ну-ка, иди сюда, – я тебя поцелую за это!
– Тоже еще!.. Буржуазные предрассудки какие!.. – скривил губы Садко, схватил рогатку и выбежал стрелять воробьев.
Это было в мае, а в июле действительно, как и ждала Людмила Сергеевна, к ним в город приехала опера, и ставили «Садко».
Областной центр, в котором хозяйствовал Хачатуров, по величине, пожалуй, был и не из малых, но благоустроен плохо. Андрей Османыч ставил себе в заслугу, что это он осветил его почти до окраин электричеством. Однако по-прежнему, по-старому, осенью здесь было черноземно-грязно, летом чрезвычайно пыльно, зимою сугробно, и по-старому во время январских морозов мерзли галки и падали комьями в снег. Когда цвела черемуха, на здешней реке был лещовый ход. Тогда на лодках или на узеньких гатях, обнесенных плетнями, здесь и там сидели рыбаки с удочками-лещовками.
Маленький Садко если что и любил в своем городе, то только мартовских жаворонков и майских соловьев; к остальному же относился равнодушно.
Того «почти абсолютного слуха», который был найден у него матерью, Садко не имел, конечно, как не имели его многие весьма известные композиторы, но все, что он видел кругом, он неизменно переводил на язык звуков, и даже когда говорил с отцом, он почему-то старался говорить, прижимая подбородок к шее, чтобы слова выходили густыми, по-бычьи хриплыми, а когда говорил с матерью, как можно выше поднимал голову, чтобы слова выливались звонкими, красивыми, светловолосыми: мать была для него высокий регистр клавишей, отец – низкий.
Садко любил четкую, хотя и неторопливую походку матери и то, как она пристально смотрела на все своими немного близорукими большими глазами. Ее сильные с широкими подушечками пальцы пианистки он любил прикладывать к своим щекам и крутому лбу и просить при этом: – Мама, играй!.. Играй же, мама!..
И когда мать перебирала пальцами, ему казалось совершенно непритворно, что в нем звучат то нежнейшие, в пианиссимо, мелодии, то целые бури, целые ураганы звуков. Так бывало часто зимними вечерами, когда мать сидела около его постели. Это его блаженно утомляло, после этого он засыпал, улыбаясь.
Оперу «Садко» ставили в летнем театре. Как раз перед этим шел проливной дождь, улицы были непроходимо грязны, – едва смогла Людмила Сергеевна добраться со своим маленьким Садко в театр к середине увертюры.
Когда на «почестном пиру» в хоромах «братчины» новгородской появился гусляр Садко, неся перед собой гусли, и покрыл голоса пировавших его звонкий тенор, Людмила Сергеевна шепнула сыну:
– Вот Садко!
– Настоящий?..
Маленький Садко был страшно взволнован тем, что видит Садко настоящего. Он вскочил на свой стул и глядел на него во все глаза, пока не дернули его за рубашку сзади. Он шепнул матери:
– Мама! Правда, он был такой красивый?
Маленький теперешний Садко плохо понимал, о чем на старинном языке пел в своей длиннейшей арии большой, настоящий Садко, – что это за «Ильмень-озеро», что это за «бусы-корабли» или «дружинушка хоробрая», – но раза три он вскрикивал восхищенно:
– Ка-кой голос!.. Вот это голос!..
И забывчиво сжимал изо всех сил пальцы матери, так что даже и она шепнула ему:
– Не волнуйся, побереги пыл!..
Дальше раскрылось Ильмень-озеро, на нем заманчивые морские царевны, и маленький Садко уже не вскрикивал, он только взглядывал иногда на мать и слегка толкал ее, чтобы и она глядела лучше. А когда Садко большой, настоящий, обнял царевну Волхову, Садко маленький прильнул губами повыше локтя к обнаженной до плеча полной и белой руке матери и так сидел, и только когда приподнялся со дна на поверхность озера морской царь, он снова вскочил проворно на стул, чтобы лучше видеть, и прошептал матери на ухо:
– Ого!.. Страшный!
Кучи золота, выловленные Садко большим из озера сетью, очень поразили маленького: он видел золото только в зубах товарища Карасева, – мать же его не носила никаких золотых вещей, и теперь он спросил ее, пораженный:
– Это настоящее?
Но народ на сцене и «настоятели», и «волхвы», и «скоморохи» – так казалось Садко маленькому – только мешали делу, и голоса у них были козлиные.
Корабли на море понравились маленькому, и у него похолодело в сердце, когда остался Садко – хозяин тридцати кораблей – один на доске в море, и потемнело на сцене, и взошел круглый месяц, и под пение царевны Волховы он опустился в морскую глубь.
Как раз в то время, когда представлен был терем морского царя, там, за сценой, над городом, хлынул крупный и частый дождь, может быть и с градом, потому что забарабанил он сразу и оглушающе по тонкой, не забранной потолком крыше театра. Не было слышно ни одного слова из того, что пели морские царевны, которые пряли пряжу и плели венки, но Садко маленький слышал, как говорили кругом него:
– Вот это как раз кстати для подводного царства!
– Как же мы домой дойдем, Саша? – испугалась Людмила Сергеевна, но на сцене Садко, большой, настоящий, спускался на раковине прямо перед морским царем, сидевшим на троне, и гусли были у него в руках.
– Он там! – таинственно сказал матери Саша.
Артисты на сцене старались петь громче, чтобы перекричать дождь, и все поглядывали на крышу, как бы сомневаясь в ее прочности. Морской царь пускал рокочущие басовые ноты, страшно выпучивая глаза, даже Садко не всегда покрывал гул сверху своим звонким тенором, но маленькому Садко казалось, что так именно и нужно. Он понимал, что идет дождь там, наружи, но это ощущение воды сверху, лившейся потоками, оно было необходимо ему сейчас: отовсюду вода, – ведь это – море, – и Садко играет перед морским царем на гуслях и поет… И он доволен: он – жених Волховы-царевны, сейчас будет их свадьба.
Дождь перестал барабанить по крыше как раз в то время, когда начались веселые свадебные песни и пляски. Морской царь, пляшущий со своей Водяницею, – это очень понравилось маленькому Садко: он начал хлопать в ладоши и кричать: «Браво!» Плясали ручейки и речки, плясали золотые рыбки, плясали царевны, и совсем некстати появился какой-то Старчище и выбил из рук Садко гусли.
После четвертого действия многие стали выходить из театра. Не досидела до конца и Людмила Сергеевна, боясь темноты и опасаясь нового дождя. Промочивший ноги на обратном пути и прозябший Садко маленький несколько дней болел лихорадкой, но на своей балалайке он так много вытренькивал из того, что слышал в театре, что Людмила Сергеевна снова, – в который раз, – удивилась его «почти абсолютному» слуху.
В конце июля Андрей Османыч получил отпуск и путевку в дом отдыха на одном из скромных крымских курортов, известном своим пляжем длиною не меньше как в три километра.
– Там море? – спросил отца Садко, замирая.
Андрей Османыч думал ехать один. Людмила Сергеевна должна была остаться дома; да она и не любила Крыма, – с ним связаны у нее были тяжелые воспоминания.
С матерью, конечно, должен был остаться и Садко, но в большом волнении глядел он на собиравшегося отца.
– Там, куда ты едешь, папа, там море?
– Конечно, море, – неосторожно ответил отец. – Ведь я купаться еду…
– Море! – вскрикнул Садко. – Тогда и я!.. Я тоже с тобой!
И он заметался по комнате, бледнея от радости.
– Каков?.. – смеялся отец. – И он тоже!.. Кто же тебя возьмет такого? А?.. Ах, Садык!..
Изумленно, потерянно взглянув на отца, Садко упал на пол. Он рыдал и бился долго, – с трудом его успокоили, и только тем успокоили, что обещали взять в Крым.
– Неп… неп… ременно? – спросил он, вздрагивая.
– Да уж сказано, – сказано!
– Па… па!.. Побо… жись! – потребовал Садко.
– От-куда ты взял «побожись»?.. Кто тебя этому учит?
– Пок… клянись!
– И клясться мне нечего.
– Значит, возьмешь?.. Возьмешь?
– Сказано – возьму.
Садко перестал наконец вздрагивать. Весь еще обрызганный слезами, он поднялся на цыпочки и поцеловал отца в бритую индигово-синюю толстую верхнюю губу.
До Синельникова ехали они с отцом хотя и в жестком, без купе, но плацкартном вагоне. Садко все время висел на открытом окне и смотрел неотрывно на разливное золото цветущих подсолнухов, на початки и метелки кукурузы, на хутора, чуть видные сквозь деревья, на косяки лошадей, на стада белых, как кипень, гусей около тощих речек, – смотрел, пока не попал ему в глаз уголек от паровоза. Андрей Османыч вылизал ему уголек языком и закрыл окошко.
Тогда оказалось, что это их окно все-таки должно быть открыто: так потребовали пассажиры на другой стороне вагона.
– Вот вы свое окно и откройте, – посоветовал им Андрей Османыч.
– С нашей стороны нельзя, – объяснили ему. – Открывать нужно только правые окна по ходу поезда, а у нас левые.
– Хорошо-с… правые… Но почему же, хотел бы я знать, предпочтение такое правым окошкам в нашей левой республике?
– Ага!.. Хорошо сказано! – одобрил отца Садко.
Никто не мог объяснить, и призвали проводника на помощь.
Старичок проводник с совсем прозрачным лицом и детскими плечиками пожевал губами и задумался, глядя на концы своих худых башмаков.
– Дело в следующем, – начал он, не подымая глаз, – поезда встречные не идут с правой стороны… Поезда встречные идут с левой стороны… Вот по этому самому левые окошки, стало быть, закрыты, а правые, стало быть, открыты…
Тут он поднял наконец глаза на Андрея Османыча, и взгляд его был спокоен.
Однако тот отозвался:
– Ничего я, товарищи, не понял, да!.. Встречные поезда остаются встречными, а вопрос с окошками так и остается открытым…
– Зачем же открытым? – возразил старичок. – Открывать что нельзя, то и не полагается… Встречный, например, идет, а вы будете в окошко плевать, кому-нибудь глаза там заплюете…
– Значит, позвольте, чтобы я понял… значит, все дело в том, чтобы пассажиры в окошки не плевали?.. Так вы объявление об этом сделайте и чтобы штраф пять рублей, а окошки пусть открывают как хотят…
– Странное дело! – сказал проводник, опять глядя на свои башмаки. – Объявление сделать… Вот тогда именно все и зачнут в окошки плевать!..
Он пожал детскими плечиками и, не поднимая глаз, пошел по вагону дальше. А пассажиры начали спорить, можно ли доплюнуть из окна вагона на полном ходу в окно встречного поезда.
В Синельниково приехали поздно, в одиннадцать вечера. Тут была страшная суматоха. Поезда на Севастополь шли из Москвы битком набитые, так как было 30-е число, а в конце каждого летнего месяца, как и в середине, разгружаются, как известно, и вновь нагружаются дома отдыха.
– Нак-ка-зание!.. Вторые сутки жду билета, – напрасно! – кричал кто-то худой и растерзанный на весь вокзал и швырял свою кепку о пол.
– Ну, Садко, тут нам, кажется, труба будет! – И покрутил головой Андрей Османыч.
– Труба?
Садко оглядел всю тысячу народа кругом в смутном свете немногих электрических лампочек, и от мелькания, и от криков, и от духоты тяжело стало у него в голове и лоб сделался потный и легкий… Он проговорил только:
– Если труба, то я лучше усну…
И тут же заснул, свернувшись клубком на своей багажной корзине.
А Андрей Османыч еще часа два метался от одного носильщика к другому, от одной длиннейшей очереди у билетной кассы к другой, пока не добыл наконец билета в какой-то добавочный поезд, отходивший в два часа ночи.
Но что это был за поезд!.. Счастливцы с плацкартными билетами кинулись к вагонам, как на приступ, едва не оторвали голову Садко, которого отец поднял на руки, чтобы его не задавили. В вагоны же набились так, что внизу можно было только стоять.
И от яростного крика, от оскаленных зубов кругом Садко, тихонько хныкавший было от боли в шее, изумленно затих. Но над собою, в самом верху, на багажной полке, увидал он лютое сцепление двух каких-то парней, всклокоченное, клацающее, сверкающее, хрипящее: «Я тебе вот сделаю браслеты так браслеты!..» Это каждому из них хотелось спать там вверху, на узкой багажной полке, и они пытались спихнуть один другого вниз.
Садко представил, что они падают на него оба и раздавливают его, как мокрицу. Яркости этого представления он не вынес, сунул голову за спину отца и закрыл глаза.
Утром, – по-летнему рассвело рано, – когда осмотрелся Садко, оказались в вагоне какие-то странные люди: к нескольким из них во время пути обращался с тем или иным вопросом Андрей Османыч, но они подымали плечи, подымали брови, округляли карие глаза и то совсем ничего не отвечали, то бросали односложное, но, должно быть, многозначащее: – А вже ж!
Это были украинцы из Полтавщины, Черниговщины, Киевщины – учителя и студенты. Садко разглядывал их со страхом: он раньше думал, что если говорить с кем бы то ни было по-русски, то всякий должен понять.
Так было тесно и тошно в этом вагоне, что, когда поезд добрался наконец часам к двенадцати дня до Симферополя, Андрей Османыч, видя томления Садко, решил выйти здесь и дальше ехать в автомобиле, хотя билет он взял до Севастополя.
Когда замелькали по сторонам новенького еще «фиата» дома большого южного города, Садко ожил. Но дальше пошла вся распаханная холмистая крымская степь и засинела над нею вдали твердыня Чатыр-Дага.
– Это там такая гора? – показал на нее Садко. – Гора! Ого! Гора!
Потом гора эта стала все ближе, все громадней, все лесистей, и целый час легковая машина все только приближалась к этой горе, взбиралась на один из ее отрогов, спускалась с него вниз, а гора все время меняла рисунок своих красноватых, голубых и лиловых скал, и, – странно, – Садко ощущал все это – новое и чудесное – как музыку в опере.
Когда же белое шоссе стало бешеными извивами падать вниз, и другая гора – Демерджи – фантастикой самых нежных, но в то же время и плотных, непередаваемых тонов ушла в небо с левой стороны дороги, Андрей Османыч взял за голову Садко и толстым пальцем перед самым его носом показал вниз:
– Видишь?
– Что вижу? – не понял Садко.
– Видишь вон там… в самом низу… как молоко…
– Ну-у?
– Это море.
– Море? Как? Море?
И вот больше уж как будто не стало гор ни справа, ни слева, ни сзади, а весь Садко, сколько его было, впился глазами в это огромное внизу, сначала молочно-синеватое, потом темнее, синее, голубее, потом уже блеснувшее на солнце вдруг полосою там и вон там и еще далеко где-то…
Машина равномерно трещала мотором; шофер кричал встречным тяжелым дилижансам троечников: – Права держись! – и проскакивал мимо них, едва не задевая за колеса; Андрей Османыч говорил с соседом-железнодорожником о порядках в домах отдыха, а Садко только окидывал глазами все это открывшееся наконец живое, настоящее море и беззвучно шевелил губами.
В маленьком городке, где должны они были прожить весь август, море было уж вот оно: плескалось у набережной, облизывая огромные камни, зеленело вблизи, сверкало миллионом стекляшек… Садко чувствовал, что оно тоже радо… Да, это он ощущал всем телом, хотя и не сказал, и ни за что бы не сказал отцу, – что оно тоже и несомненно радо, что вот к нему приехал наконец Садко. Куда бы ни поглядел он, было ясно: оно его ожидало и оно радо теперь.
Зачем нужно было ехать его отцу к Карасеву, тоже отдыхавшему теперь в Суук-Су, в доме отдыха членов ВЦИК, Садко не знал, но, оставив вещи свои пока в конторе артели шоферов, отец усадил его снова в ту же машину, на которой они приехали, и вот опять белое шоссе и горы все время справа, а слева море, и Садко то и дело шептал отцу:
– Гляди!.. Ка-ко-е синее!.. Ну, это же кра-со-та!
Карасев, щуплый человек с очень близко к носу посаженными птичьими глазами и острым носом, был на веранде роскошного дома-дворца. Он играл в шахматы с молчаливым задумчивым лысым толстяком и уж кончал партию, поставив в плачевное положение короля противника, поэтому он встретил Андрея Османыча весело и даже попытался поднять за локти Садко.
Толстяк сдался и ушел в сад, а Карасев говорил оживленно:
– Каково, товарищ Хачатуров!.. Посмотри-ка на лепку внутри, – ведь это стиль мавританиш! Совсем недурно для бывшей владелицы Соловьевой!.. Чудесная с ней история, – ты не знаешь, конечно… Судомойкой была на волжском пароходе, – так мне говорили, – и поймала там где-то инженера Березовского, строителя сибирской магистрали… У того от этой магистрали завелись миллионы, а попали эти миллионы к ней, к судомойке!.. Вот история!.. Красавица, говорят, была… брюнетка, высокого роста… Теперь в Париже и, кажется, уж на том свете, а не в Париже… Так вот это она все на сибирско-дорожные миллионы!.. Неплохо, а? Ведь несколько еще большущих домов, кроме этого… и парк… и пристань своя была… А до нее пустое место, говорят, было… Вот тебе и пролетарка-строительница! Говорить не умела!.. «Мой, говорила, сын поехал за границу с научной точки зрения»… А слово «почайпила» у нее было любимое: «Я, говорила, уж почайпила…»
Лепные по-восточному выступы стен и потолки, облитые цветной глазурью, легкие колонны, вся эта ажурность, делавшая картонно-легким огромный дворец, поразили Садко, но было тут еще и такое, что его приковало: большая фреска у входа в зал: то самое подводное царство, которое видел он в своем городе в опере.
В другом дворце, хрустальном, у морского царя в гостях, сидел настоящий Садко, богатый купец новгородский. Гусляр и певец, он сидел перед гуслями и перебирал струны… Красный охабень, желтые сафьянные сапоги, русые волосы в кружок, молодая русая бородка, и задор в серых глазах… Садко!.. Настоящий!.. И седой, кудлатый, с длинными усами, весь зеленоватый и с рыбьей чешуей на ногах, напружинясь и руки в боки, сбычив голову, стоит перед ним морской царь… А кругом него – красавицы-дочери с рыбьими хвостами… И разноцветные раковины сверкают за хрустальными стенами дворца, и морские коньки прильнули к ним, любопытствуя, и огромная белуга, подплывши, воззрилась на гусляра с земли.
Внизу было написано славянской вязью: «Ударил Садко по струнам трепака, а царь, ухмыляясь, уперся в бока, готовится, дрыгая, в пляску…»*
– На что ты, малец, загляделся? – несколько даже обиделся Карасев, что так невнимателен Садко к его рассказу.
– Это? Не стоит смотреть! Пойди лучше парк погляди… Тут, конечно, хорошие картины когда-то были, да их вывезли, а плохая копия с Репина осталась…
Но Садко уже трудно было оторвать. Он вытянул вперед руки, как тот, настоящий, и шевелил пальцами, перебирая струны тех гусель, которые представлялись только ему. Он отбивал такт ногою. Щеки его побледнели, брови нахмурились, глаза сияли…
Мимо него прошли два казаха, товарищи из Казахстана – в теплых малахаях, потом какая-то ржановолосая, с одутловатым, опаленным солнцем, шелушащимся лицом, протащила за руку визгливого ребенка лет четырех, и ребенок зацепился голой ножонкой за выбоину мозаичного пола, упал и залился звонким плачем; проходили и другие, но Садко не замечал их, и Андрею Османычу нужно было взять его за руку, чтобы увести в парк.
Наконец-то!.. Маленький Садко стоит по колени в море!.. Они с отцом поздно пришли на пляж: он был уже густо забит телами, лежащими вповалку. Как много было среди них совсем коричневых!
– Ого!.. Малайцы! – возбужденно говорил Садко.
Какие дюжие спины, какие плотные животы были подставлены под работу солнца, и солнце – усердный живописец – исподволь покрывало их сепийным колером. Многие смазывались ореховым маслом, чтобы скорее и прочней загореть. Самыми модными здесь, на пляже, были бы кафры.
Садко морщил нос, проходя мимо этих спин и животов, и говорил снисходительно:
– Фи-гу-у-ры!
В его глаза только краешком, и то потому, что ведь проходить надо мимо, попадают все эти голые ляжки, желтые, как репы, пятки, обвисающие полупустыми мешками женские груди (пляж тут был общий), однообразные – черные или красные – купальные костюмы, эти чрезмерно толстые в икрах ноги без щиколоток, вонзившихся в разноцветную гальку… Только брезгливая косина загоревшихся серых глаз Садко бросалась сюда, на переполненный пляж, а вся круглота их, вся трепетность, весь жадный охват – туда, на голубое, на огромное, на такое ни с чем не сравнимое, на первое в жизни и уже родное море…
И многие из лежавших на пляже в это утро отметили странного мальчика с балалайкой в руке.
Да, он захватил сюда свою балалайку, зачем, – этого не понимал Андрей Османыч. Он, Садко, со своими гуслями пришел к своему морю, совсем не желая, чтобы какие-то бессчетные фигуры, малайцы, усеяли весь берег.
Он даже бормотал иногда, взглядывая на отца недовольно:
– Зачем они?.. Не надо их!.. Зачем?
– Иди, иди знай! – так же недовольно косился на него отец и тянул его за руку.
Он знал, куда тянул Садко; он говорил:
– Вон свободный клочок, видишь? Там и сядем.
Подошли к этому клочку пляжа. Огляделся кругом Андрей Османыч, отдышался, помахал себе в открытую грудь белой кепкой, сказал:
– Очень хорошо!.. И какой штиль!.. Это, когда море тихое, штиль называется… Штиль!
– Я знаю, – отозвался Садко, – не трудись, пожалуйста!
– Знаешь?.. Гм… Откуда же ты знаешь?.. Ну, садись, отдохнем…
– Купаться!
– Отдохнем сначала, нельзя сразу.
Грузно сел на песок отец, – остался стоять Садко.
Он и не стоял даже, – это только так казалось кому-нибудь около, что стоит тонкий маленький мальчик с детской балалайкой в руках, в серенькой тюбетейке, в розовой рубашке, в очень коротких синих штанишках и глядит на море… А Садко не стоял совсем, – он летал над морем…
Ленивый двухмачтовый баркас-парусник маячил у горизонта, – он заглянул в него и дальше… Буксирный пароходик трудолюбиво тащил длинную, низко сидящую баржу, попарил над ним, и – дальше… А дальше было одно только голубое и без конца… Дальше было только оно все, – море. Налево – в него уходили чуть розовые горы, и даже не поймешь, горы это или так, облака; направо – одна близкая гора, похожая на чудовище, которое пьет; а около ног плещется чуть-чуть и шепчет: шу-шу-шу, и белая зыбкая каемочка по всему пляжу.
Близко от берега два камня в воде; они почему-то с белыми верхушками.
– Почему, папа, они белые?
– Белые?.. Гм… Это, видишь ли, скорее всего от соли… В морской воде ведь соль… Раздевайся!
Но подальше от этих камней, вправо, там не камни уж, а целые скалы на берегу, и они пурпурно-лиловые с черными трещинами.
– А те вот не белые, смотри! – показывает на них Садко. – Значит, там, в морской воде, нет уже соли?
– Там?
Андрей Османыч очень внимательно рассматривает эти скалы, думает, вздыхает, чешет грудь и отвечает кротко:
– Там фотограф… Видишь вон фотографа?.. Аппарат черным накрыт, – видишь?
– Зачем он? – скучно спрашивает Садко.
– Фотограф?.. Он всегда затем, чтобы снимать… И тут и везде…
– Что снимать? Мо-ре?
– Море ему за это не заплатит… Людей, конечно… Вот и мы с тобой можем сняться…
– Глупости какие!.. Я совсем не хочу…
И сердито отводит Садко глаза от этих скал на море влево.
– А вон, посмотри, комсомольцы подошли сниматься, – кивает отец.
Садко чуть скашивает глаза и видит – двое в купальных костюмах, – юноша в полосатых трусах, девушка в темном, должно быть, синем, но потемневшем купальнике. Они лихо вскарабкались на скалу, и юноша стоит себе прямо и грудь вперед, – физкультурник, – а девушка закатывает свой купальный костюм, чтобы как можно больше показать сильные ноги, тоже, должно быть, физкультурница… И так хохочет при этом, что слышно на целый пляж, так что даже и Андрей Османыч фыркнул:
– Ничего, недурной голосок у девчонки! – и тут же размашисто снял рубаху.
Фотограф, повозившись около своего треножника, должно быть, щелкнул уже и сделал им двоим на пурпуровой скале разрешающий жест, потому что физкультурник вдруг поднял физкультурницу и бросил ее в море (так что тихо ахнул Садко), а следом за нею бросился сам, и вот уж, плывя один за другим вразмашку, обогнули они скалу и, выбравшись на берег, стали бросать друг в друга пригоршни гальки.
– Что ж, недурной номер, – сказал, глядя на них, отец.
– Давай и мы будем купаться, – не глядя на него, отозвался Садко и положил на песок тюбетейку и балалайку.
И вот он по колени в воде…
У него странное теперь лицо, очень побледневшее почему-то, а зрачки глаз стали заметно больше.
Он смотрит в воду, где ноги его как будто сломаны волной, а под ногами разноцветная галька. Воды он не чувствует совсем, воду здесь у берега щедро нагрело лечебное солнце, и пахнет от нее вишневкой.
– Ну, давай буду учить тебя плавать, – говорит отец. – Ложись-ка мне на руки!
И руки, и грудь, и спина отца густо покрыты темными волосами, чего раньше не замечал Садко. Это его поражает, и он вскрикивает брезгливо:
– Ты – обезьяна, папа!
– Ты тоже, – отзывается отец. – Ну-ка, ложись и болтай ногами!
Садко хочет плыть так же, как плыли те двое около скалы. Он ложится, болтает ногами и отфыркивает воду, которая сама почему-то так и льется и стремится попасть ему в рот.
– Не глотай!
– Я не… глотаю… А это что?
– Это?.. Так, черт знает что… Жир какой-то рыбий…
И Андрей Османыч одной рукой держит сына, а другой загребает и отбрасывает наплывшую медузу, добавляя при этом:
– Видишь, гадость какая тут плавает… Вот почему тебе и говорят: болтай ногами, а воды не глотай!
Но медуза наплывает снова, а за нею еще две побольше и поплотнее.
– Вы смотрите, они могут мальчика укусить! – матерински вмешивается в разговор отца с сыном неимоверно толстая женщина, чуть приподняв черноволосую голову и поведя выпуклым глазом (другой был прищурен).
– Вот видишь, Садык, оказалось, кусаются… Поэтому, значит, они живые… Давай их отгоним дальше!
И отец вместе с сыном начали плескать в медуз водою.
Однако Садко не испугался их; он даже фыркнул насмешливо:
– Уку-си-ить!.. Где же у них зубы?
Спереди было море, сзади лежали на простынях люди, и море казалось Садко гораздо роднее, и он начал наконец смеяться нервически:
– Уку-сить!.. Хи-хи-хи… Уку-си-ить!..
И делал руками такие же бравые движения и так же выпячивал грудь, как тот физкультурник на яркой скале.
Найдя, что купаться достаточно, Андрей Османыч лег на простыню так же, как лежали другие, ничком, подставив спину под сепийную кисть солнца, и сказал сыну:
– Гм… Замечательно, как действует купанье морское: очень хочется спать…
Садко поглядел на него с ужасом:
– Как спать?.. Те-перь спать?
На море же смотрел он так пристально, с такою любовью… Он даже руки распял так широко, как только мог… Он прошептал почти беззвучно: «Море!.. Море!..» Внизу, там, в нем, в этом голубом, – хрустальный дворец морского царя… У дочерей его (они, как та физкультурница) рыбьи хвосты…
Когда знакомо заливисто захрапел отец, Садко весь насторожился, заерзал по песку глазами и вдруг счастливо нашел, что ему представилось как совершенно необходимое: кусок бечевки от какого-то фунтика, здесь же и брошенного кем-то.
Спеша и оглядываясь на спящего отца, Садко привязал бечевку к одному из колков балалайки и потом сделал широкую петлю. В петлю просунул голову, и балалайка оказалась у него за плечами. Потом он надел штанишки и тюбетейку; рубашку подержал было в руках, но бросил.
Отец храпел, как дома. Очень толстая женщина тоже лежала с закрытыми глазами. Садко осторожно отошел и потом, все ускоряя шаг, то перескакивая через ноги лежащих, то обходя их, двинулся к пурпуровой скале.
Когда подошел он, на него очень участливо поглядел фотограф, загорелый черный мужчина с кривым на левый бок носом, но, встретясь с ним глазами, Садко тут же отвел свои.
Те молодые физкультурники теперь лежали рядышком, прижавшись друг к другу; он читал вслух какую-то книжку в красной обложке, она слушала, закинув голые ноги одна за другую и шевеля в них большими пальцами. Мимо них Садко прошел горделиво. На них он раза два потом оглянулся украдкой. Подойдя к скале, он сразу отметил, за какие выступы нужно хвататься руками и в какие трещины ставить ноги, чтобы взобраться наверх. И он взобрался, как ящерица. Он сбил себе об острое ребро камня колено, он почти вывихнул палец на левой руке, но, взобравшись, только потянул его раза два, только чуть глянул на колено и тут же забыл о нем…
Дело было уже сделано наполовину и так удачно. Удача его окрылила, удача его преобразила… Очарованный, окончательно отъединенный от всех-всех людей здесь, на берегу, и даже от своего отца, который может тут спать и который весь покрыт шерстью, как обезьяна, Садко снял с шеи свою балалайку, вытянул ее вперед в обеих руках, глотнул глазами в последний раз этого неистово-голубого, крикнул: «Морской ца-арь!» – и сорвался со скалы в воду.
Это видели кривоносый фотограф и физкультурники, читавшие книжку в красной обложке.
Когда физкультурники, бросив книжку и поглядев друг на друга изумленными глазами, без слов вскочили и вбежали в море, Садко, ошеломленный падением, ушибший об воду бок и сразу выпустивший из рук балалайку, тонул.
Окунувшись с головою, он тут же вынырнул было и с полминуты болтал ногами, как только что учил его отец, но оседал все глубже, и только рот его, широко открытый, и маленькие пальцы руки разглядела физкультурница, подплывая, но тут же и они исчезли.
Однако вода тут была прозрачная и не так глубока. Нырнули оба с двух сторон и вытащили мальчика за синие штанишки. Балалайка же его и тюбетейка так и остались плавать.
Садко лежал безжизненно на песке, и ему то разводили, то сводили руки. Набежало много любопытных, и фотограф, наблюдая одним глазом за своим аппаратом, как бы его не опрокинули, а другим шаря по толпе, горячо говорил:
– Я явственно слышал: Морской царь! Явственно!.. Крикнул только: – Морской царь! – и в море!
– Слово «царь» и я слышала, – сказала физкультурница.
А какой-то лысый и бородатый, тщательно закутанный в купальную простыню, спрашивал настойчиво:
– Ну, хорошо! Пусть себе «морской царь», но самоубийство он, что ли, устроил? Или как?
Фотограф убедился, что его аппарату опасность не угрожает, и тот глаз, который наблюдал за ним, сделал нестерпимо понимающим и ответил, подмигнув другим глазом:
– Ну, а что же вы себе думаете? А-а?.. Разве же подобного не бывает?
Но тут же мелькнула у него мысль истратить пластинку на этот не частый ведь тоже мотив: утонувший мальчик и около него голая толпа. Конечно, недавно снимавшиеся физкультурники-спасатели должны же будут купить у него и этот снимок на память; и, шлепнув себя по лбу за то, что не догадался этого сделать раньше, он бросился к аппарату.
А в это время спешил сюда, увязая в сыпучей гальке и натягивая зачем-то на бегу рубаху, Андрей Османыч, и круглое, красное, заспанное лицо его было испуганно-горестным, почти плачущим.
Весь пляж, дремавший под щедрым солнцем и делавший это как обязательную работу, теперь просыпался, и подымались встревоженные головы с простынь и протирались глаза, чтобы разглядеть что-нибудь, кроме голубизны ярчайшей.
Дня через три, когда окончательно пришел в себя Садко, вечером он сидел с отцом в маленьком скверике около дома отдыха, где теперь очень навязчиво пахло левкоями с круглой высокой клумбы.
Они были одни, так как кино рядом оттянуло всю публику.
Андрей Османыч положил сыну левую руку на голову, а правой охватил его тоненькую ручонку чуть повыше кисти: так, ему сказал кто-то, производится обыкновенно внушение. И, подумавши про себя настойчиво несколько раз: «Скажи по правде!.. Скажи по правде!», он спросил его:
– Ну, Садык, скажи же по правде, ты зачем это отмочил такую штуку?
Он уже не однажды задавал ему этот вопрос раньше, но Садко упорно молчал. Теперь же, было ли это потому, что сильно пахли левкои, или потому, что никого не было кругом, Садко оживился вдруг и заерзал на месте.
– Сказать?
– Скажи! – И еще скорее зашептал про себя Андрей Османыч свое заклинание.
– Мне… мне тогда очень скучно стало… вот!
– Так… скучно… без мамы… И потому ты… что же?
– Ничего… Хотел уплыть…
– К морскому царю, да?.. Который полная ерунда и сочинение?
На это Садко не ответил. Его сандалии, попеременно то левая, то правая, усиленно чертили песок дорожки с быстротою все возрастающей.
И так как в это время в зале дома отдыха кто-то, подсев к роялю, роялю, правда, с глуховатым звуком, но нерасстроенному, бодро и умело начал играть очень знакомую Садко в исполнении его матери сонату Лангера, то мальчик вскочил вдруг и стал дергать отца за рукав рубахи:
– Пойдем! Пойдем туда!.. Кто это?
– Зачем тебе это?
– Это наверно мама! Это мама приехала!
– Откуда же мама? Разве я ей телеграфировал?.. И не подумал!
– Это мама играет! – вскрикнул Садко.
– Чу-да-ак!.. Как будто только одна твоя мама и умеет играть, а больше никто!.. Сиди, сиди… А слушать и отсюда можно… Ты мне ответь только еще на один вопрос…
И Андрей Османыч опять захватил было руку сынишки правой рукою, а левую протягивал к его голове, но Садко вывернулся, вырвался… Он кричал уже, готовый зарыдать:
– Я только посмотрю пойду, кто играет… Я только… только… – и кинулся к лестнице дома.
Хачатуров поднялся, кряхтя, и пошел за ним, говоря и недовольно и растроганно даже, пожалуй:
– Нет, это уж черт знает, Садык!.. Придется мне самому как следует за тебя взяться!.. Из тебя действительно, должно быть, какой-нибудь… музыкантишка вылупиться хочет!.. Нет, не позволю!..
А из открытых окон зала звучало четкое, знакомое даже и ему, allegro apassionato – лейтмотив сонаты Лангера.
Сентябрь 1930 г.
Крым, Алушта.
Счастливица*
Началось с тринадцатого места за общим столом.
Как-то странно даже было слышать в свободной от предрассудков Советской стране, да еще в доме отдыха, столь решительно высказанное нежелание сидеть на тринадцатом месте, но такое именно нежелание было высказано глухим сиповатым монотонно-жужжащим басом, и многие, приехавшие сюда в тот день, отметили эту высокую, прямую, большелобую, скуластую старуху, белоглазую, в кружевном чепчике и ковровой шали.
Она насупливала безволосые брови и жужжала, как шмель:
– Что же я в домах отдыха, что ли, никогда не живала?.. Каждый год то в том, то в другом живу… Только уж, разумеется, на тринадцатом месте никогда я не сидела и сидеть не хочу…
Заведующая домом отдыха, низенькая старушка, в белом халате, в больших круглых очках, только что указавшая новоприбывшей это страшное место, снисходительно улыбнулась и сказала:
– Ну что же, другой кто-нибудь тут сядет, а вы в таком случае вот здесь, рядом…
И на тринадцатое место, весело щурясь, сел красноватый, седобородый, лысый доктор одной из московских больниц – Вознесенский Семен Иваныч. Он весьма шаловливо для своего возраста поглядел на высокую старуху, подмигнул низенькой старушке и пошутил:
– Авось и на тринадцатом месте глупцами не подавлюсь.
Дело в том, что он уже успел прочитать в писанном карандашом на клочке бумажки – должно быть, одною из подавальщиц – меню обеда, что на второе блюдо были «глупцы» – не «голубцы», а именно «глупцы», – и это привело его в веселое настроение. Впрочем, глаза его с несколько по-монгольски поднятыми углами всегда улыбались.
Высокая же старуха села с ним рядом на двенадцатое место и очень внимательно начала разглядывать всех, кто пришелся с нею за одним столом.
Прямо против нее сидела небольшая хрупкая женщина лет под сорок с необыкновенно усталым, истощенным лицом, на котором очень кроткие карие глаза были в желто-розово-лиловых обводах, а подбородок жался острым копьем. Это было какое-то почти отсутствующее, почти только мыслимое лицо, на котором, кроме извилистых морщин, совершенно преждевременных на вид, трудно было что-нибудь разглядеть.
Поднеся бумажку-меню непосредственно к самым глазам, оказавшимся сильно близорукими, она говорила вполголоса, ни к кому не обращаясь:
– На сладкое профитроль… Странное слово «профитроль»… Считается, что я знаю три языка иностранных, но такого слова я все-таки не помню. Profit, profiter, profitable…[1], а профитроль что такое?
Так как она в это время смотрела на доктора, тот подхватил оживленно:
– Очевидно, что-нибудь очень полезное для нашего с вами здоровья… Но, зная три языка, где же все-таки вы работаете?
– В библиографическом институте… в отделе иностранной литературы…
– А фамилия ваша?
– Ландышева.
– Вот как? – Доктор сделал свое подвижное, способное к разнообразным гримасам лицо очень смешным, – не насмешливым, а именно смешным, подкивнул как-то игриво бородкой и сказал ей, нарочито понизив голос:
– Никак не мог ожидать, чтобы особа, знающая три языка, оказалась из духовного звания!
– Я… я? – покраснела вдруг Ландышева.
– Пустяки, что же тут такого и зачем краснеть!.. Я сам из духовного звания, потому что Вознесенский… Есть такое предание о древнем московском академическом начальстве, как оно перекрещивало бурсаков… Кто был тихого поведения и громких успехов, тот, видите ли, получал фамилию от праздников, – например, Рождественский, Богоявленский, Успенский, Троицкий или Вознесенский, как я… Горжусь своим неведомым предком: был он высокой марки… Хорошо, должно быть, знал философию Николая Кузанского… Кто был тихого поведения и тихих успехов, – этим скромникам, в тиши процветавшим, давали фамилию от цветов… Вот тогда-то и пошли все Розовы, Туберозовы, Гиацинтовы, Фиалковы, а также Ла-нды-ше-вы… Да, да, да… Но были еще и такие, что успехов-то тихих, а зато поведения громкого, – эти получали прозвище от язычества: Аполлонов, Посейдонов, Архитриклинов, Илионский, Амфитеатров и прочее и прочее… Так говорит семинарское предание…
– Хотя я и Ландышева, но отец мой все-таки не из духовенства, – начала было Ландышева, но доктор шепнул ей через стол все так же неудержимо весело:
– Рекомендую согласиться на какого-нибудь попика, а то вы еще генерала откопаете… От вас дождешься… – и так предостерегающе смотрел при этом и так таинственно поджал губы, что, глядя на него, все расхохотались, и даже сама Ландышева улыбнулась, отчего морщин у нее сделалось вдвое больше.
Столы для обедающих были расставлены на открытой веранде, так как сентябрь обещал еще теплое и тихое начало: в полном цвету стояли георгины на клумбах и махровые бегонии ярких цветов, и синяя лобелия, и бальзамины, а на волошском орехе, несколько неожиданном под Москвою, не было видно еще ни одного желтого листа.
Кроме Ландышевой, за одним столом со старухой и доктором сидела плечистая, грудастая молодая женщина с правильным задорным лицом, с подрезанной надо лбом гривкой, как потом оказалось – инструктор гребного спорта Долгополова; два юных аспиранта: один – биолог, другой – обществовед, оба бывшие рабфаковцы – Костюков и Пронин; инженер-строитель Шилин, заработавшийся до большой усталости, желтолицый, бритый, морщинистый, немолодой уже человек с очень близко к длинному носу посаженными беспокойными глазами; геолог Шорников, человек лет тридцати двух, с выдающимися надбровными дугами и мощной нижней челюстью, который не так давно в скромной по внешности брошюрке ниспроверг все авторитеты своей науки, был вполне убежден, что все кругом непременно и хорошо знали основные мысли его труда, и хранил теперь за столом заслуженно гордое молчание; библиотечная работница Алянчикова, женщина плотная, рыжая, с небольшим ноздреватым носом, круглоликая, размашистых движений и резкого голоса, которая с первых же слов заявила о себе торжественно: «Я – зырянка!» Наконец, загорелый угреватый человек, по фамилии Чапчакчи, носатый, с откинутым черепом, с набрякшими веками рачьих глаз, – ученый табаковод, кавказец. Он сидел рядом с Долгополовой и в промежутке между первым и вторым блюдом спрятал в свою салфетку спичку и предложил инструктору гребли ее нащупать и переломить. Та переломила. Он безмолвно раскрыл салфетку – спичка оказалась целехонька.
Подавальщицы в серых фартуках разносили блюда. Эти подавальщицы были точно выполнены где-то по особому заказу заведующей, строгой старушки в очках, похожей на начальниц довоенных гимназий: все маленькие, все кругленькие, крутощекие, пышащие здоровьем, явно не способные ни болеть, ни тосковать, ни плакать, ни утомляться. Нагибаться к обедающим им было не нужно, поэтому ничего разлить они не могли.
Доктор внимательно их разглядывал поочередно, ероша седую бороду, наконец подмигнул старухе:
– Де-мон-стративного вида здесь подавальщицы!.. Потому-то у всех отдыхающих такой аппетит прекрасный.
Аппетит действительно был неутолимый: особенно много ели аспиранты. Они, прикашлянув, спрашивали вполголоса у подавальщицы:
– А сколько можно взять?
– Сколько хотите, – улыбалась подавальщица.
Аспиранты многозначительно крякали, толкали один другого и накладывали на свои тарелки столько, что едва не капало на скатерть.
Профитроль, так смутивший Ландышеву своей непостижимостью, оказался обыкновенным сливочным кремом с погруженными в нем печеньицами формы птичьих головок.
– Вот видите, что это за штука, – крутнул головой в сторону Ландышевой доктор. – Штука, конечно, невредная, ясно… Повар прав.
Он ожидал, что Ландышева отзовется на это чем-нибудь веселым, но она глянула на него робко. Она имела совсем заморенный вид и даже не улыбалась: обед ее окончательно утомил.
– Займите себе лежанку на солнце и спите два часа до чаю… и так делайте каждый день, – обычно докторским тоном приказал ей Вознесенский и обернулся к старухе, чтобы сказать ей что-то шутливое, но лицо старухи с большим желтым лбом и круглыми жесткими скулами было недоступно никакой шутке. Она рассматривала и его, как всех кругом, очень внимательно, но нельзя сказать, чтобы дружелюбно, хотя и не совсем безучастно, как иногда смотрят долго живущие.
Действуя неторопливо, но споро, она исправно жевала даже и довольно жилистое мясо, данное на второе тоже под каким-то французско-кулинарным названием: вставные челюсти ее действовали хорошо. Из-за стола, покончив с профитролем, она встала даже раньше Алянчиковой и Чапчакчи, который, впрочем, задержался только благодаря тому, что показывал еще какой-то фокус.
После обеда, в мертвые часы, тут было принято спать под деревьями на дубовых решетчатых лежанках, но старуха, прижав к подбородку свою ковровую шаль, обошла на прямых ногах посыпанные желтым песком аллеи парка, где ели, сосны и березы вытягивались одинаково прямые, ровные, высокие, где между ними кустились черемуха, бузина, бересклет, бирючина, а подо мхом и папоротником гнездились сыроежки, маслята, подгрузди.
Старуха сорвала несколько штук грибов, но, не зная, куда девать их, положила кверху ножками на одну из скамеек около затянутого хвощом и кувшинками озерца, посреди которого был островок с самыми разномастными деревьями – от пихты до дуба и орешника, на верхушке которого сидел молодой с яркой восковицей подорлик. Островок был неприступен, – мостика к нему не было, по краям густо зарос чилигой, а в озерце, как раз на его середине, где вода была чиста от водорослей, столпились плотной стаей небольшие голавлики, или красноперки. Они не двигались, вода была сильно нагрета солнцем, – они стояли и грелись… Ими долго любовалась старуха. Также любовалась она потом и бойкой речкой в двадцати шагах от озерца, по которой плыли – это было заметно – с немалой скоростью сухие камышинки и желтые ветловые листья, плыли туда, где из-за темных ольх вздымалась красная труба ниточной фабрики.
Влево от старухи виднелась серая деревянная лестница в несколько ступеней, ведущая к широкому помосту – пристани; там около лодок возились аспиранты, выкачивали из них воду жестянками от консервов. Лодки были веселого жаркого красного цвета, но старуха хозяйственно думала, что нужно бы их починить, чтобы они не текли, кататься же в какой-нибудь из них по этой речке ей не хотелось. Все деревья другого берега: и ольха, и откуда-то взявшийся молодой вяз, и раскидистая старая желтокорая сосна с облезлой, скупой на иглы макушкой – все они очень прилежно были разрисованы в воде, даже ярче они там казались. Старуха не видела этого целый год – зеленых лугов, речки и таких ярких деревьев в воде, она стояла внимательная и важно-неподвижная, когда сзади ее раздался насмешливый и по-стариковски хриповатый, знакомый уже ей по сегодняшнему обеду голос:
– Так вы решительно не хотите сидеть на тринадцатом месте за столом жизни?
Доктор Вознесенский стоял от нее в нескольких шагах. Он уже переоделся из стеснительного черного пиджака в просторную белую длинную толстовку… Весь он был теперь белый: и рубаха, и брюки, и борода, и белые веселые глазки в припухших веках.
– А кто же меня может заставить? – несколько даже вызывающе и совсем не на вопрос ответила старуха, только скользнув взглядом по докторской лысине и снова отвернувшись к реке.
– Гм… Предположим даже, что это место грозило бы вам смертью, – еще веселее стал доктор, подступая к ней ближе. – Мне кажется, что мы с вами должны уже смело глядеть в глаза смерти… Вам сколько лет, если не секрет это?
Высокая старуха не посмотрела на него и теперь, но ответила, помолчав немного:
– Мне в июле исполнилось семьдесят пять.
Была даже как будто какая-то кокетливость в тоне, каким она это сказала, и в том, как костлявой, желтой рукой поправила она при этом свою ковровую шаль у прямоугольно обрезанного подбородка.
– Лета-a, конечно, вполне почтенные, да-а… – протянул доктор. – Мне до ваших лет жить еще долго – целых трина-дцать лет!.. Да, вот опять тоже тринадцать – зловещее число!..
– Вы до моих лет и не доживете, – сказала старуха уверенно.
– Долго это, да, – быстро согласился доктор. – Ни в коем случае не доживу… Пройдемся дальше, что же вы так упорно стали на одном месте!
– Как это упорно? – важно оглянулась старуха.
– Ну, упористо, если это вам больше нравится… В наши с вами годы это вредно… Нам побольше двигаться надо, кровь разгонять… Я вот на днях одного старика в Лубянском проезде видел, нищего, с табличкой: «Защитник Севастополя. Родился в тысяча восемьсот тридцатом году»… Не угодно ли вам, – до ста лет дожил: вот это номер!.. А почему? Двигался много: пятьдесят лет уже побирается… «Меня, говорит, как волка, ноги кормят»… А кабы он на одном месте стоял да какой-нибудь несчастной речонкой упивался, не дожил бы он до ста лет, поверьте представителю медицины!
Вознесенский говорил это, уже стоя с нею рядом и снизу вверх поглядывая на нее игриво, но старуха обиделась почему-то; она сказала строго:
– Шли бы вы себе с дамами болтать! – повернулась и пошла вправо, в сторону купальни, а доктор долго и сосредоточенно следил, как она переставляет свои длинные и негнущиеся ноги, старательно обходя кочки.
Полосатый кружевной чепчик и ковровая шаль придавали ей сзади что-то восточное, даже, пожалуй, библейское, так что она, казалось доктору, даже и не шла, а шествовала к какой-то высокой цели, полная торжественности. От долгого созерцания этого шествия доктору захотелось вдруг взбрыкнуть на месте, как это делают ребятишки, и помчаться прочь с неистовым гиканьем, но бегать он уже давно не мог из-за одышки. Мелкими шажками прошел он до того места поляны, откуда был виден весь украшенный замысловатой резьбою калужско-мавританского стиля двухэтажный дом отдыха, когда-то, во время мировой войны, построенный шало разбогатевшим биржевым маклером с нерусской фамилией. Дом был выкрашен в фисташково-белое, окружен раскидистой террасой с занавесками из парусины от солнца; душистый табак и душистый горошек в зеленое и цветное окутывал его фундамент. Широкие окна всюду в нем были открыты.
Доктор был уже в этом доме отдыха раньше – в прошлом и позапрошлом годах. Он достал кошелек, посмотрел, сколько в нем было денег, поерошил бороду, потом теми же мелкими, но уже не беспредметными шажками обогнул дом, вышел во въездные ворота и мимо соснового бора, с одной стороны, и березовой рощи – с другой, широкой многоколейной дорогой с зелененькой веселой травкой между колеями прошел на фабричную слободку, где – он знал – была довольно приличная пивная и к пиву, как и полагается, подавались соленые сухарные крошки и соленый горох.
Старуха же мимо купальни, вдоль берега прихотливо расписанной по поверхности речки шла и шла в глубь березовой рощи. Увидела, как из самой середины какого-то сгнившего и зеленым мохом обросшего пенька тянется молоденькая, от семечка, розовенькая березка, и долго стояла, так и этак нагибая ее рукой. Услышала, как стучит где-то вверху дятел, и долго искала его глазами, пока тот не пролетел мимо нее своим небойким, ныряющим полетом.
Дошла до стада; сытые, почти все красной масти, одна в одну, коровы паслись на поляне, а пастух, малый неудалого вида, разводил костер из сучьев.
Старуха подошла, пожевала губами, поглядела на малого, на костер…
– Зря ты, – сказала, – дрова жгешь…
– Разве это называется дрова? – спросил малый, сдвинув со лба шапку, чтобы не мешала глядеть на старуху: он был совсем малорослый.
– В Москве бы зимой кому-нибудь пригодились… А коровы у тебя хорошие…
– Меньше, как на семнадцать литров, нету…
– А чьи же они такие?
– Рабочих с фабрики… чьи!..
– Небось, помоями кормят?..
– Да ведь и помои, конечно, дают, а как же?.. – и добавил не в тон: – Я недавно белку чуть кирпичом не сшиб… Право слово… вон на том дереве…
– Белки разве бывают тут?
– А что же?.. А лисица каждое утро к речке приходит… И два лисенка с ней тоже…
На любопытствующую старуху малый смотрел снисходительно, деятельно сооружая костер. Он был щедро всконопачен и курнос. Кумачовая рубаха его была неотмываемо грязна. Старуха же безбоязненно вошла в середину стада и приглядывалась ко всем этим добродушно щипавшим грузным животным с отвисшими чуть не до земли выменами так пристально, как будто хотела купить из них дюжину и отбирала самых молочных. И коровы уже продвинулись от нее дальше, а она все стояла и разглядывала их всесторонне, вдыхая их запах, густой и теплый.
Сладившие с течью лодок аспиранты проплывали мимо, ненужно сильно волнуя и пеня воду. Скромно прислонясь к березе, старуха и эти неожиданные новые яркие пятна на реке вбирала глазами жадно. И молодые, звонкие голоса ей нравились. А когда стали пересаживаться гребцы и рулевые, она даже зажмурилась, – вдруг перевернут лодку, долго ли?.. Долгополову заметила на передней лодке: гребла она красиво и сильно, совсем не откачиваясь назад, действуя одними только мускулами рук. Старуха была дальнозорка и именно здесь, на реке, разглядела, чего не видела за обедом, что черные волосы Долгополовой подернуты равномерной сединой.
По тропинкам, протоптанным коровами, старуха прошла потом от реки к дороге через весь березовый лесок. Нашла гнездо волнушек и два подорешника и положила их на свежий пень, чтобы сразу кинулись в глаза тем, кто придет сюда за грибами завтра утром или еще сегодня. Кружевные березы уже начинали сбрасывать золотые листья, но очень тихо было в бору и сухо, и старухе казалось, что все кругом, даже жужжанье комаров, имело свой запах.
Въездные ворота, из которых вышел на слободку доктор, она обошла стороною: нужно было пройти и в сосновый бор, – старуха твердо знала о нем, что дышать им даже гораздо полезнее, чем березовым лесом, и в нем ей сразу стало еще легче и еще свободнее. Между маститых молодые елочки колюче торчали повсеместно. Среди них, отгибая их ветки, старуха проходила, уже не высматривая грибов: она только дышала как могла глубже.
Здесь она вышла к новой стройке: из толстых бревен клали довольно обширный дом на кирпичном фундаменте. Бородатые медленные деревенские плотники в лаптях, сверкая голубизной топоров, споро обтесывали по виду недавно и здесь же срубленные сосны.
– Это что же вы строите? – спросила одного старуха.
– А это, бабушка, будет называться столовая – вот это как будет называться… – не спеша объяснил тот, отбрасывая пахучую свежую щепу лаптем.
– Для кого же это столовая в лесу? – удивилась старуха.
– Да, должно быть, все для вас, для градских, – а то для нас, что ли?
Старуха оглянулась кругом, – оказалось, недалеко, через просеку, зарыжел ржавый, мавританского стиля, купол дома отдыха.
– Для кого бы вы ни строили, а что же из сырого-то леса? – спросила старуха.
– Вона!.. Ждать его прикажешь. Небось, в стене досохнет!.. А щели дадут, – пакля на что же?.. Знай, конопать, не жалей!
Через просеку старуха вышла на черный двор. Осмотрела коровник, где стояли только одна заболевшая корова тигровой масти (имя ее было Аленка) и двухгодовалый красный бык – Танк; побывала в свинарнике – полюбовалась пятью крупными, чисто вымытыми боровами; но больше всего умилила ее целая туча больших уже весенних цыплят за сетчатой четырехугольной оградой. Цыплята были только белые леггорны и красные родайланды.
– Красо-та!.. Ах, это же красота! – долго, глядя на них, покачивала головой старуха.
За черным двором, ближе к речке, разлеглось целое поле брюквы и кормовой свеклы с такой зеленой, свежей, густой ботвою, что старуха еще раз умиленно кивала головой и чмокала губами.
Доктор Вознесенский так и не пришел к четырем часам к чаю. На его сдобную булочку с чувством смотрели аспиранты Костюков и Пронин. Оба они были живые, веселые: один, пониже и почернявее, – ярославец, другой, подолговязее, плосколицый, сероглазый, с широким ртом, – из чувашей. За чаем Пронин доказывал Костюкову, что у чувашей есть богатый язык, есть своя давняя культура, наконец есть и своя история.
– Вот ты бы и написал эту историю! – советовал ему Костюков.
– А что же, брат, ты думаешь?.. Я уже собираю матерьялы… А что я напишу, то уж напишу непременно… Об этом даже и речи, брат, быть не может!..
Говорил он на «о» и сильно действовал при этом левой рукою. Голова у него была толкачом. Стремительность огромна. Он приехал сюда с пузырьком лекарства, прописанного ему врачом в Москве, но когда биолог Костюков, посмотрев на рецепт, сказал ему, что лекарство его – обыкновенный мышьяк, от малокровия, он обиделся и выкинул пузырек в цветочные клумбы.
– Врет он! Никакого у меня малокровия нет!.. Ишь ты, выдумал что: мало-кровие!
После чая оба они пошли играть в волейбол.
Это была шумная, азартная игра. Аспирантов и аспиранток собралось порядочно, к ним пристали более маститые. Черный мяч метался неистово.
Рядом на аллее четверо играли в городки, звонко били березовые палки, выбивая фигуры.
Волейбола старуха совсем не понимала, и хотя городки ей были несколько знакомы, но стоять близко к ним она не решалась, опасаясь прихоти прыгающих палок.
Дальше в парке на теннисной площадке играло несколько человек. Старуха прошла было туда, постояла немного, поглядела на красивые движения ракеток в умелых руках уже немолодых, значительно плешивых партнеров, но поворачивать туда и сюда голову – следить за полетами мяча – ей надоело. Она уселась на одной из зеленых скамеек около пристани и тут снова ушла в созерцание то таинственных отражений в воде, то весело появляющихся на ней из-за поворота лодок. Дальше по реке расположен был дом отдыха для рабочих на тысячу с лишним человек, и лодки с веселой молодежью, то поющей, то играющей на мандолинах и баянах, шли теперь оттуда и, прогремев и просверкав, исчезали за излучиной, за сединой ветел.
Заглядевшись, она не заметила, как появился Вознесенский и уселся на другой такой же зеленой скамье через дорожку, прямо против нее. Он закурил и, дымя папиросой, вертя в руке портсигар из карельской березы и щуря свои китайские глазки, сказал ей врастяжку:
– Лю-бу-е-тесь!.. За-нят-но!.. Ваше имя-отчество?
Вопрос был сделан быстро, деловым тоном. Старуха ответила тут же, привычно:
– Евфалия Кондратьевна, – и, только когда ответила, отвернулась, буркнув: – Зачем это вам нужно имя-отчество?
– Так я уж привык по старинке… Евфалия – имя довольно редкое… Но иногда раньше попадалось… Ев-фалия, Ев-фимия, Ев-патория…
Он был теперь гораздо краснее, чем за обедом, и крупнее и ярче показался старухе его мясистый нос.
– Евпатория – это разве имя?.. Это – город такой, – пробасила старуха.
– А-а?.. Вот как?.. Значит, я перепутал… Правда, правда… город… Туда еще как-то лет двадцать назад поехала лечиться от чего-то моя жена и там без вести пропала.
– Ну, вот видите… Как же это так без вести?.. – вкось на доктора поглядела старуха.
– Под-стро-ено, под-стро-ено все было так, разумеется, чтобы я ее не искал!.. А я ее, признаться, и вообще-то не искал, – подмигнул он. – Зачем мне?.. Захотелось тебе без вести пропадать, пропадай, матушка, на здоровье!.. Может быть, где-нибудь и жива еще… Хотя после стольких лет пертурбаций всяких – едва ли…
– Как же вы после этого? – полюбопытствовала старуха.
– То есть в каком смысле? – и доктор жестоко затянулся и закашлял. – После этого ведь тут в скорости война началась, я был мобилизован, конечно, попал на турецкий фронт, потом революция, потом… вообще, как вам известно, тогда уж совсем не до жен было…
– А дети-то ваши как же?
– Какие дети? – очень высоко поднял изумленные брови доктор.
– Совсем не было?
– Гм… За-нят-но!.. – Доктор вдруг стал еще веселей, чем был. – Де-ти!..
– Что же это вы, как будто я вас об тиграх спрашиваю! – отвернулась старуха.
– Об тиграх?.. – Доктор захохотал. – За-нят-но!.. Нет, детей никаких не было… Для этого особый талант нужен, как вам известно… А раз к этому никакого призвания не имеешь…
– Да у вас, должно быть, и к медицине вашей тоже призвания никакого нет, – обиженно перебила старуха и отвернулась.
– Не-ет, я бы так решительно о себе не сказал, не-ет! – весело заерошил бороду доктор. – Как сами видите, вопросом об естественном долголетии я интересуюсь, а этот вопрос все-таки имеет же кое-какое касательство к медицине… Вот, например, и на вас я смотрю и думаю: доживете вы до ста лет или не дотянете?.. Вы, может быть, и не знаете, так я вам скажу, что от такой прелести, как рак, вы, вероятно, уже избавлены, а от рака погибает по-рядочный процент людей… Затем брюшной тиф, – этот красавчик вам тоже уж не опасен… Геморрой вам надоедать не будет… И вообще блистательно перешагнули вы через целую кучу болезней… Что же вам теперь остается?.. Так, кое-какие пустяки: склероз… крупозное воспаление легких…
– Э-э, – поморщилась и гневно обернулась старуха. – Что это вы тут мне с болезнями с такими?..
– Не любите?.. Вот видите… В этом мы с вами вполне, значит, сходимся: я сам их терпеть не могу!.. Но они, окаянные, тем не менее существуют!..
Тут большой черный мяч волейболистов, кем-то поданный с излишней энергией, залетел к зеленым скамейкам, и бежавший за ним Костюков крикнул Вознесенскому:
– А-а, доктор… Чуть я вашу булочку не слопал!
– Глупо, что оставили! Надо было слопать! – поспешно отозвался, как того требовал момент, Вознесенский.
На аллее, где играли в городки, молодой круглоплечий, в очках, инженер-механик мастерским ударом выбил сразу всю фигуру, да еще такую трудную, как «змейка». Доктор крикнул туда: «Браво!» – и слегка похлопал в ладоши.
А по речке в это время плыла лодка с целым квартетом балалаечников со скульптурными, голыми до пояса, молодыми телами. Очень бравурную мелодию кинули к зеленым скамейкам хорошо сыгравшиеся балалаечники, так что старуха сказала уж не шмелиным своим басом, а в более высоком регистре:
– Ишь как у них выходит!.. А, кажись, что же такое балалайка? Так себе – трень-брень.
Доктор же сделал рупором руки и закричал вдогонку проплывшей лодке:
– Бра-вис-симо-о!..
Старухе он сказал потом:
– Хорошо-хорошо… Отлично поют канашки… И вообще здесь неплохо… А если еще протянется бабье лето этак до-о…
– Так уж и бабье! – перебила снова басом старуха. – Теперь только женщины, а баб уже нет!.. Довольно!..
– Вот как! – удивился доктор. – Значит, попили нашей кровушки, и будет?.. Ну, нет так нет… Пусть будет женское лето, мне все равно… Так вот если протянется это женское лето, скажем, до половины сентября, будет совсем чудесно, а?..
Но старуха поднялась почему-то и пошла, придерживая свою шаль у подбородка. Она не сказала даже теперь: «Шли бы вы с дамами болтать!» – а просто, вздохнув и прикашлянув слегка, задвигала ногами от реки в сторону дома, и доктор, не зная, что об этом подумать, опять, как это уже было сегодня, глядел ей вслед и находил в ней что-то библейское. Когда же к нему подошел и сел рядом табаковод, доктор, глядя на его крупный, с сильным выгибом нос и выпуклые глаза, спросил прищурясь:
– А что, скажите, турка у вас в роду не было?
– Воз-можно!.. Все, знаете ли, возможно! – ответил беспечно Чапчакчи. – А что?
– Да так как-то этак… вид у вас несколько притурковатый…
В семь часов две или три подавальщицы бегали с колокольчиком, давая знать, что нужно сходиться на ужин.
На второе за ужином подали гурьевскую кашу.
– Странное дело… Почему же она гурьевская? – спросил, ни к кому не обращаясь, Пронин.
– Ага!.. Вот именно… Почему гурьевская? – подхватил Вознесенский.
– Город есть такой – Гурьев… Кажется, в Астраханском крае… или в Оренбургском… – начал было думать вслух Костюков, но доктор перебил его оживленно:
– Город Гурьев!.. Да, есть такой при устье Урала… Только каша эта не городом пахнет, а целым министром!.. Был такой при Александре Первом министр финансов – граф Гурьев… Оставил после себя на память вдребезги расстроенные финансы (Канкрину их пришлось потом выправлять), дочь Нессельродшу да вот эту кашу… И вот ирония судьбы человеческой: о финансах расстроенных забыли, о Нессельродше – на что была баба-бой – тоже забыли, а кашу его даже вот через сто лет и даже в доме отдыха подают!.. И что же он тут такого изобрел, скажите на милость?.. В обыкновенную манную кашу понатыкал кусочков разных фруктов, чем и приобрел бессмертие!..
– Предлагаю стереть с лица советской земли этот позор! – сказала с жаром Алянчикова.
– Стираем! – отправляя в рот ложку, кивнул ей Костюков.
– Переменить название! – объяснила Алянчикова.
Доктор поспешно дотянулся к самому уху старухи и спросил шепотом:
– Ваша фамилия как?
– Уточкина… а что? – прожужжала старуха, но доктор уже поднялся и торжественно начал, приосанясь:
– Вношу предложение по вопросу дня: в честь уважаемого товарища Уточкиной (он указал на старуху) предлагаю назвать это блюдо уточкиной кашей… Кто против?
Никто не высказался против. Все рассмеялись, даже и Ландышева. Старуха внимательно поглядела на Вознесенского и покивала головой, как кивают старые на молодых и умные на глупых.
После ужина было еще светло. Казалось, что солнце задержалось на горизонте гораздо дольше, чем было ему отведено, и эти последние иззелена-оранжевые лучи просквозили верхушки сосен, берез и елей в парке так, как этого и нельзя было представить солнечным днем. Не только каждая ветка, каждый лист – каждая игла казалась отдельной. Тончайшее кружево сплелось над головами, лица стали значительнее и сложнее.
Эти последние перед сумерками лучи, – в них есть какая-то ласковость, задушевность, и она отражается на человеческих лицах, слабо окрашенных в слегка зеленое, когда стушевываются скулы, щеки и подбородки и глубже, и ярче, и задумчивее выступают глаза.
На карих глазах Ландышевой, которая, робко и будто не вполне доверяя своей способности ходить по аллее, посыпанной мягким желтым песком, а не по гладким плитам и асфальту тротуаров, двигалась скользящей походкой к реке, задержались серые с золотыми точками глаза инженера Шилина, шедшего уже от реки к дому.
– Хотите кататься в лодке? – вдруг спросил Шилин, едва остановясь.
Он, усталый, даже и глазами не улыбнулся при этом: внимательность прозвучала только в его голосе, надтреснуто-глуховатом.
– Покататься? – изумленно отозвалась Ландышева. – Я ведь ничего не умею: ни грести, ни этим… как он называется?.. рулем…
– Да вам ничего и не нужно будет: только сидеть. – Шилин слабо махнул рукою.
– А кто же будет грести?
– Да вот еще – кто же!.. Я ведь иду за веслами…
И, кивнув ей головою, он выпрямился, и шаги его потом стали тверже, а Ландышева, радостно встревоженная, уверенно пошла к пристани взглянуть на ту лодку, которая ее ждала.
Женщина размашистых движений – Алянчикова – приколола к своим рыжим волосам плотную, едва распустившуюся чайную розу. Она воткнула ее в гребенку, предполагая, что цветок свесится влево, но роза была вся переполнена соком и упруго покачивалась на ее голове задорным хохолком, в то время когда она, идя рядом с Шорниковым, говорила о книгах и читателях:
– Чрезвычайно показательно, как изменился у нас читатель… Отошла мода на пустые романы, – это замечательно!.. Теперь всякий стремится заполучить квалификацию, поэтому что он читает? Книги по технике!.. По всяким отраслям, но только техническую литературу… Автомобиль, например… Сколько бы книг по автомобилю ни появилось в книжных магазинах, их сейчас же раскупают – мо-мен-тально!.. Только появились в витринах – и готово!.. А в библиотеках такие книги обыкновенно зачитываются без остатка!.. Их не успевают выписывать… Авиация – тоже!.. Вообще всё, где есть моторы… Маленькие ребята читают путешествия, открытия, биографии ученых… Вообще, вы себе представить, не можете, до чего изменился теперь – вот всего за последние несколько лет – читатель!.. Как вырос у него практический деловой ум!.. – И правую руку она подымала то и дело, точно говорила с эстрады.
Шорников шел молча. Его голова и лицо в зеленоватых вечерних лучах потеряли присущую им тяжесть. Он не спрашивал, имеется ли в той библиотеке, которой заведовала Алянчикова, его брошюра. Для него и без этого вопроса было ясно, что шелестят ее страницами миллионы читателей. Он глядел себе под ноги, как бы стараясь безошибочно представить пласты здешней почвы до глубины в тысячу метров.
Волейболисты не закончили игры до ужина, и теперь она шла, приближаясь к концу, с еще большим азартом. Долгополова же и Чапчакчи, один на один, играли в городки, и инструкторша гребли торжествовала над неловким табаководом.
– Кто же так кидает палки, как вы?.. Можно, конечно, и не сгибать руку, когда бросаешь палку, но это, если палка очень тяжелая… и если городок от городка очень далеко… и вообще надо уметь попадать в городки, а не в березу!..
– Да ведь я когда играл в городки, а? – пытался объяснить Чапчакчи.
– Какое же мне дело, когда вы там играли?
– Я играл только в своем детстве, вы поняли?
– Хотя бы в чужом, мне безразлично… Вот я уже выбила две фигуры, а вы ни одной… Извольте ставить мне третью, это – ваша обязанность!
И Чапчакчи, смешно присев на корточки, покорно и неумело начинал ставить «пушку».
Тут же рядом была разбита и крокетная площадка, но на ней беспризорно валялись два сломанных молотка и полинялый шар, понемногу зарастая травою: слишком чинная игра – крокет – была явно не в духе времени. По этой площадке походили было двое степенных, еще не скинувших городских пиджаков и галстуков; один толкнул ногою шар, другой нагнулся было поднять молоток, но не задержались, пошли вдоль берега реки влево, где сплошь синела, дожидаясь первых заморозков, капуста и чернел деревянный через реку мост.
Вознесенский шел с двумя своими соседями по койкам – музейным работником Дегтяревым и просвещенцем Резвым – тоже вдоль капустных огородов и речки и говорил:
– Там же, где стоят у нас весла, имеются и удочки. Если из вас кто-нибудь рыболов, может упражняться в терпении…
– А что же здесь можно поймать? – полюбопытствовал просвещенец.
– «Что»?.. Если вы склонны к простуде, можете поймать легкий насморк, а так вообще здесь местность довольно здоровая… Если же вы захотите упорно поймать кого-нибудь, то окуньки и щурята к вашим услугам… А вот тут в прошлом году утонул один молодой человек… Кажется, утонуть в такой речке еще труднее, чем из нее порядочного окуня вытащить, однако случилось… Что же касается этого моста, то меня сейчас очень занимает, вставили там одну доску посередине или нет… Дыру на этом мосту я с прошлого года помню: чуть было я там ногу себе не сломал, – поскользнулся и ногою в дыру. А в мои годы переломить ногу – это уже положение довольно пиковое… хотя протезы теперь делают и отлично, все-таки своя нога как-то приятнее, а?.. Главное, с нею меньше возни… Вот какое-нибудь добавление к ногам нашим, это – совсем другое дело. Например – вот речка: мне хочется на тот берег. Я вынимаю из дорожной сумки этакие полые резинки какие-нибудь, прикрепляю их к ногам, надуваю их трубкой, и вот я вооружен для прыжка и прыгаю на тот берег. Думаю, что подобная штуковина войдет в обиход жизни лет через пять-шесть… Так как вы помоложе меня, то доживете.
– И будем прыгать, как футбольные мячи? – усомнился худощавый просвещенец.
– Или как блохи, как зайцы, как кенгуру, – что вам больше нравится, выбирайте сами… но прыгать вы будете непременно. Этот прекрасный способ передвижения сначала привьется в виде спорта, конечно, а потом вам, просвещенцу, придется вводить его в школах.
– И, наконец, мы, музейные работники, все эти резинки и трубки отправим в музей, – медленно подбирая слова, вставил Дегтярев, который и по фигуре был тяжел и медлителен.
– Ну, скажите! Она уже здесь! – вдруг живо обернулся к нему Вознесенский. – Когда же она успела? Прыгнула, что ли, сюда прямо с террасы?
На мосту, к которому они подходили, виднелась старуха, все так же прижимавшая шаль к подбородку и смотревшая в сторону, откуда бежала речка.
Мост стоял довольно высоко, вела к нему насыпь. Взобравшись на эту насыпь вместе с другими, доктор не поглядел, осталась ли по-прошлогоднему опасная для ног дыра на мосту, он подошел прямо к старухе и сказал, как говорил уже раньше, врастяжку:
– Лю-бу-етесь?.. Да ведь, признаться, и есть чем!..
Иззелена-оранжевые лучи озарили все кругом неповторяемо-замысловато, и в этом освещении, неожиданном для глаз горожан, потеряли всю свою вещность и еловая роща вправо, и прихотливо, как шла река, то здесь, то там разбросанные купы ветел, и клеверные луга со стогами, сметанными еще летом, и деревенские домики с деревянными крышами, и, наконец, еще мост через ту же речку, ведущий в большое село при станции, откуда слабо доносился гудок паровоза.
– Можно сказать пейзаж – срединно-советский!.. – махнул доктор кругом рукою, весело глядя на старуху. – Вот попробуйте определить, что в нем такого неодолимого и почему вот-вот он окажется всепобеждающим!..
– Каким это побеждающим? – не поняла старуха, заранее насупив брови.
– Очень просто, – с готовностью начал объяснять ей доктор. – То всепобеждающим оказывался пейзаж Ассирии, то Македонии, то Средней Италии, то степей Туркестана, то степей Аравии. То пейзаж Средней Европы при Карле Великом, то пейзаж Южной Европы при Наполеоне… Но этот вот наш таинственный пейзаж – он показал себя очень устойчивым во всех переплетах истории и… и выходит уже на линию всепобедителя… почему и смотрите вы на него внимательно… я догадался, а? – лукаво заглянул он в старухины глаза снизу.
Старуха внимательно посмотрела на доктора, потом перевела глаза на Резвого и Дегтярева и так же точно безмолвно, как уже сделала это днем, покрепче прижав ковровую шаль к подбородку, двинулась обратно к спуску с насыпи.
– Как же это она не поддержала разговора?.. И почему ушла? – в недоумении спросил вполголоса Резвый.
– За что-то она на вас обижена, должно быть? – попробовал догадаться Дегтярев.
– Ах, нет… За что же?.. Это – некая Уточкина… И просто у нее такая манера говорить, интересующая меня чрезвычайно… – объяснил доктор и добавил: – Мост этот меня тоже интересует: заделана дыра или существует?
Прошлогодняя поперечная дыра была заделана, но появилась новая, продольная, впрочем, неопасная для ног, так как под снятой доской оказалась прочная балка свода.
На третий-четвертый день все отдыхающие уже присмотрелись и к самому дому со всеми его службами, и к парку со всеми его окрестностями, и друг к другу. Исправно по звонку вставали в половине девятого, в девять завтракали и до обеда устраивали дальние прогулки, а после обеда занимали лежанки и гамаки. Кто запаздывал к столу, тому уже начали по заведенной традиции аплодировать.
На седьмой день вечером заведующая домом, поместясь как раз посередине веранды, где ужинали, и, сверкая гневными стеклами круглых очков, произнесла такую речь:
– Товарищи!.. Вы здесь уже семь дней, между тем вы, по-видимому, совсем еще не успели ознакомиться с правилами дома отдыха… Вы, например, не застилаете своих коек, когда у вас является желание лежать на них днем… Уборщицы делают это утром, они ведь не в состоянии делать это и днем, у них и без того много работы… А когда вы выносите матрацы на лежанки, вы их почему-то бросаете под дождем, – они ведь от этого портятся!.. Вы теряете уключины от лодок в реке, откуда их вытащить уж никак нельзя!.. Наши правила вот здесь вывешены на стене, они написаны четко, на машинке, по пунктам… Предупреждаю, что неисполнение этих всех правил послужит для вас причиной неприятностей… Наконец, вам всем были розданы регистрационные карточки три дня тому назад… Они были розданы, конечно, затем, чтобы вы их заполнили, между тем некоторые отдыхающие – фамилии их я сейчас опубликую – совсем не сочли нужным это сделать… Вот эти товарищи, которых я прошу немедленно заполнить карточки…
И она очень внятно и с выражением прочла по вынутому из кармана своего белого халата листочку свыше десятка фамилий, между которыми оказалась и фамилия доктора…
Старуха Уточкина, услышав это, живо обернула к своему соседу скуластое желтое лицо с тем характерным кивком, который означает приблизительно: «А что, брат, попался?..»
– Ка-ни-тель, – буркнул доктор. – Перевод бумаги!.. Я даже не знаю, куда эту карточку сунул… – и он начал было шарить по карманам, но тут же бросил это. – Если нужно, то могут дать и другую…
Между прочим, доктор отнюдь не лишил Уточкину своего назойливого внимания после встречи с нею на неисправном мосту. Но он предпочитал обращаться к ней не за столом, – тут он говорил с другими, – а в парке или около реки, вообще на свежем воздухе.
Так, один раз она шла со стороны купален в довольно прохладный день, и он, очень участливо улыбаясь, спросил:
– Что? Купались?.. Я, признаться, по-до-зре-вал за вами, что вы – любительница купанья… Как вода?..
– С ума я сошла, что ли, – в сентябре купаться? – с негодованием пробасила старуха, проходя мимо.
А доктор напутствовал ее:
– Не-ет, не скажите!.. Купаться всегда полезно, а в холодную погоду особенно: это способствует долголетию!.. Не зря же замораживают мясо!
Однажды он заметил ее в бору: усердно искала она грибов.
Он немедленно крикнул ей, подходя:
– Не наберите поганок, смотрите!.. Они, мерзавки, аб-со-лют-но смертельны!
– Что я, грибов, что ли, я не знаю? – отозвалась старуха неприязненно.
– А что вы думаете!.. Вот вчера наш геолог каких-то таких страшных грибов жене повез, что я ахнул!.. Говорит, что это какие-то матрешки!.. Если он хочет непременно жену свою отравить, то, конечно, в его семейные отношения преждевременно вмешиваться зачем же?.. Я же лично от этих его грибов ушел без оглядки: еще в свидетели попадешь!.. Но вы-то, вы-то что за Локуста такая? Ведь это – явная смертельная опасность, что вы вон в руках держите!
– Это – опасность?.. Это – подберезовик! – потрясала грибом старуха. – После белого считается гриб самый лучший!
– А я вас уверяю, что это – «сатанинский гриб»!
– Такого и гриба-то не бывает… сатанинского!
– Называется он так: сатанинский… потому что он, мерзавец, на все порядочные грибы похож, что шляпкой своей, что корешком… Однако из всех грибов он-то и есть самый окаянный. Немедленно его бросьте, рекомендую!
– Да-да, держите!.. Так вот и бросила! – бурчала старуха, уходя.
Он же говорил ей вслед, довольно ероша бороду:
– Хорошо, хорошо-с! Эту склонность вашу ядовитые грибы собирать для каких-то тайных и неведомых целей я намотаю на ус!..
Впрочем, запас игривости у доктора Вознесенского был достаточно обширен, чтобы мог он без остатка весь выливаться только на одну старуху Уточкину.
Так, встав однажды раньше звонка и убедясь, что водопровод в уборной не дает воды (это случалось иногда здесь с водопроводом), доктор пошел умываться к реке, а умывшись, захотел посидеть на скамейке, но зеленые скамейки были в сильной утренней росе. Доктор старательно вытер одну из них, небольшую, газетой, бросил газету в реку и только что хотел было усесться, когда заметил подходившего с полотенцем Дегтярева.
– Вот история: нет воды в умывальниках, – пожаловался, подходя, Дегтярев. – Подумал-подумал и решил идти к реке умываться.
– Подумайте еще и над этим явлением, – указал ему на сухую скамейку Вознесенский. – Видите, она уже высохла, а эти все еще мокрые… Почему так?.. Ведь они одинаково отстоят от солнца!
– Гм… Совершенно верно, – задумался Дегтярев. – Так же бывает и со снегом, когда он тает. На вспаханной земле, например, он тает скорее, чем на луговой… Да… Странно, очень странно…
Вслед за Дегтяревым также с полотенцами подошли еще двое пожилых (пожилые вставали вообще гораздо раньше молодежи), и вот уже трое начали думать над странным явлением, и кто-то припомнил даже из физики скрытую теплоту тел, а другой указал на то, что эта скамейка стоит параллельно реке, в то время как другие к ней перпендикулярны.
Решение вопроса было отложено до следующего утра, когда можно было продолжить наблюдения, но и на следующее утро доктор не поленился встать раньше других, насухо вытереть ту же скамейку и скромно уйти, чтобы издали наблюдать за кучкой думающих над нею старичков и лукаво ерошить бороду.
К одному из таких задумчивых, однажды упорно глядящему на ровные темные ели парка, доктор подошел, как будто осененный необыкновенной мыслью, и сказал, взяв его за локоть:
– Вот тема: «Прямизна хвойных деревьев как великий фактор прогресса»… А?.. Не правда ли, тема?
– Да-а!.. Да, да… Это – тема! – сразу воодушевился задумчивый. – Что бы делали люди, если бы все деревья были, как, скажем, приполярная кривая береза или же… или же, как саксаул в Туркестане?
– Та-бу-рет-ки даже не могли бы сделать, не то что кораблей-гигантов или вот подобного этому дома!.. И как бы возможен был тогда прогресс? – с напускным жаром поддерживал доктор, наблюдая собеседника белесыми глазками, притаившимися лукаво в узеньких щелях тяжелых век.
Однажды утром он подсунул Ландышевой меню:
– Прочитайте-ка!
– Да я уж читала, – отозвалась та.
– И?.. Что вы там такое нашли?
– Например?.. В каком именно смысле?
– Что на обед на второе?
– Кажется, беф-строганов.
– Напрасно вам это кажется!.. Прочитайте-ка вы! – сунул он листок Алянчиковой.
– Конечно, беф-строганов, – сказала и та, едва скользнув по листу глазами.
Потом листок обошел весь стол, и все подняли непонимающие глаза на Вознесенского, но он казался тоже весьма изумленным и сказал уныло:
– На листочке написало «бевстрогов», и никто не видит в этом ошибки… Теперь и я буду писать вместо oleum ricini[2] оподельдок!
Часто из дома отдыха в Москву ходил грузовик полуторатонка и привозил оттуда мясные туши, мешки с мукою и прочее, что нужно было для кухни, а раз в неделю ездили за постоянным врачом на станцию, для чего впрягали рыжего рослого коня в коляску. Впрочем, болели отдыхающие только ангиной, и врачу приходилось прописывать им только полоскания.
Телеграммы сюда передавались с слободской почтовой конторы по телефону, и однажды таким образом передана была телеграмма Вознесенскому, что он экстренно вызывается в Москву, в ту больницу, где работал и жил.
– Что за спешка, когда я числюсь ведь в отпуску?.. И почему именно телеграмма, когда можно было позвонить из Москвы по телефону и объяснить, что такое? – удивленно и рассерженно даже спрашивал доктор того, кто был ближе к нему в эту минуту, – монтера Костю, чинившего раковину умывальника и проходившего мимо него с инструментами. Костя только пожал плечами и улыбнулся.
На отходившем как раз в это время грузовике доктор поехал в Москву и не приезжал два дня.
День был дождливый, но теплый, а к вечеру перестал и дождь, разошлись тучи, – вечер выдался мягкий и тихий. Из дома отдыха все отдыхающие высыпали на свежий воздух, и многие видели, как старуха Уточкина гуляла с высоким, даже повыше ее, но сутулым человеком, старым на вид, таким же, как она, большелобым, скуластым. Гуляли они и по аллеям парка и вдоль берега реки, а кое-кто заметил, что больше говорила старуха, чем ее посетитель, который почтительно к ней нагибался и часто кивал головою, как кивают, желая показать, что поняли и совершенно согласны.
Проводив его, когда уже стемнело, Уточкина с несколько даже как бы любопытствующим видом прошлась по общим залам внизу. Посмотрела, как двое из молодежи играли в пинг-понг, поставив посередине стола кисейный голубой барьер; послушала, как за другим столом играющие в «викторину» оглашали списки в тридцать имен на букву «б», написанные за пять минут, и как одна, совсем еще девочка на вид, возмущалась, что в один ряд с Бакуниным, Бебелем, Байроном попали у иных Багратион и Барклай; зашла в гостиную, постояла за спинами шахматистов, усевшихся за двумя досками; даже попробовала кружева, которые штопала здесь одна из отдыхающих, усевшись в мягком кресле под лампочкой с желтым абажуром.
– Нет, это не брюссельские! – решительно сказала о кружевах Уточкина своим тяжелым шмелиным басом.
– Я ведь вам и не говорила, что они брюссельские! – удивилась и обиделась владелица кружев; но старуха, пожевав губами, отозвалась без тени заносчивости:
– Может, кто вам их продавал, уверял, что брюссельские… Нет, это наши, старой работы…
Говорить вслух в той гостиной, где многие читали книги, было не принято, и на Уточкину поднялось сразу несколько голов. Она заметила это и вышла, но заглянула потом и в читальню, где однообразно шелестели газетами, и даже в бильярдную, где было очень накурено и в толпе игроков щуплый, тонкошеий юноша в очках, прицеливаясь то к тому, то к другому шару кием, стремился удивить каким-то необыкновенным ударом.
Со стороны могло показаться, что старуха как будто искала кого-то и не находила.
Доктор Вознесенский и в этот день пропустил чай и явился только к ужину, но почему-то за ужином был он молчалив, а после ужина на веранде, где имела обыкновение, закутавшись, сидеть и курить старуха, их увидели вдвоем: доктор был в пальто и кепке, тоже курил и очень внимательно слушал, потому что однообразно и немолчно жужжала теперь Уточкина:
– Сына-то моего видели?.. Это ведь сын меня проведать приезжал, не нужно ли мне чего… Он у меня самый старший и самый заботливый… Правда, у меня и другие, – плохого о них ничего не скажешь, – все меня поддерживают, только все они сейчас кто где – в разбросе, а у этого я на квартире в Москве живу… Он в кино у меня, и он же изобретатель; ему, как он изобретатель, большая жилплощадь полагается, – отдельная комната девяти метров, – вот я в ней и живу… И уж что насчет еды, что насчет теплоты – это у меня всегда есть… Я ведь и паровым отоплением у себя не нуждаюсь… Призвала печника, так он мне такую печку сложил и трубы пропустил, – у меня, когда захочу, всегда баня… Прямо всем на удивление у меня теплынь… А парового – жди там его, когда затопят!.. Так же и с маслом я устроилась через знакомство: мне из Самарской губернии, где я прежде жила, и маслица пришлют – и уж действительно масла настоящего – и яичек свежих, так что могу я по очередям не очень-то толкаться… А касается если удовольствий, у меня всегда в театры билеты есть, – то сын какой пришлет, то дочь… Дочь у меня – математичка страшная, а сыновья – еще трое, кроме этого, – те все инженеры… Теперь они разъехались, кто куда: один в Узбекистане, один в Сибири – на строительстве они оба, – а третий за границу командировку получил… Он сначала в Германию было, а там заводы эти стали – работы нет, так он в Норвегию переехал… Хоть город маленький, где он живет, зато завод там работает полным ходом… Жена у него умная, еврейка, и дочка растет, до чего же красавица!.. И тоже умница замечательная: «Что же вы меня, говорит, все Галочкой зовете, когда я уж большая?.. Как мне шесть уж лет, так меня уж надо Наташей звать!..» Это, который в загранице, такую мне красивую шаль прислал, по шерсти шелком вышитую, да теплую замечательно… Как же можно, он мне часто всего посылает… Один раз я за посылку одну сорок два рубля пошлины заплатила, так уж было за что и платить такие деньги! Двадцать четыре фунта весила посылка, а уж вещи какие!.. Не-ет, мне теперь только жить да жи-ить!.. Уж правда, много я с детями муки приняла смолоду: их ведь у меня всех-то двенадцать было!.. Шесть тех, шесть других, что мальчиков, что девочек – поровну… Ну, от девочек только одна эта, математичка, осталась, а мальчиков четверо уцелело… Их ведь образовать всех, а достатки у нас какие же особенные были?.. Муж мой учитель был, – правда, он все по большим селам, – а я работу брала, на попов шила… Или же я с хозяйством вожусь – свиней кормлю… У меня ведь так бывало: что ни пятимесячный поросенок – в нем пять пудов, а семимесячный – семь, это как уж закон: давай прибавки в месяц пуд, – таких я свиней держала… А коров, одной породы своей, – двадцать восемь лет с нею возилась, – старше пяти телков не держала, как она уж после пяти телков и с тела спадает и с молока тоже… Все расчесть надо было – семейство ведь большое… Тот там учится, этот там учится… математичка моя – эта в Томск поступила, там училась, – все посылать надо было, а с чего, откуда взять?.. Вот и пускалась на всякие хитрости, включая и поповскую одежу сюда. Да ведь чем шила-то? Ру-ка-ми! Машинку уж когда купила! Когда Зингер везде начал ездить, в рассрочку продавать… А то раз нам подвезло избу свою – у нас пятистенка была – малярам питерским сдать, они у нас в селе церковь раскрашивали, а жить в селе им негде было, – я их по два рубля в неделю и харчевать взялась… А тогда, конечно, цены на мясо были дешевые: баран семь гривен стоил, яйца – пятак десяток… Если мало, бывало, едят, еще их и уговариваешь: «Что же вы так неприлежно? А то мне с вас стыдно и деньги брать!» Это по два рубля-то в неделю!.. Ну, да тогда-то эти деньги большие считались… Месяцев пять они у нас пробыли, а было их порядочно – человек пятнадцать, артель… Этим мы тогда очень поддержались! Конечно, сами-то мы при них сыты были, а весь труд – он им шел, детям, на их обученье… Вот они это теперь и помнят – не забывают… Вы меня грибам-то учили, а я с грибами вот уж никак семьдесят лет воюю… Что солить их, что сушить, что жарить. Ну да, с пятилетнего, должно, возрасту помню я, как моя мать мне об мухоморах сказала: «Хоть они и красивые, а самые вредные!» Я их и ну ножками топтать… Мы с мужем как одного сынка трехлетнего потеряли, – я-то ничего, терплю, а муж как по нем убивался! Сидит и плачет… Я ему говорю: «У нас же их еще шестеро, да и сами мы пока люди не старые». А он, знай, плачет… И чем же он утешился? Был у нас самый младшенький, восьми месяцев, – теперь в Бухаре инженером, и сын уж у него тоже женатый, и вот раз приходит мой муж домой, этого не находит. «Где, где?» – у меня спрашивает, а я тоже не знаю: мало ли хлопот по хозяйству?.. А он что же, этот маленький самый?.. У меня они все, как им восемь месяцев, ходить начинали, – он пошел, пошел себе по стеночке да в сенцы, да в кладовую, да там занавески и мешки старые лежали, он в них зарылся и уснул там… Насилу его нашли!.. Так муж как нашел его, так целый день с рук его не спускал, только тем и утешился. А дочка одна у меня с открытыми глазками родилась, и вот, правду ведь говорят, что это к несчастью… И я-то знала ведь это, только ей, конечно, не говорила. Спать ляжет, так с открытыми глазами и спит, как заяц!.. Ну что ж, и несчастная вышла действительно ее жизнь… Мужа она себе не нашла, а как германская война началась, поехала она на фронт сестрой милосердия… Там, конечно, многие себе мужей понаходили, да она поехала-то поздно: приказ скоро вышел, чтобы всех дам с фронта долой, ну, она и вернулась обратно… Приехала к нам: «Вот, говорит, ужасы какие! В какой вагон ни войдешь, все через мертвых шагать приходилось – сыпняк!» Я ей, конечно, сейчас баню домашнюю, голову горячей водой выпарила, тремя полотенцами вытерла. Нет, уж поздно оказалось мое старание: через два дня, как приехала, заболела она сыпным. Хоть бы уж померла сразу, а то калекой три года мучилась: на почки ей кинулось… Вот что они значили – глаза-то открытые!.. Один сын у меня был в японскую войну убит, а четыре девочки еще – их, конечно, никто не убивал – сами собой поумирали, только вот математическая осталась: оказалась она и умнее всех и здоровьем справнее. А сын этот, какой ко мне приезжал, он и хорошо зарабатывает, а вот семейной жизни не привержен. Вот же отец его как своих детей любил, – пуще меня, а этот нет, не знаю, в кого и вышел. Уж волос весь седой, а больше года женщина у него не держится… И сейчас с одной живет, так себе, прохладно: он на своей квартире, она на своей. Раз в неделю когда зайдет, ночевать у него останется, а потом опять ее нет… Это уж, я считаю, не жизнь, а так себе… Раз в годы ты входишь и уж волос у тебя заседел, ты об настоящей женщине должен думать, какая бы тебе на старость пригодилась, какая б о тебе позаботилась… Кто об настоящем заботится, о будущем думает? Мужчина, что ли?.. Все женщина… Я вот в чем сейчас хожу? Все в своем старом, прибереженном… Этому пальту на мне, ему не меньше как лет тридцать есть… Кастор тогда на него по четыре рубли аршин покупали, считалось куда дорогая цена… Ну, а мы, хоть бедно жили, однако мы дешевых материй не покупали: скупой, говорится, два раза плотит… И что же вы думаете? Тридцать лет ношу, износить никак не могу… И так все у меня еще от старых времен… Да сыновья с дочерью присылают… Да по ордерам это я своим чередом получаю – полный сундук у меня материи собралось, – это уж советской, нынешней, берегу, конечно, а вдруг опять не будет? На будущее легко не загадывай… А вдруг война? Вот и до тех материй черед дойдет… Война живо все подберет… Она в два, в три года все подытожит, а вдруг она и десять лет продлится?.. Тут успевай только солдат обшивать да рабочих, а прочие кое-как, дескать, проходят… Вот поэтому и берегешь… Что бы ни давали по книжкам, по ордерам, – я все беру, при-го-ди-ится!
– Так что к десяти годам войны вы уж приготовились? – вставил доктор.
– А как же… Раз в газетах пишут: войной да войной нам иностранцы угрожают, – значит, войны не миновать… А разве наши, как при царизме, кому-нибудь уступят, или они с фронта уйдут?.. Наши будут до полной победы, а на это все срок да время… Я и сама, когда газеты читаю, только и ищу, кого каким орденом наградили за работу, а кого – за то, что он полезное изобрел, потому что у меня их четверо, кого надо наградить орденом за работу, а пятый – изобретатель… Вот когда я так газетами интересуюсь, я тогда в комнате сижу, их проглядываю, а то не очень-то я люблю в комнате сидеть… Что комната?.. Тот же, я считаю, гроб, только ростом побольше… Мне, как я тепло оденусь, и холод не особо страшен… Я и в театр когда пойду, и в балете бываю, и в цирке тоже… Дурова тюлень, например, ученый, – как он попа играет! Прямо артист! Стоит перед аналоем таким, а на аналое книга церковная в кожаном переплете, застежки металлические, и бормочет себе, бормочет, как и в самом деле поп!.. Ну, конечно, мое дело старушечье – мне и в церковь никто не воспрещает пройти, певчих послушать… Только я, какие мрачные очень церкви, тех обегаю…
– Одним словом, жить вы любите в свое удовольствие? – буркнул Вознесенский.
– А как же? Я только об этом теперь и забочусь! – очень искренним тоном сказала Уточкина. – Ведь зря, что ли, крови человеческой столько пролили? Все об людском о счастье болели, как его достигнуть… Вот и нашли социализм… Мы вот сейчас ничего, сладкую пищу едим, она и прежде такая пища была, только какие ее ели, те радовались, а какие ее приготовляли, те плакали… Мне и самой раз пришлось над пищей плакать… Это во время того, как голод был повсеместный… Сготовила я тогда детям последнее, что было, – рыбу на большом противне, совсем с чуточкой, совсем с капелькой масла постного… Ну, конечно, в мучице обваляла… Стоит моя рыба в теплой русской печке, железным листом закрытой, а уж вечер – зимою это рано смеркалось, – а тут хозяйка избы той, где мы тогда жили, домой откуда-то явилась и сняла она свои валенки, мокрые, да грязные, да вонючие, сушить их в печку сунула (пощупала, значит, что печка теплая), сунула и опять печку закрыла… А не больше как через четверть часа дети мои, какие тогда со мной были, являются «Есть, мама, что покушать?» – «Да уж на сегодня, говорю, хватит, поедим, а на завтра авось что-нибудь достанем…» Иду это к своей печке, открыла, – что же это, батюшки мои, – чьи-то ноги из моего противня торчат?.. А около никого нету, – хозяйка переобулась, опять ушла куда-то, и спросить не у кого… Протянула я в печку руку со страхом, смотрю – валенки хозяйкины, один и другой… И вся, значит, та грязь, какая на них была, вся-то она на мою натекла на рыбу… Ахнула я и вся сомлела!.. Как же теперь дети мои будут этакое есть?.. А думать долго над этим тогда уж некогда было: они пришли голодные, и они уж ждут, ничего не знают, только тарелками за столом гремят в горнице… Что же я им сказать должна? А они чтобы, день бегавши, голодные оставались через эти валенки бабьи?.. Никак я этого не могу допустить, чтобы голодные были и так спать легли. Взялась я все куски на противне на новый манер перекладывать: какие погрязнее – эти к своему краю, какие почище – на их конец… Кое-как кончила, несу… Подала им, на тарелки разложила, а сама так и стою столбом. А ну как что ядовитое на своих сапожищах хозяйка наша с улицы принесла? Вдруг вот поедят с этим ядом и заболеют? Заболеют да вдруг еще помрут?.. Все это в моей голове мелькает, – стою я сама не своя… Крикнуть им хочу: «Да не ешьте вы гадости этой!» – а голосу никакого нету. Села я тогда с отчаянием да самый какой кусок всех был грязнее, что я обчистить не могла, и ну его чавкать… Все равно, думаю, когда такое дело: раз нам помереть, пускай уж все вместе помрем!.. Сама все на них гляжу, чтобы мне эти валенки грязные в глаза не вязли, а сама чавкаю… И слышу ведь, что под зубами у меня грязь хрустит, а себе же самой втолковываю: «Что ты! Да это же хрящик рыбий…» Так мы все это снадобье и поели дотла… Голод-то что значит!.. Пускай, дескать, я завтра помру, зато же я сегодня сыта!.. И дети мои тоже сыты… Ну, конечно, так вышло, никто из нас и не заболел… Да ведь, признаться, много люди болеют от чего? – от одного мнения…
– Это правда, – согласился Вознесенский. – Был, например, ученый Петенкофер: выпил он стакан воды с холерными бациллами, не допуская и мысли, что холерой заболеет, и остался жив и здоров… к изумлению Коха.
– Вот видите!
– И, однако, тот же Петенкофер покончил жизнь самоубийством… приблизительно в вашем возрасте, – закончил доктор, – даже лет на несколько старше…
– Ну-у… это уж он сделал глупо, – прошмелила старуха.
Доктор затянулся, папироса осветила рыхлую круглоту его почтенно раздавшегося во все стороны носа, старуха докурила свою папиросу, отвернувшись, бросила окурок на мокрую каменную лестницу веранды и спросила:
– Это чей был ученый?
– Немецкий…
– Вот уж не ожидала! А может, это во время войны было, когда начали немцев бить, – ну, тогда уж немудрено было голову потерять, разумеется, если одинокий…
– Гм… Сама мудрость гласит вашими устами, – буркнул доктор.
– Да уж глупой никогда не была… Такие находятся, говорят, что это мне повезло счастье, не-ет, теперь не такое время настало, чтобы глупому да еще чтоб везло!.. Теперь умному по его уму дается…
– Та-ак!.. Так-так… – вздохнул почему-то доктор. – Значит, стоите вы теперь прочнее прочного, как гриб подорешник на пяти ножках… Ваш ум и ваши таланты для меня несомненны.
Старуха не совсем поняла: она спросила с недоумением:
– Это вы об свиньях, об коровах?
– Не совсем о свиньях… Земля, она зыбкая… Она вращается там где-то около солнца, движется куда-то к созвездию Геркулеса, вообще шлендает… Да еще и вертится при этом… Как на такой непоседе свою прочную линию провести?.. Необыкновенно трудно!.. А вам удалось.
– Я и говорю, что удалось, – живо согласилась старуха.
– В хозяйстве вашем бывали потери, как во всяком хозяйстве: хозяйство – живое дело! Один трех лет умер, другого на войне убили, третья на другой войне захватила сыпную вошь, но хозяйство ваше было обширно и поставлено крепко… И дает вам теперь доход неотъемлемый!.. И охотно поменялись бы с вами теперь многие бывшие миллионеры у нас своим положением…
– А как же!.. Со мною вместе пенсию приходит получать один генерал бывший… Я вдова учителя сельского, – все-таки я на два с полтиной больше его получаю! А он, когда генерал-то был, какими небось капиталами ворочал!.. – очень сообщительно подхватила старуха.
– Да, ваше хозяйство себя оправдало… – закуривая новую папиросу, продолжал доктор, – но ведь очень часто бывало и бывает так, что ни шиша из такого хозяйства не выходило и не выходит… Вот, например, я знаю такой случай… Знакомый мой один… тоже врач… (тут доктор глубоко затянулся и закашлял…) тоже было завел… такую канитель… и получилась у него такая история… жена его… она, видите ли, предпочла ему другого… это, конечно, часто случается… а двух детей с собою не взяла, а оставила ему… это уж встречается реже, гораздо реже… Оставила, и вот он… этот мой хороший знакомый… пожалуйте, воспитывайте двух… Мальчику было тогда этак уже двенадцать лет, девочке десять…
– Ведь вот каких уж больших бросила, – покивала Уточкина.
– Больших!.. Если бы больших, а то самый такой возраст… И нельзя сказать, чтобы он не любил их или вообще не заботился… нет, все-таки заботился, как мог… Но, знаете, ведь служба в больнице, практика… вышло так, что он их воспитывал плохо… «Человек – продукт воспитания» – это известно со времен Локка и Руссо… Вышло так, что у них никакого стержня внутри не оказалось, и куда их клонили первые встречные, туда они и сгибались… А революция и потом гражданская война, как вам известно, это уж оказалась такая пробирная палатка, что всякому ставила пробу, какой он стоил… и пройти через эту пробирную палатку всем пришлось, никого она не минула… Конечно, и… этих двух… моего знакомого детей, – они уж в то время были взрослые, – конечно, и их втянуло… и завертело… Оказалось, что драгоценного металла в них было заложено… количество совсем ничтожное… Один метался то к анархистам, то к красным, то к белым, и в конце концов его расстреляли… Другая… с другой еще хуже вышло… та какая-то злостно-беспринципная оказалась… Долго говорить… и не к чему… только она отравилась… и, пожалуй, к другому выходу трудно уж ей было прийти…
Не докурив папиросы, доктор торопливо вынул из портсигара другую, подержал ее в руке и забывчиво кинул, как окурок, на мокрую лестницу.
– И вот, – продолжал он, снова закурив и озарив свой объемистый рыхлый нос, – совсем недавно она является!.. Она приезжает к нему, к этому врачу, моему знакомому, та самая, которая когда-то… оставила его с детьми!.. Нашла!.. Вся провинция в Москву, и она в Москву!.. И, по-ни-ма-ете ли, плюхнулась было к нему с чемоданами!.. Это после двад… вообще долгих очень лет!.. И что-то такое, конечно, совершенно уж неузнаваемое… «Вот и я!..» Здравствуйте, очень приятно!.. Ну, конечно, он ей сказал: «Вы, матушка, ищите себе комнату в гостиницах, если вам зачем-нибудь нужно быть в Москве и если для этого имеются у вас свободные капиталы, а так вот ни с того ни с сего приехать и плюхнуться!.. Мерси покорно!..» Она, разумеется, закатывает истерику, но-о… с врачами истерикой ничего не добьешься, матушка!.. Так и показал он ей порог…
– Все-таки он уж, должно быть, порядочных лет… ваш этот знакомый? – полюбопытствовала Уточкина.
– Конечно!.. Ну, так что же?
– Нехорошо все-таки это он… Женщина ехала с мыслями своими…
– По-ду-маешь, «с мыслями»!.. Эти мысли известные: жилплощадь и паек – вот и все мысли!.. А у него, конечно, квартира при больнице и стол готовый, почему же не плюхнуться?.. И вот разыскала же… Хоть он ее и не искал, так она его разыскала… Мерси покорно!.. Не-ет, он, мой этот знакомый, вполне правильно поступил… Другого подхода к подобному явлению быть не может…
И доктор вторично бросил на лестницу вынутую и незажженную папиросу.
Настала середина сентября, и у многих из отдыхающих кончился отпуск. Они давали остававшимся свои адреса, номера телефонов. Вещи их повезли на подводе на станцию, сами же они шли оживленной толпой между лесом березовым слева и бором сосновым справа, а потом по фабричной слободке, которая тянулась минут на двадцать пять ходьбы. Женщины сообщали одна другой, на сколько кило они прибавили в весе. Ландышева, которая несколько было посвежела, как раз перед отъездом простудила зубы и шла под руку с Шилиным, обмотанная теплым платком.
Шилин только провожал ее, – у него отдых был месячный. До конца месяца оставались и старуха Уточкина, и доктор, и оба аспиранта. На место же Ландышевой на другой день сел бравый артист Молниев, человек высокий, прямой, седой, голубоглазый и сизо-багровый. Его просили что-нибудь прочитать вечером, после ужина. Громогласно и напыщенно он прочитал из Пушкина: «Октябрь уж наступил – уж роща отряхает…» – и потом все дни и вечера проводил в бильярдной. Он оказался самым страстным игроком не только на бильярде, но и около бильярда. Игра его мясистого багрового лица, его плеч и шеи, и довольно еще гибкой поясницы, и колен, и даже ступней ног – так как он то и дело подымался на цыпочки и приседал – была поразительна. Со стороны казалось, что бильярд был его сцена, шары – артисты, он – режиссер, а вся игра – какая-то старая пьеса, полная динамики, конечно, переводная: Гольдони, Гоцци или Лабиша.
Срезали уже капусту, и серый в яблоках битюг возил с огорода к подвалу огромные возы блистающих сочной прозеленью кочанов. Потом объявлен был среди отдыхающих морковный субботник и картофельный воскресник, и старуха Уточкина давала ценные указания, как надо копать картошку, чтобы ничего не оставлять в земле, и как ее надо укладывать в подвале, чтобы не гнила и не мерзла…
Воспользовавшись тем, что все были на огородах, даже и приставленная к ним маленькая пастушка, телята, – их было пять штук, все пузатые, серьезные, лупоглазые, темно-вишневой масти, – забрели в цветники и съели подряд все георгины и бальзамины. Они начинали было жевать башмачки и бегонии, но, по-видимому, эти цветы не показались им настолько вкусными, как те. Лобелию же они вовсе не тронули: должно быть, им не понравились ее голубизна и запах, хотя и принято думать у людей, что голубая лобелия лишена запаха.
Впрочем, цветы вообще уж открасовались, и дворник, сосредоточенный человек с жидкоусым лицом, который, бывало, ежедневно по утрам стриг газоны и прозван был доктором «стригущим лишаем», теперь перестал уже заниматься этим делом.
Подоспели северные ветры.
Кроны тонких, но высоких сосен раскачивались так, что смотреть на них было утомительно для глаз доктора Вознесенского, а он теперь упорно и подолгу просиживал один на скамеечках парка, подняв воротник пальто; сидел и усиленно курил, сжавшись, как тугая пружина.
Это было утомительно для глаз, как бушевало вверху зеленое, точно утонул в море и над тобой бешено прядают огромные зеленые волны, но из Москвы доктор приехал явно для всех подмененный. Он и говорить стал мало, не только шутить, и покинула его игривость, казалось бы, с ним совершенно неразлучная. Односложно отвечая на вопросы, он стал почему-то приставлять старинное «с»: «Да-с, да-с… Нет-с. Точно так-с!..» Ежедневно после обеда он начал уходить на слободку, но приходил оттуда не веселее, чем уходил туда.
Ударил первый чувствительный утренник, скореживший лопушистую ботву свеклы, раззолотивший орешник и такую бронзу и киноварь бросивший в густую листву клена, прижавшегося к южной стене дома, что стройное, еще молодое дерево это сразу приобрело многопудовую тяжесть, и странно было видеть, как под тяжестью этой не согнулось оно до земли.
Студеный ветер загнал всех отдыхающих то в бильярдную, то в гостиную, то в читальню; иные просто ложились в комнатах на свои койки и натягивали на себя одеяла.
– Топить надо… Как же это так они не топят? – начала жужжать Уточкина. – Надо, чтоб у человека кости были теплые, а не так…
Сама она навертела на себя всяческую теплую рухлядь, которую запасливо привезла с собою, и еще более громоздкою сделалась ее медленно двигавшаяся фигура.
Обеденные столы с веранды внесли внутрь дома и разместили в нижних залах; большие входные двери заперли, оставив только узенькую боковую. Начали топить. Черный футбольный мяч переселился со двора в общую залу. Здесь с опасностью для электрических лампочек он начал летать по кругу играющих так, чтобы его, даже подпрыгнув, не мог коснуться стоявший в середине круга, а этот мученик, стремясь все-таки дотронуться до мяча, делал такие нерасчетливые прыжки, что часто под общий хохот падал на скользкий паркет.
Иногда молодежь играла в показательные процессы, иногда в фанты. Бывало, что молодой зал в игрецком задоре вздумает атаковать солидную гостиную, и то ворвется туда Долгополова и крикнет трагически: «Я вице-король Индии!.. Я потерял эту опору британского могущества!» – или аспирантка Соня, бойкая черненькая девица, скромно, понурясь, войдет в гостиную, вздохнет и усядется безмолвно на пол, а следом за нею с испуганными лицами начнут протискиваться все играющие и похоронно смотрят на Соню, пока кто-нибудь не выдержит и расхохочется звонко; тогда вскакивает Соня и опрометью бросается в дверь, а за ней остальные.
В гостиной иногда после ужина устраивались чтения. Доктор Вознесенский никогда не приходил на них, но зато ни одного не пропускала Уточкина, кто бы о чем ни читал, и было или не было это ей понятно.
Она уходила только в половине десятого, когда приносилось в эмалированных ведрах с кухни кипяченое молоко и начинался, как говорили здесь, молокопой. Выпив свое молоко, то есть получив последнее, что полагалось ей за день, она отправлялась спать, чтобы ровно в шесть часов утра проснуться и встать.
В спальне, где, кроме нее, помещалось трое, между ними и библиотекарша Алянчикова, она строго следила за тем, чтобы не отворяли форточку после уборки и особенно перед тем, как ложиться спать.
Когда она входила и видела форточку открытой, она негодовала:
– Что же это за безобразие такое!.. Прямо хоть волков гоняй!.. Дышу и весь пар свой клубящий вижу!.. – и захлопывала форточку гневно.
– Вы что это, староста, что ли, тут у нас? – возмущалась Алянчикова. – Вас, кажется, никто в старосты не выбирал, чтобы вы тут распоряжались!
– Не староста, а гораздо постарше я вас! – не уступала Уточкина. – Советские дрова жгут, помещение нам отопляют, а вы готовы все это тепло на ветер выпустить!.. Кто же вы выходите? Выходите вы настоящий вредитель, вот кто!
– Вот так подвела под статью! – удивлялась Алянчикова.
– И еще я заметила даже, что вы форточку-то отпираете, как будто жарко вам очень, а сами под одеяло с головою!.. Что? Неправда, скажете?.. Только лицемерки так делают!..
– Да разве форточки для того именно открывают, чтобы только холоду напустить? – пытались убедить ее другие. – Форточки для чистого воздуха…
– Знаем, знаем! – перебивала старуха. – Вот и сразу видно, что вы из дворянок!.. Это только дворянки цены не знали дровам да кричали прислугам: «Машка! Открой все форточки настежь, – за-ды-хаюсь!»
И старуха покачивала головой и закрывала глаза, будто стараясь представить вообще всех старинных дворянок, которые в чрезмерно натопленных комнатах задыхаются от жары.
Вставая в шесть часов, когда другие спали, она возилась в своих чемоданах и топала по комнате башмаками очень звучно.
Долго не могли понять Алянчикова и другие, почему так неистово топают старухины башмаки, пока не разглядели, что они на прочных подковках.
Единственное, что иногда обескураживало старуху, это то, что ей начали очень часто чудиться колокольчики, гораздо чаще, чем они раздавались на самом деле, и она ворчала:
– Просто уж даже в ушах бесперечь звенеть стало от этих колокольчиков!.. Ночью от звону просыпаться стала: слышу, звонят, я и просыпаюсь и думаю себе лежу: на ужин ли это идти, или молоко получать?.. А темно еще, и все кругом меня спят, не ворохнут…
Однако если из большого зала, где стоял рояль, доносилась музыка или пение под аккомпанемент рояля, Уточкина неизменно приходила туда и садилась слушать.
Но если день был сильно дождливый и холодный, такой день, когда здешний барометр показывал «великую сушь», а доктор, глядя на него, бормотал про себя: «Гм… ну, не мошенник?.. Вот мерзавец, подлец!..» – если выйти было некуда, старуха усаживалась у своего окна, закрытую форточку в котором она оберегала ревниво, и глядела то на серого битюга, как он вдруг закапризничает от тяжелой или грязной дороги, от дождя ли, который хлещет прямо в глаза, и начинает сосредоточенно бить ногами в передок, а конюх, молодой малый, то ждет, когда он успокоится, то принимается так же сосредоточенно колотить его по голове концами вожжей; то на толпу сезонников-плотников, как они идут с постройки в бору, переминая лаптями грязь, на кухню обедать (обед их был раньше на час); или просто на то, как треплются, выгибаясь, как паруса, гибкие, длинные, с редкими уже листьями ветки берез.
Из ее окна был виден еще и угол оранжереи, где теперь тоже шла какая-то работа: копали песчаную землю, выводили кирпичные устои, – расширяли оранжерею. Этого не одобряла старуха; это казалось ей лишней затеей. И когда в столовой на столах появились заботливо поставленные горшочки с цветущей примулой яркого пунцового цвета, она ворчнула:
– К чему это?.. Только место зря занимают!..
Есть возрасты, которые любят цветы, есть возрасты, которые к цветам равнодушны, но есть и такие, которые сторонятся цветов.
Близко к концу сентября доктор Вознесенский вдруг поехал в Москву, хотя на этот раз не получил никакой телеграммы, просто, может быть, и для самого себя неожиданно, после завтрака надел пальто и калоши и пошел, едва успев буркнуть одной из подавальщиц:
– Надо бы в Москву на денек съездить… так что вы уж тут вообще…
Полагалось заявлять, если кто уезжает на время.
Думали, что он приедет в тот же день к ужину, но он не вернулся.
– Скоро поедете внучат своих нянчить! – сказала старухе как-то Долгополова за столом.
– У меня уж и правнучата есть, – поправила старуха, но добавила живо: – Нет уж, я и внучат не нянчила, и с правнучатами возиться тоже я не желаю… Теперь и ясли, и сады детские, и дома детские, – такая об ребенке забота, что женщина только знай себе рожай.
К концу месяца она стала уж говорить за столом, чего избегала прежде. Только геолог Шорников, произведший переворот в своей науке, оставался гранитно молчалив, как земная кора до и после землетрясения.
Раза два 27 сентября принимался падать настояще-зимний, шапками, снег, повисал полотнищами на деревьях, сплошь покрывал землю, но скоро все-таки таял, а к вечеру стало совсем тепло и тихо.
Лодки вытащили на берег и положили вверх днищами. На бильярде и около него продолжал целыми днями играть артист Молниев, который, когда уходил спать, уносил с собою в комнату и свой любимый кий, из боязни, чтобы как-нибудь не переломил его неумелый игрок. Табаковод Чапчакчи часто показывал, как можно полный стакан воды донести и не пролить ни капли… Этот номер его всегда пользовался успехом, так как все видели, что это действительно очень трудно. Алянчикова сообщала геологу, что она «взяла» из дома отдыха за неполный месяц пять с половиной кило, а до отъезда, который предстоял через два дня, наверное, возьмет все шесть. Пронин убеждал инженера Шилина, что только аспирантура движет вперед науку.
Ходили уже в оранжерею, где распродавались пышные белые хризантемы, и думали, как бы их взять с собой и довезти в Москву; ходили прощаться с бором; приметливей глядели на резные завитушки, щедро украшавшие веранду со всех трех ее широколестничных входов, – словом, все в том или ином направлении подводили итоги своей месячной или двухнедельной жизни в этом уютном доме, рассчитанном всего на шестьдесят человек. Недоумевали, почему не приезжает провести свои последние дни здесь доктор, так неожиданно уехавший в Москву.
Но на третий день после отъезда доктора, к обеду, когда пришли московские газеты, кое-кто обратил внимание на два траурных объявления: в одном мало кому известная московская больница сообщала, как принято сообщать, «с глубоким прискорбием о преждевременной смерти врача Семена Ивановича Вознесенского» и проставила день кремации; другая, где он был консультантом, сообщала о том же самом и теми же самыми словами.
Сначала как-то даже никто почти не хотел и допустить мысли, что умерший – именно этот, их Вознесенский, из дома отдыха.
– Мало ли в Москве Вознесенских? – спрашивала Алянчикова.
– Конечно, Алянчиковых гораздо меньше, – возражал ей Шилин, – но все-таки вы видите сами, читайте: Семен Иванович… затем врач, консультант…
– Может быть и Семен Иваныч, и врач, и консультант, и Вознесенский, и все-таки совсем другой! – поддерживала Алянчикову Долгополова.
– Позвольте, а кто же нам мешает справиться в больнице по телефону? – вспомнил Пронин.
Разговоры по телефону с Москвой тут были всегда очень длительным делом и, кроме большого терпения, требовали очень тонкого слуха и немалых голосовых средств. Но нашлись терпеливые и добились ответа из больницы. Оказалось, что умер не какой-нибудь другой Вознесенский, никому не известный, а тот самый, который недавно сидел за общим столом, презирал чай и выискивал грамматические ошибки в листочках меню.
– Но почему же сказано «преждевременно», когда ему было уж, наверное, за шестьдесят? – спросила Алянчикова.
– А это потому, – объяснил Шилин, – что выпал он из трамвая… Так буквально и ответили из больницы: «Выпал из трамвая»… Значит, попал под прицепной вагон: это бывает.
Когда узнала об этом старуха Уточкина, она открыла было глаза и рот и потянула было к желтому лбу правую руку, но тут же оправилась, покачала головой, как качает умный при виде глупого, и прогудела:
– Вот оно, пивцо-то, до чего доводит!.. А человек был одинокий, несчастный… Ежели ты несчастный, так ты хоть уж не пей!..
Накануне отъезда к ней приехали и старший сын, изобретатель, и дочь, математичка, тоже высокая и тоже пожилых уже лет. И трое монументально высоких и старых, они медленно двигались (мать была в середине) по аллеям парка и вдоль берега речки. День после студеных ветров, разрешившихся снегом, выдался прекрасный, солнечный, яркий. Мать оживленно говорила, поворачивая желтое, но прочное, как из старой кости, лицо то к сыну, то к дочери. Дети почтительно слушали. Может быть, между прочим она рассказала им и о несчастном докторе Вознесенском.
Они приехали, чтобы взять отсюда мать, помочь ей переехать в город, но старуха ни за что не хотела терять еще один остававшийся ей здесь день, который, по всему судя, обещал быть таким же, как и этот, прекрасным.
И день отъезда, действительно прекрасный, наконец, наступил, и все уложили и вынесли свои вещи на подводу.
Аспирант Костюков, который очень располнел за месяц и стал настолько щекастым, что Пронин, двигая лопатками, говорил ему: «Твои, брат, глаза на твои, брат, щеки вот-вот в суд подадут: им из-за щек скоро ничего и видно не будет!» – благодушно спрашивал Уточкину:
– А вы от московского вокзала к себе домой на чем, на автобусе, должно быть, поедете?.. К вам какой номер ходит?
– Вот уж не люблю я эти автобусы! – живо ответила старуха. – Сиди да стукайся головой на каждой колдобашине!.. А ведь этих ям у нас на мостовой сколько?.. Пока домой доедешь, все мысли себе отстукаешь!.. Нет, я уж на трамвае доеду.
– А не боитесь, как доктор, из трамвая выпасть?.. Вот и он, должно быть, не боялся, а выпал же.
– У нас из трамвая выпасть трезвому человеку никак невозможно, – с достоинством отвечала старуха. – У нас линия глухая – мало кто ездит, и даже сидячие места бывают, а не то чтобы все время стоять… Я на бойких линиях и сама не сяду, увечье себе получать; совсем не ради этого я на свете живу.
И в толпе идущих на станцию пригородной дороги она шла медлительным, но спорым, нисколько не отстающим шагом своих негнущихся длинных ног, вполне готовая и к поездке в вагоне электрички, и к посадке в вагон московского трамвая, и к долгой зиме со всеми ее метелями и морозами, и даже к десятилетней войне со всеми империалистами мира.
1931 г.
Конец света*
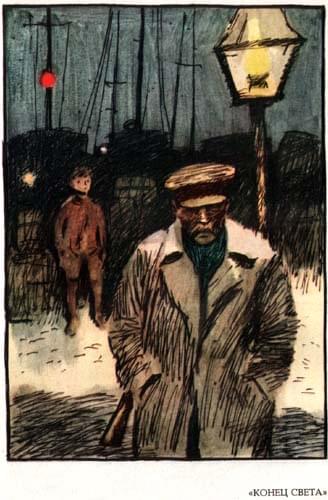
Получив командировку от одной из столичных газет на рыбные заводы и промысла Крыма, Прудников поехал туда не один, а со своим восьмилетним сынишкой Костей: он решил, что и Косте полезно будет познакомиться с промыслами, с заводами рыбного треста, с осенней путиной и со всем вообще строительством, какое попадется на глаза в этой поездке.
– Правда, – говорил он сыну, – очень большая с тобою будет возня по части кормов и ночлегов, но так уж и быть, я пойду на это, лишь бы из моей возни с тобой что-нибудь путное для тебя вышло… Кроме этого, конечно, взять тебя надо еще и затем, чтобы ты дал отдохнуть от своих фантазий твоей мачехе…
– А я чтобы отдохнул от ее фантазий! – живо отозвался на это Костя и добавил: – Правда ведь, товарищ Семен?
Товарищ Семен, отец Кости, подумал несколько и согласился:
– Отчасти, конечно, это правда… Но ты ее извини все-таки: она – женщина нервная, и ясно уж, что свой ребенок для нее дороже тебя…
– Почему?
– Видишь ли, есть законы природы, которые… Трудно с ними бороться неразвитому мозгу… И вообще… Вот наш вагон трамвая – идет на Курский вокзал… Нажми-ка педали, авось на площадку втиснемся…
Так они поехали вдвоем, в начале октября, с багажом очень несложным и легким. В купе плацкартного жесткого вагона Костя мало наблюдал из окна эти пробегающие мимо картины жизни бойких станций, глухих полустанков, удручающе-скучных после Москвы деревень и пустых полей: быстро утомили его их однообразие и бесконечность. Но зато с большим любопытством воззрился он на соседа по купе, очень напряженно, точно тащил он шестипудовый куль, писавшего в измятой тетради какой-то доклад карандашом. Вид этого труженика был действительно самозабвенно свиреп, точно он уничтожающе спорил с кем-то невидимым, выпячивал на него толстые бритые губы, пронизывал его негодующими взглядами из-под насупленных бровей, страшно стискивал зубы и шевелил желваками на очень прочных скулах.
По тем косвенным раздраженным взглядам, какие бросал при этом занятии суровый человек из-под желтых крупных костлявых надбровий, Костя понял еще, что ему больше всего мешают писать соседи слева: какая-то женщина с черными бровями и родинкой на носу и ребенок ее лет четырех, которого звала она Ариком.
Правда, была это очень веселая мать очень бойкого сыночка, и оба они все время хохотали наперебой, потому что играли в желуди. Мать, черноволосая и молодая, все прятала от мальчика эти крупные зеленые блестящие желуди, а мальчик не должен был смотреть, куда она прячет их, однако очень хитро подглядывал и всегда безошибочно лез именно туда, где были спрятаны желуди.
– Жулик! Ловкий ты жулик! – кричала мать, и оба хохотали.
Их игру неприятно было наблюдать Косте, потому что вспоминалась мачеха, которая жила теперь в Москве в их квартире, и мать, которая от них уехала вот уже года два назад и взяла с собой младшего брата Кости, которого звали если полностью, то «Московский институт тесовых ящиков», а сокращенно – Митя. Неприязненно косясь на Арика и его мать, Костя представлял, как так же вот мелькают теперь перед глазами Мити голые до локтей, мягкие, теплые, белые, проворные руки матери и тоже прячут желуди в рукава, в карманы, в дорожную корзинку… Завидно ему, пожалуй, не было, однако казалось ему, что было бы все-таки гораздо лучше, если бы тут в купе вместо этой чернобровой, чужой женщины с родинкой на носу сидела мать, а вместо плутоватого Арика простодушный Митя.
Он знал, что его мать с Митей и с новым своим мужем живут где-то в Харькове, и когда кондуктор прокричал: «Граждане, скоро Харьков!» – Костя очень забеспокоился.
– Харьков сейчас! Харьков! – начал он тормошить спавшего отца.
– А? Харьков? Ну что ж… – перевернулся отец, не открывая глаз.
– Собираться будем! Укладываться! – не отставал от него Костя.
– Зачем? – спросил отец, приоткрыв один глаз.
– Как зачем?.. А куда же мы едем?
– Мы, брат, едем на конец света…
– Где это «конец света»?
– А где железная дорога кончится, там и конец… Там и встанем…
– А это… это близко от Харькова?
– Можешь не беспокоиться… и меня не беспокой… далеко, очень.
Костя долго смотрел на такой знакомый ему с начала его жизни широконоздрый нос отца, плоские бритые губы, глаза с белыми ресницами и круглую голову, остриженную под ноль, и спросил:
– А в Харькове долго будет стоять поезд?
Угадав его следующий вопрос, Прудников ответил на него:
– Нет, к маме твоей мы съездить не успеем: поезд будет стоять всего минут двадцать.
– Вот и Харьков! Смотри – Харьков! – сказала чернобровая своему Арику.
– Харьков! – повторил Арик громко.
– Харьков, – прошептал Костя и кинулся к окну.
И все время, пока стоял поезд, он не отходил от окна и во всей торопливой толпе на перроне огромного вокзала разглядывал только молодых высоких женщин с русыми, подстриженными у плеч волосами.
– Как же это так? Мама в Харькове, а не было ее на вокзале… а? – спросил Костя отца, когда поезд двинулся дальше на юг.
– А зачем же ей было выходить на вокзал? – удивился Прудников. – Я ведь ей не писал, что мы едем и чтоб она вышла к такому-то поезду…
– А почему ты… почему не писал?
– Э-э, почему, почему?.. Она теперь занятой человек… Она ведь не сидит теперь дома, как в Москве сидела, а служит…
Костя задумчиво свернул свиное ухо из полы отцовского пиджака, шевельнул это ухо туда-сюда, но тут же бросил и ничего уж не спросил больше о Харькове.
В Джанкой приехали ночью. Здесь была пересадка на Керчь, самый рыбный из городов Крыма. Костя устроился для спанья в уголку на лавке, и до утра кругом него клокотал вокзал. Пили чай за столиками и столами и что-то такое ели, для чего сами ходили в буфет и оттуда приносили себе то стакан чаю, то бутерброд, а пока ходили одни, оставленные ими стулья занимали другие, и потом подымалась из-за этого голосистая брань. Швейцар спрашивал у всех входивших билеты, кого-то выводил, взявши за шиворот и приговаривая: «Иди-иди отседа! Иди-иди, тебе говорят, отседа!» – и в то же время кричал кому-то в сторону: «Гражданин, без билета нельзя!..» У какой-то старухи украли и билет и деньги, и она голосила на весь вокзал, пока ее не вывел тот же швейцар. Пронзительно свистали паровозы за окнами, и кто-то то и дело откуда-то из-за стены, высоко, под самым потолком, громко, но очень гундосо говорил в черную трубку: «Слушайте! Поезд номер… отходит…» И потом секунд через пять: «Паф-та-ряю! Поезд номер… отходит…» Среди этого гула, и гама, и воплей, и свистков, и «паф-та-ряю!» Костя заснул наконец, а проснулся только утром, когда черная труба «пафтаряла», что поезд на Керчь отходит во столько-то утра, и отец подымал его тяжелую голову с чемодана.
До Керчи, которая от Джанкоя всего в двухстах километрах, поезд, весь из одних только жестких вагонов без плацкарт, тащился целый день. И несколько раз спрашивал отца Костя:
– Когда же будет этот твой конец света, товарищ Семен? Я уж, должен тебе сказать, очень устал ехать!..
Все-таки к вечеру приехали в Керчь.
Рядом с ними, в чрезвычайно густо набитом вагоне, как-то незаметный прежде, устроился плотный обрубковатый человек, и без того коротенький да вдобавок оказавшийся еще и с поврежденной левой ногой: она у него была намного короче правой, отчего ботинок его на левой ноге был какой-то двух- или даже трехэтажный и очень занимал Костю.
Но когда Костя обратился к отцу: «Погляди, – что это?» – и указал ему пальцем на странный ботинок, Прудников широко раскрыл глаза на Костю и покачал укоризненно головой.
Коротенький человек с коротенькой левой ногой сел на какой-то маленькой станции перед Керчью, вот почему Прудников, когда уже показалась вся Керчь, обратился к нему:
– Вы, должно быть, бывали раньше в этих местах, – скажите, вон та гора как-нибудь называется? – и указал на крутую гору, внизу усаженную домами.
– Ну, а как же не называется? – удивился тот. – Это же и есть гора Митридат! А вот то, что на ней зданьице кругленькое белеется, это – памятник ему.
– Кому же это ему? – не понял Прудников.
– Как кому? Самому этому Митридату!
– Ми-три-дат?.. Гм… – начал было вспоминать Прудников и не вспомнил.
– Памятник этот спокон веку тут стоит и уж, почитай, развалился, – объяснил коротенький.
– Ага, – значит, старина-матушка… А море тут какое против города – Азовское или же Черное?
– Перед городом тут не море – пролив… Азовское мы проехали: я с Азовского моря сел, со станции Ташлыяр… А дальше – там, за проливом, Черное пойдет… Ежели через пролив переехать, там же Тамань, – и считается берег кавказский…
– Вот мы с тобою куда, Костик, заехали!
– Это и есть конец света?
– Да-а, отчасти… Граница!.. И Кавказ отсюда – рукой подать… Вот гляди и наблюдай… Ты, главное, набирайся впечатлений, потому что впечатления – это, братец, все! То от моих впечатлений ты питаешься хлебом, а то от своих со временем будешь питаться, когда вырастешь и спецкором будешь… Понимаешь?
– Я понимаю, – отозвался Костя, ожидая большого вокзала и суеты.
Однако ни вокзала, ни суеты в Керчи не оказалось. Подъехал поезд к какому-то маленькому домишке, и люди начали высыпаться из вагонов прямо на шпалы, а коротконогий сказал Прудникову:
– Если вам в гостиницу, то и мне тоже в гостиницу, – можем пойти вместе: гостиница на всю Керчь только одна… Случится если нам койку в общем номере достать, – будет наше счастье…
И пошли втроем. И вместе с ними шли все пассажиры, волоча свои вещи. Дорогой оказалось, что фамилия коротконогого – Пискарев.
Шли долго. Наконец, усталый Прудников сказал:
– Эх, хорошо бы было извозца нанять!
А Пискарев ухмыльнулся весело:
– Ну, какие же в Керчи извозцы!.. Правда, раньше когда-то были…
– Неужели совсем нет? А город как будто широко довольно раскинулся… Сколько тут тысяч жителей?
– С заводом считается тысяч семьдесят…
– Ты слышишь это? – обратился Прудников к Косте. – Запомни! Семьдесят тысяч жителей Керчи обходятся без извозчиков! А завод здесь где, товарищ Пискарев?
– А вон видите, трубы высокие торчат, это и есть металлургический завод… До него отсюда семь километров… Туда машины ходят.
Всего только одна койка оказалась в единственной керченской гостинице в общем номере, и ту захватил каким-то образом Пискарев.
Правда, татарка в красном платочке, ведавшая комнатами и койками, была его хорошей знакомой; она сказала, улыбаясь: «А-а! Товарищ Пискарев!» – и протянула ему в окошечко, за которым сидела, тонкую смуглую руку.
– Послушайте, я спецкор, я приехал из Москвы по командировке… Вот моя командировка, читайте! – пробовал подействовать как-нибудь на эту, красноголовую, от которой зависели койки в общем номере, спецкор Прудников. Однако та, неумолимая, не стала даже и читать командировочной бумажки; она сказала коротко и сильно:
– Коек нет!
– Тогда дайте комнату, – тем лучше будет, а то я с ребенком…
– Ком-на-ту?.. Что вы это, товарищ? Ком-на-ту! – и татарка, поглядев на Пискарева, вдруг рассмеялась такой наивности спецкора.
– Где же мне ночевать? На дворе, что ли?
– Можете ночевать на лестнице, – сказала неумолимая.
– Вот тебе на! На лестнице!
– Что же тут такого?.. Пока еще не так холодно… Ночуют же люди!
– Вот так конец света! – сказал Костя. – На лестнице!
Но товарищ Пискарев отозвался на это степенно:
– На лестнице, на диване… Приходилось и мне как-то так тоже… Кто спать захочет, уснет, конечно… А разве есть такой человек, какой чтобы спать не хотел?
Прудников чувствовал, что ему неудержимо хочется спать. Он сказал примиренно Косте:
– Ничего не поделаешь, брат! Все-таки ведь диван дадут, а не то чтобы прямо на ступеньках… Давай будем платить и располагаться… А то кабы и лестницу кто не занял!
Диван, очень ветхий, ошарпанный и вонючий, оказался на лестнице на втором этаже под аркой, как раз против общей комнаты, в которой счастливый Пискарев нашел себе место. Едва прикрыли этот диван простыней, как тут же бойко пополз по простыне проголодавшийся клоп, за ним другой, третий…
– Смотри-ка, смотри! Это что? – закричал Костя.
– Вижу, – сказал Прудников. – Однако пока только три… И ты знаешь, что я тебе скажу? Похоже на то, что больше тут и во всем диване нет клопов: только три на наше счастье…
– На твое счастье – два, на мое – один, – распределил Костя.
Пискарев, устроившись у себя, тоже вышел на лестницу. Насчет клопов он сказал:
– От клопа какой же может быть вред? Вот сыпная вошь если, это уж действительно! И даже у нас в рыбном цехе был один недавно случай с рыбаком: доктор признал так, – сыпную вошь где-то схватил…
– Простите-ка, это где у вас в рыбном цехе? – встрепенулся Прудников.
– А это где я в поезд сел, возле деревни Ташлыяр… Мы относимся к тресту «Союзрыба», а я этого рыбного цеха заведующий…
– Вот тебе на! Что же вы мне раньше не сказали? Ведь я, выходит, именно к вам-то из Москвы и ехал!
И с Прудникова сразу слетела вся дорожная усталость.
– Вот что, – заторопился он, – давайте возьмем с вами кипяточку – чай и сахар у меня есть, – сядем на этот презренный диван и потолкуем, – идет?
– А где же вы думаете достать кипяточку? – очень удивился Пискарев.
– Как где? Здесь же, в гостинице!
– Здесь его и в заводе нет… Есть тут в Керчи одна чайная, там же, конечно, и печенье могут дать, – только она почему-то до шести часов работает, а сейчас уж восемь… В такое время, как теперь, нигде вы здесь чаю не напьетесь, исключая у кого есть знакомые…
– Вот так история! А утром?
– Утром с восьми в чайной напьемся.
– Значит, Костя, ляжем спать без чаю.
– Я не согласен, – мрачно сказал Костя.
– Ты как хочешь, а мне подвезло: я сейчас о рыбном хозяйстве поговорю… Садитесь, товарищ Пискарев, потолкуем, а?
Пискарев поглядел на него недружелюбно, однако сел на простыню и поджал под себя куцую ногу, спросивши:
– Об себе я должен рассказывать или как?
– И о себе, так как вы – видный работник по рыбной части, и о рыбе, о чем хотите и как хотите, а мое дело слушать внимательно… Костя, а ты ложись спать!
– Ну, вот еще!.. Приехали на конец света, да чтобы спать!.. Я пойду на улицу посмотрю…
– Поди посмотри, что ж…
Костя взялся за скользкие перила лестницы, которые сильно блестели, отражая свет лампочки вверху под аркой, оглянулся на отца, усевшегося рядом с рыбником Пискаревым, у которого и голова, освободившаяся от кепки, оказалась такая же курбатенькая, широкая, как он весь, со скромными косичками светлых волос, – перескочил через одну ступеньку, потом еще через одну и так доскакал до вестибюля, где оказалась неизвестно откуда появившаяся толпа странного вида людей в плащах и то в черных, то в серых шляпах… Толпа эта была молчаливая, однако за нее, за всех этих в шляпах и плащах, кричал какой-то черненький человечек в кепке давешней неумолимой татарке:
– Вы должны были для нас оставить два номера, и мы должны будем получить эти два номера, и все! И не может тут быть никаких лишних разговоров!.. Эти два номера были заказаны по телеграфу позавчера!
– Пускай были заказаны, а в них сейчас живут люди!.. Что, я их должна на улицу выкидать? – горячилась татарка.
– Нам до этого дела нет, куда их вы должны выкидать!.. Мы приехали сюда на двух машинах, и мы знали: тут у нас есть два номера!.. Они у вас есть, товарищ, два свободных номера, и вы их нам даете сейчас же! Иначе я знаю, куда мне надо звонить!
Так кричали минут десять черненький человек в кепке и татарка в красном платочке… А на полу грудой лежали кожаные чемоданы, облепленные белыми и желтыми бумажками.
Наконец, все эти в шляпах и плащах пошли вместе с татаркой наверх, а Костя вышмыгнул на улицу.
– Я раньше в Астрахани и на Каспийском вообще море работал, – говорил Пискарев Прудникову, – а теперь сюда переброшен, чтобы дело здесь наладить… Ну, да мы за рыбой и на Черное море ездиим, вплоть аж до самого Сухума. Теперь уж мы не ждем, чтобы к нам рыба шла, – это прежде так рыбаки дожидались, а мы ее теперь сами ищем… А найти не можем, где ее косяки, – аероплан враз найдет! Ему сверху все решительно видать по цвету: какой вода имеет цвет, когда пустая, а какой, когда с рыбой… С рыбой она показывает намного темнее… Конечно, как теперь все на хозрасчет переведено, приходится нашему тресту много за это платить, а все-таки зато у нас простоев меньше бывает – это раз, а другое – мы можем планировать… А насчет Сухума, например, взять прежние времена и теперь: ведь там же свои лодки есть и свои рыбаки, – а рыба вся у них… Как же мы-то со своими припасами к ним за рыбой гоним? В прежнее время если, да здесь бы смертный бой между нами зашелся, – многие бы увечье себе приняли, как я вот мальчишкой еще у себя на Каспийском… А теперь спору между нами быть не может даже, как хозяин у нас один – «Союзрыба»!
– Хорошо, а рыбакам-то вы позволяете рыбой пользоваться? – спросил Прудников.
– Что касается рыбаков, тем, конечно, приходится позволять, без этого нельзя. Нужно, чтоб и его интерес тоже был, а то он будет, конечно, шаля-валя… Много, понятно, несознательного элемента попадается, – вот почему… Потом то еще ценить приходится, какой рыбак! Хороший рыбак – он знает, где рыба идет!.. Вот хотя бы меня самого взять. Я смальства на рыбе. Был раз у нас шторм… Я своим хлопцам говорю: «Ребята! После шторму обя-за-тельно должна рыба в берега ударяться!» Они, конечно, оспаривают: «Это когда как… Раз на раз не приходится…» Ладно!.. Ну, я раненько утром встал, круг бережка хожу, смотрю – есть!.. А другому покажи, кто этого не знает, – хотя бы вас взять – что вы увидите? Как есть ничего! Вода и вода тихая… А ры-бу – ее под водой надо чувствовать!.. Иду я к своим тогда, бужу: «Спускай, ребята, байды!» Так мы потом – верите? – байду за байдой потом к берегу гнали, а в байде считай рыбы в каждой пятьдесят пудов! Она ведь когда идет, эта рыба, до того плотный ход имеет, – палку в нее встремляй в середину, – стоять будет! Так и поплывет палка стоймя, куда рыба плывет!.. А куда же она ходит, рыба? Это ведь целая история, и все надо нам знать… Икру, например, метать – это она в сладкие лиманы ходит, а как отметается, ее мы не ловим тогда, пускай мяса-жиру нагуляет. Она, как отметается, идет до того унылая, совсем спит на ходу, и что касается жиру, то в ней его ни капли. Всякая рыба, как икру отметает, она нам тогда не годится… Также и шторм, например, взять… Какая рыба покрупней, поздоровей, та может шторм выдержать, а уж что касается мелочи если… султанка, например, если спротив шторма ей придется идти, от нее только одна голова остается, до того из последних сил выбивается!.. А в двадцать седьмом году летом она, барабунька эта, – ну, ее, конечно, и султанкой зовут, – вся чисто подохла! Она мелкую воду любит, около бережка, а вода возьми да враз вся зацвети, – вот она и задохлась. Теперь вот уж сколько лет после того мы ее больших партий не видим, а так только, если попадется случаем в сеть, – даже жалко ее и оставлять, – на развод обратно кидаем в воду… А вот будто в десятом году, – я тут в те годы не был, старые рыбаки говорили, – из Турции штормом пригнало рыбу, – греки ее паламидкой называли, а русские названия не могли подобрать, как они такой подобной никогда не видали. Крупная рыба была, а до чего же, говорят, вкусная, и мясо в ней мягкое, а костей совсем чуть! Сама вроде как мраморная вся… Греки покупают и об ней говорят: «Из какого моря сама рыба, такую имеет и видимость…»
– Из Мраморного, значит, моря? – спросил Прудников.
– Должно быть, так… Одним словом, из Турции… Греки ее покупают, а русские смотрят только: «Кто ее знает? Может, ядовитая!» А как рассмотрели гляделками, что за рыба, – ее уж и на базаре нет!
– Паламидка, значит? – переспросил Прудников и записал в книжечку.
– Так греки называли будто… А вид у нее был совсем как большая скумбрия… Тогда многие себя за чуба дергали, что по глупости своей ее не покупали, а потом уж, как ее распробовали, что за рыба, – она уж ушла в свое море. И вот скажи же: что бы ей у нас тут остаться? Ну, заблудилась, и ладно, и живи у нас, а мы, рыбаки, тобой пользоваться будем, – не-ет! Как это может быть, чтоб рыба да вдруг заблудилась? Рыба свое место знает изо всех! Небось, брат, рыба, она не заблудится!.. Говорят: как это птицы летят и свои гнезда находят? Хорошо, птицы, конечно… Однако же им сверху видать землю, а рыба в воде далеко ли видеть может? А вот же она знает в воде все!.. Если ее шторм куда загонит, это, конечно, ну уж чтобы она назад к себе дороги не нашла в море, – не-ет! На это ума у ней хватает!.. Тем более как она же стеной идет, и зря она не ходит – на какие там прогулки, как человек, – а исключительно по своему делу… Икру метать, например, идет она куда? Обязательно в сладкую воду!.. Вы думаете, не знает она, что на свою погибель идет? Зна-ает, бедная!.. Ведь мы же ее в лиманах везде стерегем!.. Мы один раз коропа на Кубани взяли, – прямо темно! Меряли тогда и весь свой расчет делали как? На кубические метры! И вышло у нас на проценты – пятьдесят пять процентов рыбы и аж только сорок пять процентов воды! Вот что тогда в реке Кубани делалось… Мальчишки на байдарочке подплывут крадучись и тут тебе вилами из воды рыбу кидают, как сено… Ну, конечно, за ними погоня и крики, – они в бегство… Так что мы там тогда, на Кубани, всей рыбы и взять не могли… А когда рыбаки не справляются – бывает и так, что посуды мало, рыбы всей взять не могут, они махало выставляют… ну, такую, как бы сказать, веху, чтобы ее издалька было видать: «Подавай помощь!..» А самая сеть эта, какой мы ловим, называется «акаян»…
– Окаянная? – удивился Прудников.
– Китайское будто бы название: она к нам из Владивостока попала… У нас ведь и плавучий завод есть, а как же! А то ведь очень большие количества рыбы, особенно летнее время, ни за что пропадать должны…
– А рыбакам вы хорошо платите? – задал привычный вопрос Прудников.
– Рыбакам остались мы должны в прошлом году за четыре месяца зарплаты, ну, конечно, вина эта не наша личная… Мы рыбу ловим, мы ее и сдаем, а нам деньги задерживают, – вот какое дело… А кроме того, бывает премия от рыбы, сколько поймают. Вот они и стараются поймать больше… Получается порядочная прибавка!
– Вы у себя там и красную рыбу ловите?
– А как же! На красную мы рыбу крючья по канаве ставим… А канава эта есть действительно такая в Азовском море, с чего она там – неизвестно, и в ней красная рыба – осетрята, белуга залегает, севрюга… Вот на нее и крючья. И так что в тумане, например, выходят рыбаки на байдарках, и должны же они свои буйки найтить… Вот и спросите, как они это могут? Они по компасу, конечно, идут, а иначе им нельзя… Однако всякий свои буйки находит и разбирается, потому тут у каждого интерес: больше на свои крючья поймаешь – больше и получишь… А чужим крючьям, признаться, не так-то много и веры дают…
– Почему же все-таки это? – захотел понять Прудников. – Говорится ведь: в чужой руке кусок кажется больше…
– Насчет куска это действительно, потому что кусок, его видно… А что там в воде, этого не видать… И вот так выходит, что никто себя несчастнее другого не полагает, и на свое счастье всякий надежду имеет.
– Значит, красную ловите и простую… А какую же все-таки простую, как названия? – приготовился записывать Прудников.
– Названия? Рыба, ведь она названий много разных имеет… Судак, например, а его кое-где сулою зовут… Так и называют: крупная – сула, а помельче – подсулок… Также лобан, и кефаль, и чуларка – порода эта одна и та же, все рыбы эти считаются породы одной, только рост у них разный: лобан бывает до четырех фунтов, а кефаль… да больше фунта мне кефали и не приходилось видеть… Ну, да я с судака начал, а на кефаль перешел… Мы же тут мелкого судака зовем чопом, а подсулок у нас – чопик называется… И вот я вспоминал, что барабунька вся потравилась, а сказать вот хотя бы бычок, – почему же, он в той же воде жил, – не отравился? Бычок как тогда был, так и теперь мы его вполне бесчисленно берем… Что же до сельди касается, то, может, вы видали, когда бочонок откупоривают, – она одна в одну лежит, – прямо красота посмотреть! А кто ж это делает? Мы же все это и делаем. Потому что мы, как селедку поймаем, начинается у нас сортировка на восемнадцать разрядов. Каким же манером мы это делаем? Вот каким… Тысяча сельдей в пуде, называется эта сельдь у нас «пудник», и цена ей считается сто десять рублей; дальше: тысяча штук – два пуда, – «двупудник», – цена такой сельди уж двести тридцать рублей; три пуда тысяча, – цена уж четыреста семьдесят рублей… Так у нас считается восемнадцать всего разрядов.
– Вот как! Это замечательно! А восемнадцатый разряд?
– Восемнадцатипудник! Восемнадцать пудов в тысяче селедок… Это уж считается самая головка, и цена такой сельди ложится тысяча пятьсот рублей. Вот какая у нас работа идет! Ты же ее поймай, и ты же ее рассортируй, да смотри не ошибись, а то сбракуют!..
– Значит, вы же ее и солите?
– А как же! Не соленую же мы ее ловим… Солим же мы ее таким манером, чтобы мелкую селедку, например, два-три дня подержать в тузлуке, она и готова, а покрупнее, те, конечно, дольше, а самые крупные, так те даже еще и замораживать надо, как от мороза рыба начинает дубеть, и аж тогда только соль ее может прохватить, как следует, до красной кости… то мы, стало быть, делаем так: на низ мелкий лед ложим и соли, а уж потом рыба кладется! А холодный тузлук рыба уважает… Раз рыба мороженая, она сразу видна: у нее спинка будет как вороная, и сама она – мягкая, как живая, вот-вот поплывет! Совсем живой вид обозначает из себя, если она мороженая… Все это, конечно, надо знать… Пузанок, например, есть у нас, – ему за глаза два дня довольно, так и держим его два дня, а пересаливать ведь тоже не полагается… А почему же не полагается? Потому что от пересола с рыбы весь жир сходит… А если как следует засолить, пузанок до того бывает мягкий, прямо одними губами будете есть, а зубы для чего другого спрячьте!
– Хорошо, а вот вы сказали: тузлук…
– Тузлук мы как делаем? Считается так: десять процентов соли на ведро… Ну, а мы прямо руку в тузлук опускаем, – так и узнаем, годится или еще соли досыпать. А то какие незнающие пробуют так: фунт если соли на ведро, – должно в таком тузлуке яйцо плавать, или там помидорка какая… Бабья примета! Мы где же это должны в море яйца брать или там помидору? Мы этого там не видим, а должны все сделать в натуре. Мы его сливаем, тузлук, и раз ежели пузырьки в нем скакают, значит, готово дело…
– А много ли у вас лодок в вашем именно цехе?
– У нас есть байды и есть судно… На байду пятьдесят пудов клади, а уж больше не зрись, а то пойдешь на дно скумбрию кормить, а судно, оно и пятнадцать тысяч пудов берет… Это все, одним словом, специальность, а так кого-нибудь возьми, не рыбака, он куда же годится? А уж рыбак, какой смальства привычный, он от нас не уйдет, ежель он рыбак природный. Куда же ему уйтить, когда весь его кровный интерес тут? Что он, землекопом, что ли, куда поступит, или по бетону на постройку, когда он рыбак? Он же считается, ну все равно что охотник с ружьем ходит, то и он, такой же охотник. Не то что мы рыбаков ищем, они нас сами ищут! Потому – у них же весь интерес ихней жизни тут, на байдаре, в море. В ночь, в полуночь, когда ехать надо, он дома чесаться не станет: он враз готов и пошел неумойкой – в море, будет время, умоется!
– А пролив тут широкий?
– Пролив Керченский?.. Считается четыре километра всего, и вполне мы его могли бы сетями перегородить и всю в нем рыбу застопорить, какая из Азовского моря идет, только этого делать не разрешается… А вот Кубань, Терек – те перегораживаем во время икромета… А что касается теперешнего времени, то сейчас наши все силы на камсу идут, – камса сейчас в Черное море выходит, и так весь октябрь и, почитай, ноября половину с камсой мы возиться будем…
Когда вышмыгнул Костя на улицу, то его поразило, что улица была почти пустая.
Конечно, народу на ней толпилось довольно, так как это была главная улица Керчи, но москвичу Косте, который привык с самого младенчества к тому, что из-за людей в Москве никогда и нигде не видно домов, даже и главная улица Керчи показалась пустынной.
Вот прошли две цыганки и блеснули на него огромными белками глаз: может быть, они были и не цыганки, но так показалось Косте: сам он был сероглазый и волосы льняные. На цыганках были коричневые платки с голубыми и розовыми цветами.
Вот остановились против гостиницы двое бородатых рабочих с мешками, должно быть плотники, так как из мешков выглядывали у обоих желтые фуганки, но остановились они не затем, чтобы проникнуть в гостиницу: здесь, под сильным светом лампочки в подъезде, стояла девочка лет двенадцати и продавала пару копченых таранок. Один бородатый помял таранку чугунными пальцами, другой прикинул другую таранку на чугунной ладони, много ли она может весить, и оба спросили враз:
– А почем?
– Пять рублей пара, – сказала девочка скромно.
– Без ума ты! – качнулась сердито одна борода.
– Без понятия! – сожалеюще качнулась другая, удаляясь.
И в сторону грязных мешков, из которых выглядывали фуганки, кричала девчонка:
– Что? Дорого? Рогали!
Молодежь гуляла парочками и хохотала гораздо слышнее, чем хохочет та же, гуляющая парочками, молодежь в Москве… Четыре лошади, одна вслед другой, протащили по улице огромные возы грохочущих пустых бочонков, перевязанных веревками. Лошади были большие, и очень звонко лязгали их подковы о круглые булыжники мостовой.
Костя постоял у подъезда гостиницы недолго. Он вспомнил, что они с отцом и рыбником Пискаревым, когда шли от вокзала, подошли сюда слева, и смело пошел налево посмотреть, что там такое сейчас. А там через два-три дома оказался переулок, который вывел его на какую-то большую, должно быть рыночную, площадь. Площадь эта, правда, была теперь пустая и темная, но вдали на ней виднелась какая-то гулкая толпа, освещенная лампочками с карниза двухэтажного дома, и бодро рычали оттуда большие автобусы, как принято у них рычать перед отправлением. Автобусы в Керчи, точно в Москве, это было и привычно для глаз и занятно, и Костя побежал туда к ним и скоро очутился в толпе.
– Куда это едут? – спросил он старуху в платочке.
– Как это куда? Всё на завод же! – и старуха ринулась становиться в очередь.
Переходя от одной людской кучки к другой, жадно глядя и слушая, Костя сам не заметил, как очутился на другом конце площади. Потом, думая, что идет назад к гостинице, он пришел к набережной, где было еще темнее, чем на площади, очень сильно пахло селедкой, сиротливо горел одинокий фонарь, не электрический, а с керосиновой лампочкой. Под фонарем медленно двигался кто-то в серой шинели с ружьем за плечами. Присмотревшись, увидел Костя, что двигался он между рядами новых бочонков, должно быть с селедкой, потому что от них именно и шел запах. Дальше в темноте что-то такое слегка качалось, очень страшное на вид. Это были большие парусные баркасы с убранными парусами, но Костя не понял, что это такое, и на него нашел страх от этой пустынности, темноты, от всего этого чересчур нового, невиданного в Москве, от множества бочонков с сельдями, от унылого одинокого керосинового фонаря и, наконец, от этого, в серой шинели с ружьем за плечами, молчаливо шагавшего.
– Дяденька! – сказал он ему несмело.
Он сказал это не громко, но тот услышал. Костя хотел спросить его, где гостиница, но только успел еще раз повторить: «Дяденька!» – как сторож в шинели сдернул ружье и выставил его в темноту перед собою. Он стоял как раз под фонарем, со всех сторон для него было непроницаемо темно, – слышно было только ему, что близко от него кто-то кого-то, подбиравшегося к бочонкам, чтобы укатить из них один, осторожно звал дяденькой.
– Это кто там смеет? – крикнул сторож, нацелившись в темноту, и Костя испуганно вскрикнул и пустился бежать обратно, а когда, отбежав уже порядочно, оглянулся назад, он испугался еще сильнее, он присел от испуга, припал к земле, как замершая в ужасе перепелка, над которой появился ястреб: звезды с неба вдруг посыпались вниз, туда, в море куда-то, в темноту, в бездонную пропасть, все сразу, все до единой!..
Не одна за другою падали звезды, а как-то сплошь, как падает крупный летний дождь, как идет кефаль в море, только одни из звезд были тусклее, другие ярче, а были и огромные, пушистые, сверкавшие голубым сверканьем.
Если бы Костя заметил это там, в городе, он подумал бы, что это просто забавляется кто-то, пуская ракеты, но здесь, в пустой темноте, некому было пускать ракеты, и отсюда было видно огромное полнеба, а не какой-то жалкий клочок его между крышами домов.
– Что ж это делается такое? Конец света, что ли? – вдруг сзади себя услышал Костя и вскочил с четверенек. Сзади него остановились две женщины с тяжелыми плетеными кошелками: может быть, несли они рыбу.
– Конец света! – подтвердил Костя поспешно и вполне убежденно.
Одна из женщин сказала:
– А ты почем знаешь?
– Мой папа мне говорил… Конец света!
– А кто же это такой, твой папашка? Почем он знает? – тихо спросила другая женщина.
– Он все знает! Он спецкор Прудников!
К небу, с которого поспешно падали все звезды, Костя стоял теперь спиной, женщины же в теплых платках и с кошелками – лицом, и он только по отсвету в их глазах замечал, когда падали особенно большие звезды. Он чувствовал, что дрожал от испуга, но все-таки старался не плакать и спросил искательно, но в то же время и деловито:
– А где, тетеньки, гостиница? Как идти?
На площади потом он бежал на огоньки знакомого уже дома, от которого отправлялись автобусы на завод. И только теперь, добежав до рвавшейся к машинам шумной толпы, он понял, почему все стремились как можно скорее попасть в автобусы: дома у них, конечно, были дети, и надо было их куда-то и как-то спасать, раз падают звезды с неба, – столько звезд, что нет возможности их сосчитать!..
И когда он пробился через толпу на другую сторону площади, то вспомнил, что именно здесь он шел от гостиницы, что до гостиницы остался только небольшой проулок и потом два-три дома на улице.
Он оглянулся все-таки на небо в ту сторону, к морю, не перестали ли падать звезды, нет, они падали по-прежнему.
Когда Костя выбежал на улицу, где была гостиница, он очень удивился тому, что по ней гуляли люди как ни в чем не бывало, и только два старичка, оба в очках, стояли, подняв головы, и один говорил другому:
– Вы помните стихи чьи-то – кажется, Плещеева:
Костя остановился было послушать, что скажет другой старик, но этот другой сказал только:
– Нет, не помню.
– Конец света! – уверенно вставил в их разговор Костя.
Тот старик, который помнил стихи Плещеева, опустил голову, внимательно поглядел на Костю и сказал:
– На-халь-ные какие стали теперь маленькие ребята!.. – И потом оба они медленно пошли в ту сторону, откуда пришел Костя, а Костя вбежал в вестибюль гостиницы и очень изумился, увидя татарку-портье уже не за таинственным окошечком, а под зеркалом на стуле в обнимку с каким-то горбоносым черным человеком, волосы которого масляно блестели.
Рыбник Пискарев оживленно продолжал говорить о том, что сызмальства явилось для него основным делом жизни:
– Судак, например, когда он из Кубани идет, это же что такое, – уму непостижимо! Стена, прямо сказать, на несколько километров растянувшая… Или даже так, будто не река это Кубань, а какая-то уха живая или каша в котелке! И вся эта каша бывает наша!.. А ловим мы ее очень даже просто. Такие сети ставим, – на сто восемьдесят сажен сеть, – и ставим мы ее на якорьях, – тридцать шесть якорьев, – через каждые пять сажен – один, а кроме того, четверо якорьев больших возле котла… А котел что такое?.. Котел, это у нас называется такая… ну, просто сказать, мотня, об двух она крылах и об двух подкрыльях. Рыба, она вдоль сети идет с обоих сторон к середке, – и куда же должна она вся деваться? Больше ей деваться и некуда, только в эту мотню, а по-нашему, в котел… Котел же этот, конечно, должен прочность в себе иметь, – потому напор от рыбы, когда стеной она такой идет, вполне бывает порядочный…
Прудников слушал очень внимательно, иногда ставя кое-какие, понятные только ему самому, значки на память в своей записной книжке, когда появился перед диваном Костя и вдруг закричал испуганно:
– Звезды! Звезды падают в море!.. Все! Все звезды!.. Все падают!..
– Что ты? Какие звезды! Что с тобой? – испугался и Прудников, а Костя кинулся к нему под защиту и, прижавшись, шептал:
– Конец света!.. Конец света!.. Конец!..
Он был похож на помешанного, так что и удобно усевшийся на диване Пискарев поднялся и спрашивал:
– Какие такие звезды падают? Какой конец?
– Костик! Что ты! Чепуха!.. Звезды падают? Это же они часто падают… Чепуха! Не дрожи так! Чего испугался?
– Все падают! Все!.. Ни одной… ни одной не останется!.. – всхлипывал Костя и дрожал, как от сильной лихорадки.
– Ты вот что… ложись-ка спать, а? Ложись, брат, я тебя закутаю как следует, и все пройдет…
Прудников очень растерялся. Он поднял Костю на руки и положил было на диван, но тот тут же вскочил, крича:
– Не хочу! Не хочу спать!.. Пойдем, смотреть будем!.. Все равно уж, пойдем… посмотрим.
Можно было это понять так, что вот пойдем – посмотрим, а потом и нам, как и всем, всем, всем, будет конец, и – тут уж ничего не поделаешь, потому что некуда спасаться, нет спасенья!..
Прудников так это и понял. Он сказал Пискареву:
– Что там такое делается? Надо посмотреть, товарищ Пискарев…
– Что ж, пойдем и посмотрим… Ничего нам это не стоит…
И Пискарев первый заковылял по лестнице вниз.
– Вот! – с торжеством указал Костя отцу на небо, когда они трое вышли на улицу. – Вот, видишь?
– Ничего особенного я не вижу, – ответил отец, – хотя, конечно, кое-где падают.
– Падают, как обыкновенно… кое-какие… – отозвался и Пискарев.
– Электричество тут! Тут не видно!.. Сюда вот идите!.. Сюда!
Костя вывел отца и Пискарева через проулок на базарную площадь. Площадь была темная, и небо над нею, все расчерченное, сверкало от бесчисленно падавших звезд.
– А что? Ага? Вот! – подавленно ликовал Костя.
– Действительно ведь, товарищ Пискарев, падают, да… – удивился Прудников.
– Что падают, то это конечно, а только… Ведь мне и самому сколько разов приходилось это видать в море.
– В самое море падают? – живо осведомился Костя.
– Может, и в море… не знаю куда, в точности не отвечу, – признался рыбник.
Так стояли они и смотрели с полчаса, пока на их же глазах почему-то все меньше и слабее стало расчерчиваться сверху вниз блистающими полосами небо, как будто устало уж заниматься этим, и те звезды, которые сияют на нем испокон века, проступили снова и засияли кротко и спокойно.
– Вот и все… как ничего и не было… – сказал рыбник. – Я вам говорю, бывает, – и сколько разов сам видал, только, конечно, ведь за делом стоишь и внимания на это не обращаешь… Одним словом, звезды, это, вам сказать, не рыба: сколько их падает, а не меньше прежнего остается…
– Поэтому надо идти спать… Ну, Костя, ты успокоился? – погладил Костю по голове Прудников.
Костя не отвечал, потому что не успокоился. Он и уснул не сразу на клоповом диване: сколько ни старался он закрыть глаза как можно крепче, звезды все-таки сверкали и сверкали, падая с неба в море.
На другой день Прудников, показывая везде свою бумажку о командировке, обошел керченские рыбные заводы, и Костя, его сопровождая, узнал, насколько густо пропах селедкой и копченой таранью весь этот город, стоящий на конце света.
А его отец был весел и доволен. Он неутомимо вносил в свою записную книжку с понятной жадностью спецкора всевозможные цифры отчетов и выводы, добытые долгим путем опыта.
Так он отмечал, что «наибольшую ценность керченская рыба, главным образом сельдь и камса, имеет в соленом виде, а маринады из нее получают развитие только в самое последнее время, причем камса в этом виде начинает успешно конкурировать с прославленной килькой»; что «по качеству и упитанности керченская рыба занимает первое место в Союзе и проникает довольно интенсивно на иностранные рынки»; что «пущенный в тридцать первом году холодильник имеет производительность в пятьсот центнеров в сутки»; что «керченское рыболовство дает пять процентов всей рыбной продукции Союза»; что «для обслуживания этой промышленности Рыбтрест имеет бондарные мастерские, вырабатывающие до полумиллиона бочек в год на такую-то сумму, а также корабельные мастерские такой-то мощности…»
Записей этих оказалось у него так много, что пришлось купить новую записную книжку, потолще. Вообще Прудников настроен был очень деловито и проявлял большую энергию в осмотре всех уголков Керчи, имеющих отношение к рыбному делу. Так что к концу второго дня у него составилась уже довольно полная картина рыбной промышленности Керченского пролива. Он даже знал уже, что такое аламаны – сети, пришедшие сюда из Турции, и како-ами – сети, пришедшие из Японии, и скипасти – наследие древних местных греков, и чем они отличаются от закидных неводов, называемых большими волокушами, или от волокуш малых, которыми ловят бычков…
С самоуверенностью спецкора он решил в конце второго дня, что охватил со всех сторон это сложное дело и может считаться недюжинным его знатоком. Он даже заходил, между прочим, и в керченский музей и получил кое-какие сведения о боспорском царе Митридате VI…
– Ну, Костик, – сказал он вечером 12 октября, – переночуем здесь с тобою еще одну ночь, благо уехал к себе домой Пискарев и ночевать мы уж будем не на лестнице, а завтра махнем еще в одно рыбное место, в Балаклаву!
– На пароходе? – спросил Костя.
– Нет, парохода завтра нет, и еще его три дня не будет… Придется нам опять по железке… А из Балаклавы мы уж прямо назад в Москву.
Поезд из Керчи выходил утром, и опять тащился он целый день по крымским зяблевым вспашкам и озимым посевам, и только поздно вечером в полнейшей темноте дотащился он до Джанкоя, где была пересадка на Севастополь.
Заняв столик и приказав Косте деятельно оберегать его стул от покушений, Прудников несколько раз ходил в буфет за чаем, чаепитием же он отвел свою московскую душу и стал мягкосердечен… Так что, когда в зал ожидания зашла толстогубая молодая цыганка в пестрых лохмотьях и швейцар, подскочив к ней, завернул ее решительно назад, Прудников крикнул ему:
– Товарищ! Она такая же полноправная гражданка, как и все!
Прудников думал купить плацкарту на первый же скорый поезд, шедший из Москвы в Севастополь, но свободных мест в этом поезде не оказалось, пришлось ждать другого. Зато скорый поезд привез московские газеты за 11 октября, и в одной из них Прудников прочитал телеграмму симеизской обсерватории, что в ночь с 9 на 10 октября замечено было необычайно сильное и продолжительное падение метеоритов в южной части неба, совсем необычное в это время года. Сообщалось, что наиболее сильное падение, когда насчитывалось до трехсот метеоритов в минуту, приходилось на время с половины девятого до половины десятого вечера и что в Нью-Йорке не могли этого видеть, так как там был день, а не ночь. Тут же высказывалось робкое предположение, что это или пролетала мимо Земли комета, или осколки взорвавшегося небесного тела.
Прудников прочитал это место в газете Косте и сказал:
– Вот видишь, что это такое было!.. Даже и астрономы стали перед этим в тупик!
– Ага! – торжествовал Костя. – Я тебе говорил!.. Я тебе ведь говорил! А какое это небесное тело?
– Небесное тело что такое? Это… какая-нибудь планета, может быть вроде нашей Земли.
– Вроде Земли? Сказал тоже!.. Как же она могла взорваться?
– Ну, просто лопнула и рассыпалась на куски… Вот эти-то куски и летели…
– Как так лопнула?
– Этого уж я не знаю как… Одним словом, мы с тобой видели ее конец… Только не поняли конечно, что это – конец какой-то планеты…
– Пла-не-та? – повторил Костя в изумлении. – Такая же, как Земля?.. Вот так та-ак!..
Немного подумав, он спросил очень живо:
– А на этой планете были спецкоры?
Прудников сказал: «Гм…» – и добросовестно задумался было, но ответил найденно-уверенно:
– Еще бы нет!.. Ведь это была планета, достигшая своей зрелости, – почему она и скончалась… А если она достигла зрелости, то, разумеется, на ней когда-то, очень, конечно, давно, были свои спецкоры!
Джанкойский зал ожидания бурлил, как кипящий котел; то там, то здесь подымалась брань из-за захваченных стульев, и в черную трубу под потолком, покрывая все голоса, добросовестно гундосил кто-то неведомый Косте: «Паф-та-ряю… Поезд… номер… отходит…»
– Это наш поезд отходит? – спрашивал Костя, схватываясь, но отец отвечал:
– Успокойся, это на Москву… А до нашего смело ты можешь отлично выспаться: ложись!..
1931 г.
Устный счет*

В окошко кухни бывшей дачи инженера Алафузова кто-то крепко постучался кулаком или палкой, и тут же слышно стало старику Семенычу – лаяла и кидалась, звеня цепью, собака Верка.
Двое других стариков – Нефед и Гаврила – спали еще крепче, чем стучал кто-то, и только бормотнули и перевернулись на своих топчанах, стукнув костями, а Семеныч спросил строго в окно:
– Какого черта, а-а?
Но ему ответили еще строже:
– Отворяй зараз, а то окно вышибем!
Семеныч почесался, подумал, наконец сказал:
– Обожди, светло зажгу. Шляются, черт их знает!..
У окна были ставни, и, когда он зажигал лампочку, он знал твердо, что тем, с надворья, ничего не видно здесь, – ставни плотные и на прогоничах, поэтому он, зажигая лампочку одной рукой, другою толкал Гаврилу и шептал:
– Эй! Эй! Гаврила, слышь: прячь одеяла!
Дача Алафузова была в пяти верстах от города и над самым шоссе, поэтому часто зимою заходили в нее босяки, идущие мимо, и, как правило, забирали у стариков одеяла. На место забранных старики покупали одеяла все хуже и хуже, однако и их забирали.
От лампочки по низенькой кухне с земляным полом и огромной плитой заметались тени. Бородатый, плешивый Гаврила, худой, длинный, сутулый, начал проворно складывать одеяла – свое и Семеныча – и свирепо шептать Нефеду, старичку маленькому, с кротким безволосым личиком:
– Отдирай доску!
Это уж было заранее обдумано стариками: балки потолка, проходившие внутрь, забрать старыми досками и, в случае ночного страха, прятать одеяла туда, за доски.
И пока свертывали, отдирали, прятали и потихоньку вдавливали гвозди, раза два еще стучал кто-то палкой с надворья, и тот же строгий голос спрашивал:
– Вы что там? Подохли с испугу?
Семеныч молчал, только кряхтел, но, когда одеяла были спрятаны, ответил, откашлявшись:
– Испугу мы, напротив, не имеем… Пугаться нам не к чему.
И отодвинул засов.
Верка залаяла громче, стало слышно, что рвет ветер и хлещет дождь, и в дверь просунулась было мокролицая голова, потом чмыхнула и сказала густо:
– Ну и химия!.. Нехай постоит открывши; прямо катух свиной! Вот так беременные, черти!..
И потом спросил Семеныча:
– Это ты тут за хозяина, горбатый?
– Я не горбатый, друг, это ты словом ошибся! – обиделся Семеныч. – А что расту книзу, – это от годов; семьдесят восемь мне.
– Порядочно.
– А что это они комнату нам выстужают? – крикнул Гаврила, дернув бородою.
– Они сейчас закроют, – успокоительно шепнул Нефед.
Высунулась в дверь снова та же мокрая голова в кепке, посмотрела на Гаврилу, на Нефеда и спросила:
– Окромя вас трех, никого тут нет?
– Окромя нас, пусто, – сказал Семеныч. – Окромя нас, тут саша да горы… да еще море, конечно… А вас сколько явилось?
– Нас хватит… Собака же, видать, не очень злая…
– Собака наша из умных… Глупую бы не держали… Дала знать – и спокойна.
Семеныч застегнул линялую розовую рубашку, обтянувшую горб на спине, переступил босыми ногами и добавил:
– Если входить, то входить, а если раздумали, – воздух вам наш не нравится, – то притворите…
– При-тво-рим!
– Безобразия какая! – ворчал Гаврила зло.
– Они притворят, – шепнул Нефед кротко.
Прошло еще с полминуты, и мокрый человек вошел, но не притворил за собой дверь.
Он обернулся туда, где были темнота, дождь, ветер и звяканье собачьей цепи, и спросил:
– Ну как? Нос воротишь?.. Не нравится тебе берлога ихняя? Черт с тобой, когда такое дело!.. Ночуй в развалюшке!
Обернулся к Семенычу и добавил:
– Товарищу-то моему не нравится у вас… Рядом думает ночевать, в доме.
– Там же, друг, ни дверей, ни окошек не стало уж, – как же там? – и облизнул Семеныч запавшие губы.
– Его дело! Раз воздух свежий любит, нехай там ночует!
Тут всем старикам сразу показалось, что он должен попросить для товарища одеяло, и они переглянулись встревоженно, но он резко и плотно притворил дверь и, когда Семеныч вздумал задвинуть засов, остановил его руку:
– Что-о? Боишься, что украдут тебя?.. Ничего, горбатый, со мной не украдут, – не бойся!
– Ты – мужчина, конечно, здоровый: вид имеешь, – согласился Семеныч и почесал пальцем горб.
Бородатый Гаврила лежал на своем топчане и глядел на вошедшего люто, безволосый Нефед сидел на своем и глядел кротко, хотя и пытливо, а Семеныч подавал ночному гостю, усевшемуся за стол, черствую горбушку хлеба и говорил:
– Так-то вот… Хлеба больше ни кусочка нет… Завтра срок нам выходит за хлебом в город итить, а это было на утро себе оставили… Ну, уж ешь, когда голод имеешь… Мы в двадцать первом сами голодали, знаем.
Гость покачал головой в мокрой тяжелой кепке, взял в очень широкие лапы горбушку, посмотрел на нее презрительно, переломил пополам и сказал густо:
– Вина станешь!
– Вина не имеем, – ответил горбатый.
– Ка-ак это не имеем? Чтоб сейчас было!.. На винограднику сидят, да чтоб вина не имели!..
– Вино же наше в городе…
– В подвале наше вино! – буркнул, кипя, Гаврила.
– В обчественном подвале, – добавил Нефед ласково.
– Ну-к что же, что в подвале? Небось, таскаете для обиходу?
– А вот завтра за хлебом итить, – не миновать ведро вина продавать… А так чтоб бутылочками, там не дозволяют.
И светло-голубыми глазами прощупывал Семеныч карие глаза гостя, не сказал ли он лишнего и верит ли тот, или нет.
– Табаку у нас захочешь просить, тоже не проси: не курящие! – срыву поддержал его Гаврила.
– По старой вере, значит?
– Это уж как знаешь… Не курящие – и все… В шапке в горнице тоже не сидим!
– Шапку, и правда, надо посушить… На-ка, дед, на плиту положь!
И гость снял кепку и подал Семенычу.
Без кепки он оказался молодой малый, не старше двадцати пяти, совершенно круглоголовый, безусый, брови лохматые, а принимая его кепку, Семеныч заметил, что чумарка его на плечах у обоих рукавов лопнула, и не удержался, чтобы не сказать:
– Чумарку, видать, ты по дешевой цене купил, – вот она и лопнула: нитки гнилые.
Гость жевал хлеб и только чуть повел на него глазами, а прожевавши, ответил:
– Вот в городе завтра на работу стану, оденусь… Я бы у вас на перекопке остался, да ведь вы же злыдни…
– Мы уж кончили ту перекопку…
– Хва-тил-ся! – сказал Гаврила.
– Гм… Скоропоспешные!
– А ты как же думал? Мы-ы!.. Нам многие завидуют, а того не знают, по какому мы письменному расчету живем! – гордо сказал Семеныч.
– По письменному?
– А как же?
– А кто же у вас такой письменный?
– Да я все, а то кто же?
И Семеныч вдруг приставил к столу табуретку, уселся, придвинул к себе лампочку и вытащил из стола тетрадь, щедро закапанную постным маслом, и карандашик-огрызок.
– Вот, например, – начал он торжественно, – должен я для точности записать твое имя и твое фамилие… Имя?
– Иван, – ответил гость, усмехнувшись глазами.
– Иван?.. Может быть, и Иван… Вот я пишу: Иван… А фамилие?
– Петров.
– Вот я пишу: Петров… И никаких очков я не знаю, – понял?.. А губернии какой?
– Курской.
– Курской?.. А я – Тверской… Стало быть, пишу: Курской… Стало быть, кому справку понадобится, кто это к нам ночью заходил, я могу дать справку: заходил Иван Петров, губернии Курской… И так что я кому хочешь могу дать отчет… В этой самой тетрадке все есть!.. Примерно будучи сказать, вот наш виноградник… Это нам власть советская вот с Гаврилой вдвоем надел такой дала: по шестьсот пятьдесят саженей на душу, выходит тысяча триста саженей… Сколько кучуков виноградных полагается? Полагается, стало быть, тринадцать тысяч кучуков… Какой же урожай может быть? С куста фунт, – стало быть, тринадцать тысяч фунтов всего!
– Мало считаешь: фу-унт! – сказал гость.
– Ка-ак это мало? – вскинулся старик. – Не мало, а в самую в норму. Это ведь не поливной нам достался – это горовой… А сорта какие? Сорта наши сотерен да алиятик… Мы уж здесь семь лет сидим, им владеем, – больше не дает: фунт с куста… Мы не без ума живем, а с записью… Раз мы налоги платим, должны запись весть… Вот, примерно будучи, подвал… Раньше мы в частном одном подвале вино держали, и считалось так, что за что же он нашего труда двадцать один процент брал?.. Теперь мы в обчественном, – там восемнадцать процентов… А хлеб, какой ты ешь, он на копейку поднялся спротив осени: был шесть, теперь семь… Вот она запись моя, с какого числа он поднялся…
– Что ты мне суешь это? Я сроду неграмотный, – лениво сказал Иван Петров.
– Окромя меня, и тут у нас все неграмотны, – что Гаврила, что Нефед… а я и газеты читаю, – опять же очков не вздевал… Ты думаешь, я кто? Серый?.. Я, брат, у Скобелева-генерала унтер-офицер бывший, и сам он мне, Михайла Дмитрич, Георгия нацеплял!.. Примерно будучи сказать, думаешь – город Ташкент кто завоевал?.. Может, слышал так: генерал Черняев?.. Это пишут так только, будто генерал Черняев, а вовсе не он, а капитан Обух! Обух, вот кто!.. Кто это дело теперь лучше меня знает? Никто не знает!.. А тут мальчишки разные являются, чтобы меня усчитывать и процент налогу составлять!.. «Эх, вы – вы, говорю им, маль-чиш-ки!» А один Теремтеич мне: «Я, говорит, на агронома учился!» А я ему: «А сказку такую знаешь: „Философ да огородник“*»?.. А фи-ло-соф – без о-гур-цов!.. Понял теперь?.. – «У вас, говорит, будет не меньше как триста пятьдесят пудов, а то и все четыреста…» А я ему: «Будет, как будет!.. Знаешь? Музыканты один раз на свадьбу шли, и вот скрипка, она своим манером заливается: „Уго-ще-ние нам бу-у-удет!..“ А флейта своим манером выводит: „Награждение нам бу-у-удет!..“ А бубен знай одно: „Будет, как будет… Будет, как будет!..“ Так на проверку по его и вышло: в три шея их со свадьбы погнали!..»
Очень оживлен был Семеныч. Он уж забыл, что ночной гость, потревожив его, поднял его со сна; он был бодр и бойко поводил коротко стриженной, но отнюдь не лысой головою. И волосы его были еще не совсем седые, а местами заметно рыжели, в усах же и в бороде седины даже не было и заметно, а голубые глаза были очень остры; только губы предательски явно проваливались внутрь, и Семеныч ретиво выталкивал их речистым языком и облизывал, точно смазывал их изнутри.
И бубнил, как бубен.
Когда назвавшийся Петровым доел краюшку, он как будто тут только вспомнил, что чумарка его, как и кепка, насквозь мокра. Он стал стаскивать ее бережно с плеч, но так как она не лезла и трещала, то прикрикнул на Семеныча:
– Си-идит зря!.. Стаскивай потихоньку!
И Семеныч, хоть и метнул недовольно голубым глазом, все-таки помог ему высвободить руки из липких рукавов, а он взвесил чумарку правой рукой, сказал: «Не меньше – ведро воды в ней!» – и разостлал ее на плите очень аккуратно.
– Теперь чаю давай горячего: рубаху на себе сушить буду.
Рубашка у Ивана Петрова была красная, от мокроты почерневшая. Он ее отлепил кое-где от тела и добавил строго:
– Чего, горбатый, задумался? Говорю: чаю становь!
– Чаю не пьем: водичку! – встрепенулся Семеныч. – Водица у нас из колодца. Он хоть не настоящий колодец, считается только… Разве может быть настоящий в таком месте?.. Ну, впрочем, вода ничего.
– А я тебе сказал: чаю!
– Его, чаю-то, в лавках нету! – буркнул Гаврила.
– И в лавках нету, точно… У меня записано, с какого числа его не стало по случаю китайских войн.
Семеныч поспешно перелистал свою книжечку около огонька лампы и ткнул в одну страницу большим пальцем:
– Вот! Есть, а как же!.. «Чаю не продают… Декабря восьмого…»
Иван Петров оглядел поочередно всех трех стариков круглыми карими глазами, покачал точеной головой и сказал насмешливо:
– Вот злыдни-черти!.. Придется тогда рубашку снять… – Тело у него оказалось сбитое, литое, а грудь и руки щедро разукрашены татуировкой.
Семеныч поглядел на эти фигуры и сказал понимающе:
– Ага!.. По морям плавал?.. Поэтому на сухом берегу тебе неудобно.
– Теперь спать, – отозвался Иван Петров. – Ты, горбатый, можешь и край стола прокунять, а я ляжу.
Это обидело Семеныча.
– Почему это такое «прокунять»?
– Да так, ни почему, – ответил Иван Петров, разбираясь в подостланных лохмотьях на его топчане.
Он стащил свои грязные сапоги, поставил их под топчан в голова и лег.
Тут старики все трое подумали однообразно, что он потребует одеяло, и значительно переглянулись, но он сказал:
– Дай воды кружку!
Это было сходнее, Семеныч проворно набрал кружку воды из ведерка. Иван Петров напился и вымыл руки, не подымаясь, и сказал ему:
– Так-то, дед!.. У тебя счет письменный, а у меня умственный.
– Изустный, – почему-то поправил его старик.
– Пусть будет устный, – мне все равно… А теперь, чтобы все спали… Туши свет!
Семеныч шевельнул горбом, но прикрутил лампу и уж в темноте пробрался на топчан Гаврилы и прилег с ним рядом.
– Руки ему, как уснет, свяжем! – шепнул ему в ухо Гаврила.
– Э-э… такому свяжешь!.. Спи знай! – шепнул в его ухо Семеныч.
Иван Петров уснул тут же, как лег; за ним уснули и старики.
Зимою солнце вставало и здесь, на юге, над плещущим холодным морем поздно, как везде.
Уходил Иван Петров от стариков, чуть брезжило…
– Холодное помещение ваше, – говорил он, хмуро зевая. – Хоть бы одеяло, злыдни, догадались дать.
– Не имеем, – поспешно отозвался Семеныч.
– Эх, паршивая жизнь ваша, когда так!.. Собачья!.. Пенсию получаете?
– Считается, – ведь мы по крестьянству, – надел имеем… Какая же может быть пенсия еще нам?
Верка выглянула из своей конуры, но не залаяла на чужого, только чуть звякнула цепью и спряталась.
– Собака у вас умная.
– Собака наша – клад!.. Ежель кто прилично одетый заходит, только глазом его проверит и опять глаза закрывает, – сказал Семеныч. – Вот же и зверь, примерно будучи сказать, а все решительно понимает: раз ежель хорошо одетый, он не вор, не грабитель, – он спокойно себе кого надо найдет, поговорит об чем нужном и опять своей дорогой пошел… А как одежи приличной на ком не видит, на тех она брешет: выходи, смотри, кабы чего не спер: это таковский!
– Верка! Верка! – позвал ее Иван Петров, заглянув в конуру.
Собака не отозвалась.
Старики умывались около колодца. Все еще серое было кругом, невидное. Ряд молодых кипарисов, как солдаты в шеренге, купа миндальных деревьев, как стог сена. Поздно взошедшая щербатая луна еще светила чуть-чуть, и облака около нее мчались сломя голову к востоку, который еще не краснел, а чуть-чуть начинал белеть.
Иван Петров зевнул и хриповато сказал Семенычу:
– Что же, я чувствительность имею, я сознаю: какие люди хотя и очень старые, ну, если они себя соблюдают и на бумажку все выводят, они тоже жить еще могут… В тепле, в сухе и кусок хлеба непереводной… А нашему брату, хотя бы и молодому, – куда податься? Везде скрутно стало. Тут, говорят, не за мою память, людей тыщи кормились на перекопке, а теперь что? У кого какой кусочек земли есть, там и ковыряет.
– Ты – малый, силу имеющий… Тебе бы в артель куда на пристань груз тяжелый таскать, – вот куда, а не то что в земле возиться.
– Ну да, вот об том же и я думаю… Ну, прощай, дед… Может, еще когда зайду на ночевку.
Иван Петров протянул Семенычу руку, и только тут старик вспомнил, как не хотел входить к ним кто-то другой, и спросил:
– А товарищ твой спит в доме все или же ушел уж?
– Товарищ?.. Спит если, пущай продолжает, а ушел – с богом… Угу… места здесь дикие… Этим трактом через горы какая местность будет?
– А там степя пойдут… На Карасубазар дорога… на Феодосию… Степя ровные… А насчет товарища, стало быть, ты сбрехал?
– Может, и сбрехал… Так вот и вся жизнь наша идет: стесни-тельно и без-рас-четно!.. А горы же тут как?.. Не шибко высокие?
Присмотрелся Иван Петров к темневшей гряде гор и сам себе ответил:
– Ну, одним еловом, не Кавказ!.. С тем и до свидания…
И когда пошел он, Семеныч, зорко за ним глядевший, не захватил бы мимоходом лопату или кирку, увидел, что он прихрамывает немного на левую ногу, и сказал фыркающему у колодца Гавриле:
– Обманул он нас – один он был!..
– А я тебе что говорил? – вскинулся Гаврила. – Не говорил я тебе: связать его надо?
– Связать?!. На это ж надо силу иметь такого связать, – кротко вставил Нефед, вытиравший голое личико грязной тряпочкой.
А Семеныч только махнул рукой и, в одежде менее заметно горбатый, в ушатой шапке, семеня двинулся к безоконному дому посмотреть на всякий случай, нет ли там товарища Ивана Петрова.
Он обошел только нижний этаж, на верхний же по сомнительной лестнице не поднимался, да и незачем было подыматься: нигде не было грязных следов.
В этот день дождь начался часов с десяти утра и сначала шел мелкий, ленивый, так что Семеныч говорил о нем: «По-ден-щину отбывает!» Но к вечеру начал барабанить частый, крупный, спорый, и Семеныч, выйдя с объедками к Верке, сообщительно сказал ей:
– Ну, Верочка, этот уж начал сдельно работать… Поэтому, раз твой дом не дает течи, лежи себе спи!..
Но Верка залаяла яростно, когда совершенно стемнело и зажгли уже лампочку старики. От лампочки через дверь ворвалась на двор золотая, пропыленная дождем полоса, а в полосе этой показалась женщина и, подойдя, сказала Нефеду, который стоял в это время на пороге:
– Мир вам, и мы к вам!
– Та-ак… это… по какой же причине? – испугался Нефед.
– Так говорится… Пропускай, не стой в воротах, – видишь: шпарит!
Нефед попятился внутрь, и женщина появилась перед Семенычем и Гаврилой и сказала им певуче, но с хрипотой:
– Не ждали – не гадали?.. Здравствуйте вам!
Она была в плаще поверх теплой одежды. Мокрое лицо ее блестело, плащ тоже, и с него струилась вода.
Нефед закрыл дверь, Семеныч поднялся из-за стола, Гаврила сдвинулся с табуретки, на которой сидел, и опустил вниз длинные руки, соображая, стоит ли ему вытягиваться во весь длинный рост, или не стоит, и три старика разглядывали женщину, каждый про себя решая, учительница она, или агроном, или фельдшерица, или служит она в финотделе, которому оказалось так поздно и в такой дождь неотложное дело до них, живущих уединенно.
Но женщина отстегнула верхний крючок плаща, расстегнула пуговицы пальто и начала стягивать с себя то и другое вместе, а когда промокшее и прилипшее к платью пальто не снялось так быстро, как ей хотелось, она крикнула вдруг низко и совсем хрипло:
– Тяните, что ли, черти!.. Обращения с женщиной не знаете!
К этому добавила она более крепкое, такое, что Нефед кашлянул, Гаврила крякнул, а Семеныч протянул облегченно за всех:
– Ну, во-от!.. А мы-то думали, служащая власть какая!
И услужливо, но не торопясь, помог ей раздеться, предусмотрительно спросив:
– Ты одна или с тобой еще товарищ какой?
– Татарин там, черт!.. На дороге остался… Такая справа паршивая, что переднее колесо сломал…
И женщина тут же хозяйственно стала щупать, тепла ли плита.
– Конечно, без колеса не поедешь, – согласился Семеныч.
Кроткий Нефед заступился за татарина:
– Дорога у нас тут – ямы одни!
А Гаврила спросил мрачно:
– Татарин этот тоже к нам заявится?
– Татарин верхом в город хочет, а линейку бросает… Черт с ним, пускай едет верхом…
И вдруг, как старший, добавила женщина:
– А ну-ка, кто из вас бойчей? Клади дров в печку, отогреваться-сушиться буду!..
– Ну-ка-ет! – подхватил Гаврила. – Ты это нам что – дров привезла?
– Ах, злыдень! – покачала головой женщина. – Видишь – нитки на мне сухой нет? Что тебе, чертушка, двух полен жалко?
– У нас полен не бывает… У нас хворост, – объяснил ей Нефед.
– Ну что ж… Еще лучше!.. Пылко гореть будет… Тащи!
И слегка ударила его по узкому сухому плечу женщина.
Нефед взглянул на Семеныча, – тот кивнул головой:
– Раз человек промок, – первое дело ему сухость нужна…
И Нефед достал в сенях охапку хвороста.
Женщина осталась в одном только ситцевом платье, кое-где голубом, на плечах же, где оно прилипло, темном. Лицо ее, вытертое о кофточку, сплошь зарозовело. На правой щеке оказалась крупная родинка; мокрые короткие русые волосы, прямой нос, серые глаза; не из высоких, не из полных; лет двадцати двух-трех, не больше.
Она сунула руку в карман платья, достала коробку папирос, но коробка размякла, папиросы склеились, и она бросила коробку в угол, сказав Семенычу:
– Верти кручонку, дед!
– Из чего это «верти»? – удивился Семеныч.
– Что-о?.. Та-ба-ку нет?.. Врешь, небось?.. Ну, хоть из махорки валяй.
– А махорки где взять прикажешь?
– Тоже нету?
– Не водится у нас…
Женщина выругалась еще сложнее, и в то время как Нефед покорно ломал на колене хворост, Гаврила ворчал:
– Какого черта!.. Лезет всякий со своими командами!.. Что у нас – гостиница или двор постоялый?
Сухой хворост, брошенный на тлевшие угли, запылал ярко, и женщина начала быстро и ловко расстегивать и стаскивать платье.
В рубашке, обшитой узким кружевом, она стала еще деловитее. Она устроила на табурете перед дверцей плиты свою юбку и блузку и, оглянувшись кругом, где бы сесть, чтобы снять высокие заляпанные грязью ботинки, шлепнулась на топчан Семеныча.
Высоко забросив одну ногу на другую и распутывая шнуровку, она говорила Нефеду:
– Ты, старичок, возьми вон папирос коробку – я бросила, – положи на плиту, они высохнут, ничего…
И Нефед подобрал бережно и положил на плиту раскисшую коробку.
– Все-таки ты откуда же ехала, товарищ? – захотел узнать Семеныч. – Из города или, стало быть, в город?
– Я же тебе говорила, что татарин в город верхом поехал…
– Тут именно может быть разное… конечно, от нас до города ближе все-таки, чем, скажем, до деревни…
– Ду-урной! – перебила женщина. – Стала бы я из города выезжать по такой погоде! Да еще на ночь глядя!.. Вот умница-то!..
– Стало быть, из деревни ты… Так!.. Вчерашний Иван Петров оттуда, и ты оттуда же… Из одного места-жительства…
– Ка-кой Иван Петров? – живо вскинулась женщина, бросив ботинок.
– Должна ты его знать лучше, раз ты оттуда едешь… Прописался у меня – Иван Петров, а там кто его знает… По морям плавал… И нога у него, я заметил, с прихромом.
– Молодой или старый? – еще живее спросила женщина.
– Зачем старый… Старые только мы трое остались, а то все молодые пошли… На руках знаки носит…
– Гм… Тоже сюда к вам заходил?
– Как же?.. Ночевал у нас…
Женщина, нагнувшись, продолжала расшнуровывать ботинки, но очень нетерпеливо, а когда стащила их, поставила на плиту, села к огню, отодвинув на табурете платье, и заболтала задумчиво ногами в тонких грязных чулках.
– Видать мне отсюда, что ты с ним знакомая, – буркнул Гаврила.
Женщина взглянула на него, перевела взгляд серых неробких глаз (они были выпуклые) на Семеныча, потом на Нефеда, который стоял к ней ближе других, и сказала:
– Знаком болван с дураком, – пили вместе чай с молоком…
Поболтала ногой и спросила Нефеда, найдя его более простоватым:
– Он же ведь не один приходил, вдвоем?
– Истинно! – поспешно отозвался Нефед. – Звал кого-сь еще, только мы не видали…
Женщина ударила себя ладонью по колену, но слишком сильно, так, что осушила ладонь и сморщила лицо от боли.
– Соврал, соврал он, дружок: никого с ним не было, вид только делал! – поправил Нефеда Семеныч. – Один в город утром пошел, – я ведь смотрел ему вслед…
– Один? – насторожилась женщина и повеселела.
– Смотрел я, интересовался, – однако один пошел… А хромой он на левую ногу… На пристань в артель хочет, мешки таскать…
– Меш-ки тас-кать?..
Женщина повеселела еще больше, пощупала подсыхавшее платье, подбросила в печку еще сушняку, посвистела задумчиво и вдруг бойко сняла с себя рубашку, объяснивши:
– Черт ее, холодит как спину!.. Пускай провянет!
И распялила ее перед ярким огнем на руках.
Короткие волосы ее подсохли уже и зазолотели, закурчавясь около лба; небольшие круглые некормившие груди бойко смотрели вперед и нежно розовели отсветами печного огня, но ниже их, и на спине, и на руках, и на пояснице, зачернела, точно зарябило в глазах у стариков, обильная татуировка.
Старики кряхтя переглянулись, и Семеныч сказал удивленно:
– Грязь это на тебе, что ли? – и поднес ближе к ней лампочку.
– А что?.. Грязь? – спросила женщина вызывающе.
Вытянув шеи, рассматривали разрисованное тело женщины три старика и увидели, что не грязь: привычной твердой рукой были сделаны рисунки, о которых сказал Гаврила с некоторой веселостью в голосе:
– Ишь ты… вроде бы обои на ней!.. Ци-ирк!..
– Видать… видать, что и ты по морям тоже… – забормотал Семеныч, а женщина спокойно спросила всех трех:
– Как это вам понравилось?
Потом встала, поправила коробочку, сушившуюся на плите, вытащила одну папиросу и сказала Семенычу:
– Держи лампочку ближе, я прикурю!
И, не отрывая глаз от нее, освещенной лампочкой спереди и огнем плиты сбоку, пробубнил Гаврила, покачав головой:
– Во-от!.. Тоже небось чья-то дочка считается!
– Ишь ты, козел потрясучий!.. – повернулась к нему женщина, прикурив и выпустив два лихих кольца голубого дыма, и, придвинувшись к нему вплотную, так что ее колени коснулись его колен, пропела хрипучим речитативом в альтовом тоне:
Все березки поднависли,
Одна закудрявилась, –
Я сама того не знаю,
Чем ему понравилась!..
– Пошла, не вязь! – толкнул ее в бедро Гаврила, но толкнул слабо, а Семеныч, все еще державший лампу, и Нефед крякнули согласно, и женщина по-своему перевела их кряканье, подмигнув:
– Да уж, девка разделистая, только к допотопным попала!
– И как же тебя зовут, девка? – полюбопытствовал Семеныч, ставя наконец лампочку на стол.
– Зо-вут-кой!.. Ишь ты ему: как зо-ву-ут!.. Что ты, мильтон, что ли? – даже как будто обиделась женщина.
– Была у нас в селе, в Тверской губернии, – задумчиво сказал Семеныч, – одна такая бой-девка, ту, я как сейчас помню, Нюркой звали… Очень на тебя лицом схожая…
– Вот-вот… ну, значит, и я Нюрка! – подбросила голову женщина.
– Гм… Ежель Нюрка, значит Аннушка… В таком случае записать надо… А по фамилии ты как? – деловито уже справился Семеныч, доставая свою тетрадку.
И уже взял он непокорными пальцами, как граблями, огрызок карандаша и уставился вопросительно на женщину чересчур светлыми почти восьмидесятилетними глазами. Но женщина, спокойно выпустив одно за другим несколько дымовых колец, подошла к нему, выхватила тетрадку, глянула на ее замасленные исписанные листы, брезгливо протянула:
– Черт-те чем занимается на старости лет! – и бросила тетрадку в печку.
Гаврила поднялся во весь длинный рост, Нефед ревностно кинулся было выхватывать тетрадь, но голая женщина очень легко отбросила его, только груди ее чуть колыхнулись да губы плотнее зажали папироску. Семеныч же был так ошеломлен, что даже не двинулся с места, только рот раскрыл, – и, глядя на этот изумленный рот, женщина громко захохотала, добавив:
– Вот шуты-то гороховые!.. И черт их связал вместе веревочкой!
Вспыхнувшая бумага очень ярко озарила ее гибкое тело, и рисунки на ней так отчеканились, что даже кроткий Нефед сказал в ужасе:
– Бесстыд-ни-ца!..
Гаврила прохрипел:
– Ты!.. Мерзавка!.. Тварюга!..
И оба кулака над нею поднял.
А Семеныч весь задрожал, крича и задыхаясь:
– За хвост ее!.. За дверь!.. За хвост, за дверь!.. За хвост!..
Но женщина только перегнулась в поясе, хохоча, и, когда отхохоталась, оглядела всех троих снисходительно и миролюбиво.
– Чего регочешь? – тряс над ней кулаками Гаврила, но она будто оттолкнула его выпуклым ясным взглядом и отозвалась не ему, а Семенычу:
– Хвост мой сушится!.. У меня теперь хвоста нет, видишь?
Она повернулась к нему спиной.
– Ну, не бесстыдница? – еще больше изумился Нефед.
– Блудница!.. – поправил его Семеныч. – Блудница это к нам!.. Эх, шельма безрогая!.. Мне же эти записки вот как были надобны… Там же у нас все счета сведены!..
Но женщина, докурив и бросив окурок, задев Гаврилу локтем, а Нефеда коленом, скользнула к Семенычу, погладила его по горбу и, заглядывая ему в лицо снизу, как шаловливая девочка, зашептала:
– Дедушка родненький, не серчай, голубчик!.. Ты себе другую тетрадку напишешь, а то эта гряз-ная была прегрязная!..
– Это не сатана нам явился во образе? – спросил Нефед Гаврилу тихо и немного испуганно, и, подхватив это, потянулся к Семенычу Гаврила:
– Перекрестить его, что ль?..
Он занес над головою женщины кулак, и глаза у него стали красные, как у лохматых цепных собак.
Вдруг женщина, обернувшись, прыгнула к нему и обхватила его за шею руками:
– Ми-илый!.. Ну, бей, бей!.. Бей, если хочешь!
И большая надсада была теперь в ее хриповатом голосе и та покорная сила, которая встречается не часто и действует наверняка.
Гаврила, как пойманный, повертел туда-сюда головою, выпрастывая шею, но не ударил, только откачнулся, а она, будто укротительница зверей, обуздавшая самого лютого из них, оторвалась от него сама и села на табуретку, скрестив ноги.
– Разве я бесстыдница? – заговорила она устало, как будто с укором. – Я просто смотрю на вас – люди вы старые, жизнь у вас скучная… эх, и скучная же, должно быть! На меня поглядите, все веселей вам будет… Хата ваша мала, старички, а то бы я вам удовольствие сделала, про-тан-цевала!.. Я ведь танцорка какая!.. Ку-да той дуре грешной!.. Она – жаба, а я – как пух!.. И-и-их-ты!..
Женщина взвизгнула вдруг так дико и неожиданно, что вздрогнули старики, и в чулках, еще мокрых и грязных, всего на двух шагах свободного пространства пола закружилась с такой быстротой, с такими подскоками, с прищелками пальцев, с такими извивами плеч и рук и тонкого торса, что и хотели бы, да не могли отвести от нее глаз три старика. И молчали, только вцепились твердыми костлявыми пальцами кто в доски топчана, кто в свою рубаху.
Они готовы были так смотреть на нее долго, очень долго, и когда оборвала она вдруг и села с размаху, почти упала боком на свой табурет, высоко подымая грудь, Семеныч сказал, чтобы скрыть какую-то неловкость от себя самого:
– Легкая!.. А в сам-деле ведь легкая!..
Но скрыть неловкости не удалось, и он добавил:
– Небось, скажешь: устала, чаю хочу!
– А разве у вас, чертей, водится? – отозвалась женщина, доставая новую папироску.
– Да ведь как сказать-то?.. Пословица говорится: посади свинью за стол, она и…
– Чаю напьется? – сказала женщина, постучала мундштуком папиросы о железную обвязку плиты и добавила:
– Наша сестра больше вино уважает, а чай что? Пойло!
– Да уж лучше же вина ей стакан дать, чем она нам тут дымить-то будет! – вдруг буркнул Гаврила, уставя лохматые глаза в Семеныча. – Ведь всю нам помещению задымит, два дня не проветришь…
– А есть? Ну-у!.. Давай! – живо поднялась женщина и, не выпуская папиросы из рук, вскочила к Семенычу на колени, что вышло у нее чрезвычайно привычно, просто и естественно.
Иные мрачнеют от вина, стареют, но огромное большинство людей вино делает праздничней, болтливее, моложе…
За окном кухни продолжал лить дождь, размеренно затопляя землю.
В плите трещал дубовый хворост, и обильная куча его лежала около.
За столом, над которым сбоку висела на стене лампочка, сидели три старика и женщина с распушившимися русыми волосами, с родинкой на правой щеке.
Она была уже в рубашке, прятавшей татуировку; выпуклые серые глаза ее крупно блестели, лицо покраснело сплошь.
На столе стояла четвертная бутыль вина, скрытая от Ивана Петрова, и вина в ней оставалось уже на донышке.
Лицо Нефеда, маленькое, безволосое, кроткое, скопческое личико, вздулось и набухло в подглазьях, стало непотухающе улыбчивым. Глаза Гаврилы взметывались из-под серых бровей проворнее и хоть еще краснее стали, но смотрели расплывчатей. Семеныч чаще облизывал западающие губы и выпячивал их ставшим неутомимо деятельным языком. Селезневые глазки его запали в узенькие-узенькие и лукавые-лукавые щелки; тяжелая голова часто свешивалась набок и припадала почти к самому столу, а из-за нее выкатывался горб, тоже как будто проявляющий любопытство и внимательность, прекраснодушие и веселость.
Женщина сделалась очень оживлена. Вино она пила жадно и так же жадно – не мог ее остановить Гаврила – сжигала в подпухших губах папиросу за папиросой, пока не опустела коробка. Пеплом около нее был густо засыпан стол, а окурки она ловко бросала через голову к плите, чуть шевеля при этом кистью неслабой руки.
– И какой же ты все-таки губернии? – допытывался у нее Семеныч.
Женщина отвечала бойко:
– Тульская… Ноги курские, ручки харьковские…
Но тут же спрашивала сама:
– А он какой губернии назвался?
– Этот, ночевал который?.. Он мой земляк оказался: тверской, – хитрил Семеныч.
Но женщина залилась смехом:
– Твер-ской!.. Шел такой тверской по Большой Морской, исходил тоской… Если хочешь, дед, про нас в книжку записать, запиши: Неразлучные… Вот!.. Такая наша фамилия… А что эта стерва затеяла, какая сюда к вам зайтить постеснялась, то это ей не удастся, не-ет!.. Врет она!
И женщина сильно ударила по столу небольшим, но плотным кулаком с двумя тоненькими золотыми колечками на указательном и безымянном.
– Хочет в городе на пристань поступить, пароходы грузить, – продолжал Семеныч, склоняя все ниже голову и вывернув короткую шею. – Что ж… Я ему, конечно, сказал: «Ты малый здоровый, ты не сломишься…»
– Ну, вот и хорошо! Он на пристань, а я в кофейню за подавальщицу! – весело подмигнула женщина. – Летом сто рублей на книжку положим, осенью хозяйство свое заведем…
– Нет, брат, теперь уж свое хозяйство не заводят, – хрипел Гаврила.
– А даже последнее продают, – поддержал Нефед.
– Ну, тогда мы столовку откроем, – продолжала шутить женщина. – Он за повара, а я по столикам разносить.
– Гм… Как будто на повара не похож, – сомневался Семеныч.
– Ну да, он больше на кухарку, – подмигивала женщина. – А разве теперь кухарки за повара не работают?
– А вот я повар был так бы-ыл! – вдруг с чувством сказал Гаврила, проволочив бороду по столу вперед и назад. – Не веришь?.. Был! Сурьезно!
– Он был, был, – это верно он говорит, – поддержал Нефед.
Но женщина прихлебнула из чашки вина и спросила безлюбопытно:
– Отчего же бросил?
– Да ведь как сказать-то… Истинно, я сюда в Крым в повара тогда приехал… (Гаврила даже подумал немного, точно ему самому было странно, почему он теперь не повар.) Тогда еще здесь по саше машин никаких не ездило, а только мальпосты называемые ходили – экипажи такие, для всех желающих… И везде по саше станции, а на каждой станции буфет… Вот и я на одной поваром работал, – а как же!.. Я все мог в лучшем виде – и борщи и жарковье… Пилав из барашки – в лучшем виде…
Густые брови Гаврилы поднялись и не опускались, как будто сам он удивлялся тому, что так много можно наговорить неизвестно зачем, глядя на женщину с родинкой на правой щеке и в рубашке, обшитой кружевом.
А женщина спросила безлюбопытно, как и раньше:
– Чего же бросил?
– Зять сбил! Вот кто сбил! – зло ответил Гаврила. – Зять кровельщик!.. Сестру мою взял… «Иди, говорит, со мной по кровельной части, лучше гораздо твое дело будет!..» Лучше!.. Оно, конечно, много посвободней, и на одном месте не сидишь… Десять лет я с ним в кровельщиках ходил… конечно, и покраска наша… Десять лет без малого…
– Бросил? – уже лукаво спросила женщина.
– Да ведь как сказать… Из-за вашей сестры дело вышло: обоюдная драка…
– Это с кем? С зятем?
– Нет, это с другим… Так что посля этой драки пришлось от этого дела отойтить… Сторожем на будку поступил…
– В сторожах на будке и я служил, – как же! – радостно заулыбался Нефед и нежно дотронулся пальцем до свежей кучки пепла, только что свалившейся на стол с ее папиросы. – Ничего, служба легкая в сторожах, ничего… И землей занимался там, – огород был у нас с бабой…
– А баба та где же? – спросила женщина.
– В тифу она, в тифу померла, как же… В тифу!..
И пожал Нефед раза два удивленно левым плечом, а тот самый палец его, который только что нежно касался теплого пепла, теперь робко коснулся лужицы вина около ее чашки.
– А твоя баба? – спросила женщина Семеныча, но тот замахал в ее сторону плоской рукой и морщины около глаз собрал так, как будто ему даже неловко стало.
– Моя баба!.. Моя баба последняя, – если ты знать это хочешь, – потому у меня их всех ровно три было… Последняя, уж она девятнадцать лет, как косточки ее гниют на погосте… Девятнадцать… Даже поболе немного… И скажу я тебе, на двадцать пять годов она моложе меня была, а… говорится: смерть причину знает…
– Уколошматил ты ее, дед, а? Говори правду! – строго сказала женщина и брови сжала.
– Пальцем никогда не тронул!.. Что ты!.. – встревожился Семеныч и даже голову поднял. – Пальцем никогда!.. Я? Что ты меня за изверга почитаешь, чтобы я жену свою бил?.. А-я-яй!.. Вот как на человека другой человек зря подумать может!..
И будто потемнел с лица от обиды Семеныч, только глаза стали еще белее, так что женщина срыву поднялась и чмокнула его в желтую бороду.
И почему-то тут же ухватился за свою бороду – не совсем еще седую – Гаврила и раза два старательно провел по ней ладонью, как будто стала она ему значительнее и дороже; Нефед же вздохнул и пошел подбросить хворосту в печку, чтобы женщине, сидевшей в одной рубашке, было теплей и чтобы как следует высохли ее чулки и ботинки, заляпанные грязью.
Иные от вина только глубже замыкаются в себя, дичают, однако огромное большинство людей становится общительнее, легкомысленнее, довольнее собою, ярче.
Но, может быть, и женщина в одной рубашке, с родинкой на правой щеке и выпуклыми серыми глазами заставляла трех стариков прихорашивать себя хотя бы в прошлом.
Говорил Семеныч, приподняв, насколько мог, голову и напыжась:
– А когда Скобелев-генерал, – а ведь он же, эх, и герой был, – из героев герой! – когда поднял он в руке крест золотой, – второй степени Георгий, – да как крикнет: «А это, братцы-молодцы, тому я только дам, кто у вас из молодцов молодец!..» Фельдфебель было наш, так уж он полагал: ему!.. Эх, чуть в него, в Скобелева, глазами не вскочит… А ротный наш, капитан Можаров, на меня головой кивает: «Вот кто один у меня из молодцов молодец, из удальцов удалец!.. Два креста он уже заработал, не иначе на него и третий целится!..»
– Дал? – спросила женщина.
– Скобелев-то?.. А как же!.. Сам приколол булавкой… По-це-ло-ва-ал при всех даже!..
Тут Семеныч как-то скрипуче всхлипнул, и мокрые глаза у него стали. Но это были слезы радостные, это были гордые слезы; однако, чтобы скрыть их, Семеныч заулыбался и добавил, покрутив головою:
– А новобранец тогда у нас был один, – до чего чуден!.. «С петухом, говорит, или же с конем крест этот тебе дали?..» С пе-ту-хо-ом! И выдумает, серость!.. Это он орла, какие на медалях, за петуха счел!
Гаврила буркнул недовольно:
– Нет уж теперь тех орлов-медалей!.. И кресты тоже в отставку все вышли…
– А прежде я пенсию за них получал!
Гаврила смотрел на женщину быком и вдруг быком же, как будто боднуть ее хотел, нагнул и сунул к ней срыву лысую голову затылком вперед.
– Гляди!.. Клади сюда палец!
И сам захватил руку женщины и поднес к своему затылку.
– Видала, бугор какой?.. Это же кость у меня топором рассеченная была до самого мозгу и опять срослась!..
– Это из-за бабы той? – спросила женщина.
– В девицах она тогда еще была… Думали все, что мне с такой раной не жить… А я топор у него вырвал, да его насмерть!.. А после того только лег я без памяти… Так мне потом говорили в больнице: «Это ж небывалое во веки веков!.. За деньги показывать можно, чтоб с такой раной человека ты убил хладнокровным манером, да еще и жив остался!..»
– А суд был? – спросила женщина.
– Так, проформа одна, – качнул Гаврила бородою. – Это ж обоюдное считается, и топор был его, а вовсе ж не мой…
– А у тебя, старичок, сроду бороды не было? – спросила женщина Нефеда.
– Как не быть? Бы-ла! – ретиво стал на свою защиту Нефед. – Как же человеку без этого?.. И усы тоже носил… Только я у немцев жил, в колонии, одним словом, у них эту привычку я взял – бриться… Эти немцы… известно… у них я жил – беды-горя не видел… Целый год колбасы наворачивал… А что касается пива если, так у них же у каждого бочка в погребице… Бывалыча, сколько хочешь нацедишь себе и пьешь… Это вроде у них за чистую воду считалось…
– Прижали теперь и немцев, – сказала женщина.
– Говорят, что не без этого… А я же у них первый работник был!.. И даже так я у них привык, – по-ихнему понимал!.. Почти я все у них понимал, что они говорили, ей-богу!..
Когда четверть допили, оказалось, что просохли уже ботинки и платье женщины.
Она сказала довольно:
– Ну вот, хорошо-то как!.. А то мне что-то уж холодно стало…
И начала одеваться.
Высокие ботинки свои она зашнуровала не спеша, потом открыла дверь.
– Никак и дождя уж нет, – смотри ты!.. И месяц даже… – сказала она совсем трезво. – Надо бы мне пойти прогуляться…
– Прогуляйся, а то как же, – понятливо сказал Семеныч.
Она оделась, даже застегнула свой плащ, и вышла.
Гаврила начал прибирать со стола посуду. Нефед ломал на колене хворост и подкидывал в печку, чтобы женщине было теплее спать. Семеныч заботливо устраивал свою постель, которую нужно было уступить ей, как самую чистую и удобную. Однако прошло уже минут десять, – женщина не возвращалась.
– Не тошноты ли ей от вина нашего? – встревожился Нефед.
Прождали еще минут десять.
– Не в колодец ли упала? – еще больше, чем Нефед, встревожился Семеныч.
А Гаврила отозвался:
– Что ж мы сидим, как овцы?.. Искать ее надо!
И пошел, как был, в ночь, и со двора донесся его крик:
– Эй!.. Дорогая!.. Ты игде там?..
Лаяла Верка, гремя цепью. Потом вынесли лампочку, столпились все трое около колодца, смотрели в сырую черноту.
Даже ведро пробовали опускать, не зацепит ли, и у всех трех замирали сердца, – нет, не зацепило.
– Бывает, что вешаются, – шепотом сказал Нефед.
Подходили к миндалю и кипарисам, смотрели и щупали… Даже на шоссе вышли, однако шоссе было пусто. Линейки с поломанным колесом ни в ту, ни в другую сторону по шоссе тоже не было видно.
Дней через пять, – установилась уже сухая ветреная погода, – Семеныч проснулся среди ночи от глуховатых, но тревожных пушечных выстрелов. Когда он насчитал их четыре один за другим, – встал и зажег лампочку.
Гаврила бурчал от стенки:
– Вско-чи-ил, черт его знает чего!.. Это же камень бурками рвут!
– По ночам, брат, не рвут, – не сдался Семеныч. – Это – орудие, – ты меня не учи… Это не иначе неприятель какой наступает в тайности… На это обстоятельство выйти посмотреть надо, куда он огонь направляет.
Закутался в одеяло, как в плащ, и вышел.
Северный ветер наскакивал порывами. Ночь оказалась темная, но от города на море лег плашмя луч прожектора. Хотя он не двигался, не рыскал, а лежал найденно, спокойно, смешать его с лунным столбом нельзя было даже с первого взгляда: он расширялся от берега к морю.
Опять бабахнул орудийный выстрел, отраженный водою и потому гулкий, а следом за ним ясно расслышал Семеныч трескотню пулемета.
Он подошел к двери и крикнул Гавриле:
– Так и есть – сражение!.. А ты: «бурки рвут!»
И вот уже все три старика, однообразно закутанные в одеяла, стояли и смотрели на таинственный перст прожектора, твердо указующий куда-то далеко в море.
– Что же это, – наши ли из орудия, а он из пулеметов, или как? – робко спросил Нефед.
– «Он» – это кто «он»?.. Неприятель?.. Ты бы подумал умом, как же ему к чужому берегу подходить без орудиев? – отозвался Семеныч, а Гаврила буркнул:
– Однако что-то покончили, как мы вышли!.. Прохладное очень сражение!.. Должно, комарь тебе в ухо залез, а ты уж – сражение!..
Но тут же расслышали все частое тявканье пулемета и потом новый орудийный гул, на воде державшийся долго.
– Вот они, комари, как поют! – торжествовал Семеныч. – Там небось уж десятки людей на тот свет пошли, а какие – руки-ноги отбиты, тех уж опосля считать будут!
Города отсюда не было видно и днем, – он лежал за перевалом, – и наиболее робкому из стариков, Нефеду, жуткой показалась наконец эта ночь с темным небом, черным морем, треугольным лучом прожектора и непонятной пальбой.
Он поежился и спросил тихо Семеныча:
– К нам какие пули не залетят?.. Нам в помещению, может, зайти?
Гаврила отозвался:
– Известно, – пуля, она глупая… – И повернулся к двери, но только что сделал два шага, как Нефед по-крабьи, бочком, обогнал его и втиснулся в сени.
Семеныч дождался еще одного орудийного выстрела и тоже вошел, когда Нефед с Гаврилой устраивались уже на своих топчанах.
– Похоже так, – начал он знающе, – бьют они по городу с дальней дистанции. А что касается, чтобы нам их бояться, то мы в стороне, мы значенья им не имеем… Хотя бы даже и днем, а не то что ночью, – какая мы для них цель? Так себе, – мурашка мы для орудия…
– Однако слыхал я, – немцы, как война была, и по одному человеку из орудий крыли, – сказал Гаврила.
Семеныч подумал и объяснил:
– Немцы, те, конечно, могли!.. Так, а это ж разве немцы бьют?.. Немцы с нами в согласии, – они не должны… Может, румын какой заблудший… А немцы уж теперь сами как подначальные… Это румын… или же это…
– Прикрути фитиль, когда такое дело, – перебил Гаврила.
В темноте с полчаса еще слушали, не усилится ли пальба, но ни одного выстрела больше не слыхали.
А утром, едва стало белеть, встали и долго осматривались кругом. И хотя никаких изменений не внесла ни во что кругом ночь, все-таки Семеныч, наиболее общительный из трех, колесом выгибая спину и делая шаги короткие, но спорые, двинулся в город.
На полях газеты он записал, что ему надо было купить на обиход, кроме хлеба.
– Тетрадку купить запиши! – подсказал ему из дверей Гаврила. – А то сука все наши счета сожгла.
Семеныч даже обиделся:
– Эх, сказал тоже!.. Про тетрадку как я могу забыть?.. Тетрадка эта, – вся наша жизнь в ней была, в тетрадке, а я чтобы забыл?.. Ска-за-ал!..
Пошел он не по шоссе, а в обход его, тропинкой, по которой спускаться вниз было легко и в свежести, пропитанной кисловатым запахом дубового кустарника, даже приятно. Он то и дело вглядывался в затянутый синими дымами из труб город, – все ли в нем на месте… Как будто все было на своих знакомых местах, но так могло только представляться издали.
Показался в стороне Абла, молодой татарин, чабан, с отарой овец. Отмахнул в море герлыгой и крикнул:
– Бабай!.. Стрелял там ночью, а? Ты слыхал?
– Слыхал, – стрелял малым калибром… А кто это? – крикнул, остановясь, Семеныч.
– Н-ни знаем… Почем знаем?..
– Пойду назад, тебе скажу, кто…
– Скоро здесь не будем, – там будем! – указал герлыгой Абла повыше шоссе.
– Ну, стало быть, там сиди жди… Авось кто другой тебе там скажет, а уж не я…
Чабаны часто приходили летом к старикам за водою, а зимой, когда воды везде было довольно, таскать на разжижку костров сухие виноградные колья. В то же время ссориться с ними было нельзя: это все были ухари, отпетые парни, к тому же быстро дичавшие на свободе и, чуть что, хватавшиеся за ножи. С чабанами у стариков были сложные и запутанные счеты…
Еще с вечера накануне видал Семеныч, как пошли рыбачьи лодки куда-то к востоку, вдоль берега, конечно, за камсою. Теперь он думал, между прочим, и о том, не удастся ли захватить прямо на пристани у знакомых рыбаков два-три кило камсы.
На подходе к городу, на шоссе, у шоссейной казармы, трое пришлых, по виду российских, рабочих разбивали бойкими молотками голубой камень.
Их спросил Семеныч (кстати и отдохнуть постоять было нужно):
– Хлопцы! А вы не знаете, кто это стрельбу поднял ночью?
– Стрельбу?
Один взвел на него запыленное серое лицо и посмотрел на другого.
– Какую стрельбу? – спросил другой.
А третий, мешковатый парень, сказал с ухмылкой:
– Я, деда, правда сказать, слыхал, будто как гром какой-то загремел, да подумал, что это у меня в животе так…
– Мм… В животе!.. Вот что значит молодые – беспечные, – покивал головой Семеныч. – Они в себе сон имеют крепкий и до всего безо внимания!
Однако зависти к ним не было в его глазах цвета снятого молока, – только недоуменье.
И дальше по городу шел он, ни к кому не обращаясь с вопросами о ночной стрельбе, так как все попадались очень молодые люди.
Сначала он поглядывал на дома, – не развалило ли крышу где-нибудь снарядом? – потом перестал глядеть: нигде не было заметно подобного. А когда вышел он к набережной, то увидел – на пристани было довольно густо черно от народа, но воздержался он от вопроса кому-нибудь: на камсу ли это очередь, или касается это тех самых выстрелов ночью.
Море было тихое, и рыбачьи лодки одна за другой шли с востока, а справа, с юго-запада, подходило еще что-то побольше обыкновенной лодки, однако не похожее и на те пароходы, которые заходили иногда сюда зимой: те были и больше и цветом чернее.
Лавки кооператива еще не открывались. Мимо пекарни, где всегда брал хлеб Семеныч, он прошел теперь, чуть оглядев очередь: поспеть на пристань к камсе он считал важнее, а хлеб не уйдет.
Колесом согнутый, он катился, как колобок, как будто и не особенно спеша, но все-таки ходко. И вот, приподнимая шапку и вытирая тряпочкой с лысины пот, он стоит уже на пристани и смотрит то на две рыбачьи лодки влево, которые подходят и в которых серебряно блестит камса, то сюда, направо, где одна лодка, большая, тащит на буксире, – это он теперь уже хорошо видит, – другую лодку, поменьше.
– А это что же такое, товарищ, – или белугу везут? – кивает Семеныч на них красноармейцу-пограничнику, который стоит рядом и почему-то с винтовкой.
– Вот именно, белугу! – улыбается пограничник и поправляет фуражку с зеленым кантом.
– А стреляли ночью это кто же такие и по ком? – понижает голос Семеныч.
– По белуге же, – кивнул пограничник и пошел вперед, раздвигая толпу рукою, а впереди, от других отдельно, разглядел Семеныч еще двух с винтовками.
Потом все они трое стали шеренгой у самого борта пристани и закричали:
– Граждане! Очищай пристань!
Все сначала попятились, потом повернулись и пошли, оглядываясь, к берегу.
– Это зачем же? – спросил на ходу Семеныч какого-то незнакомого.
– Как же иначе?.. Везут же их, – ответил тот.
– Кого же это?
– А по ком ночью стрельба была.
– А-а-а!.. Это на буксире их?
– Разумеется…
– Значит, молодцы наши! – только и успел сказать Семеныч.
Не удалось спросить, какой нации были нападающие: очень напирала сзади толпа, очищающая пристань.
Лодки рыбаков, которые хотели было пристать у пристани, пограничники направили криками дальше, к грузовым мосткам, и толпа сразу разделилась: камсятники повалили к мосткам, а в Семеныче одолело любопытство увидеть, кого выгрузят на пристани.
Он спросил огнелицего извозчика Шахмурата:
– Это что же такое подходит с буксиром?
– Истребитель называется, – ответил Шахмурат.
– А на нем труба погнутая?
– Нет, пушка это… Который стрелял ночью…
Лошадь Шахмурата, редкостной пестрой масти, похожая на зебру, жевала в торбе овес, встряхивая ее так, что овес сыпался наземь, и Шахмурат кинулся к ней с кулаками и криком:
– Ты-ы, худой рот, хартана, черт, – знаешь, почем теперь овес стоит?
Семеныч искал глазами около, кого бы спросить, кто же стрелял из пулемета, если пушка была наша, советская, но к трапу подходил уже, описав пенистый полукруг, низенький истребитель, и в нем зажелтели шинели пограничников.
С зелеными звездами на буденовках пограничники один за другим подымались по трапу, и уже несколько человек их полукругом построились на пристани, когда на истребитель с моторной лодки, взятой на буксир, стали перепрыгивать и потом также подыматься по трапу люди в штатском. Их было семеро, и, показалось Семенычу, между ними две женщины.
Как раз в это время рядом с Семенычем пришелся высокий худой человек в зеленой кепке – Стопневич, бывший при здешнем суде член коллегии защитников, который недавно стал заговариваться, почему и был отставлен. У него пытливо спросил согбенный Семеныч:
– Это какой же именно нации люди?
– Контрабандисты! – отчетливо сказал Стопневич. – При чем тут нация?.. А впрочем, нация, нация… Их будут вести мимо, – мы их рассмотрим, какой они нации…
– А нас тогда не погонят отседа? – осведомился Семеныч вполголоса.
– Куда же нас еще гнать? В море топить, что ли?
Высокий Стопневич имел вид гордый. Лицо бритое, с жилками на скулах, шея очень длинная и тощая, с большим кадыком, виски седые.
Он добавил:
– Сейчас должны пулемет их втащить на пристань.
– Так это они, значит, кон-тра-бан-дисты, из пулемета смолили? – очень удивился Семеныч.
– Они смолили… А по ним из орудия…
– Ну, однако же, все будто живы остались?
Стопневич объяснил важно:
– Так именно и нужно было в них бить, чтобы не попасть!
– А они чтоб в наших из пулемета не попали? – подхватил Семеныч.
– Да-да-да-а!.. Так нужно было ма-нев-ри-ровать, чтобы и они тоже не попали, а потом, конечно, сдались бы в плен… В этом и прошла вся ночь… Э-та операция была проведена вот! (Он сделал вид, что целует пальцы на своей правой, все время энергично двигавшейся туда и сюда руке.) Я следил за этим целую ночь!
Действительно, глаза у Стопневича были воспаленные, красные; видно было, что он не спал ночью. Вдруг он нырнул тощей шеей:
– Ага!.. Пулемет тащат!
Семеныч различил, как двое пограничников втаскивали по трапу части станкового пулемета, и покрутил головой:
– Вот какие отчаянные!.. Это, значит, они от нас уехать собрались, – та-а-ак!.. И в какое же они думали в государство?
– В Турцию, разумеется… И, говорят, много грузу везли… Сейчас выгружать их лодку будут…
Но начальник погранпоста распорядился иначе. Он что-то скомандовал там около трапа и, махнув рукою, пошел впереди, а за ним пограничники, по четыре человека с каждой стороны кучки контрабандистов. Блестели их винтовки, а лица были посинелые, и Семенычу показалось, что с большим удовольствием топали они по прочному толстому настилу пристани, стоявшей на бесчисленных двутавровых балках.
Похоже было, что и контрабандисты тоже довольны были твердой опоре под ногами. Они шли не понуро, – нет, напротив, они глядели вызывающе, они как будто хотели героями пройти мимо глазеющей на них толпы, даже чуть усмехаясь, – так показалось Семенычу.
Пятеро мужчин были все народ плотно сбитый. Семеныч каждого встречал и втягивал в себя зоркими еще, хотя и снятомолочными глазами. И вдруг он замигал изумленно и руку поднял, а другою толкнул Стопневича:
– Смотри ты!.. Ведь Иван Петров!
Он не то что вскрикнул это, но скорее выдохнул это вполголоса, но один из шагавших контрабандистов поглядел в его сторону и как-то шмыгнул носом: действительно, это был тот самый, назвавшийся Петровым.
– Вы одного знаете? – живо схватил за плечо старика Стопневич, но Семеныч глянул на него как будто даже несколько испуганно и проговорил:
– И Нюрка здесь!
Нюрка была теперь укутана теплой шалью, но все-таки лицо ее казалось очень худощавым рядом с лицом приземистой краснощекой женщины с воловьими карими глазами… Семеныч догадался, что эта вторая и была именно та самая, которую Нюрка называла жабой и ревновала к Ивану Петрову. Семеныч успел еще заметить, что назвавшийся Петровым теперь не хромал, а шел молодцевато, и, кивнув на него, забывчиво сказал Стопневичу:
– Должно, тогда ногу натер сапогом: как у нас ночевал, – хромал.
– Вы и еще одну знаете? – нагнулся к нему Стопневич, увидав, что женщина в теплом платке, поглядев на Семеныча, улыбнулась глазами.
Но Семеныч спросил, не ответив:
– Откуда же у них теплая одежда взялась?.. Недавно не было…
– Воры, знаете, найдут, – на то же они и воры! – подмигнул Стопневич, уже не снимая своей руки с плеча Семеныча, и даже гладил это плечо, ускользающее книзу и внутрь.
Кругом была суета толпы и стоял гул ее замечаний по поводу уводимых контрабандистов, но Стопневич, нагнув длинную шею к Семенычу, говорил ему вполголоса:
– Они – люди богатые!.. Если их будут судить гласно, – пусть они возьмут меня в защитники!.. Я надеюсь, – говорю вам честно, – на-деюсь, что от высшей меры я бы их спас!.. Может быть, я сведу даже только к восьми годам изоляции… Меньше будет нельзя, – поймите!.. Контра-бандисты, – уж одно это возьмем – рраз!.. Вооруженное сопротивление – два!.. Чего же вы еще хотите?.. Но раз они вверят мне-е защиту своих интересов, то будьте твердо уверены, что-о…
Толпа шла следом за арестованными, и шли вместе с нею старик и Стопневич, и Семеныч едва улавливал ухом, что быстро и вполголоса, наклоняясь к нему, говорил Стопневич:
– Им дадут казенного защитника… может быть… Но что же такое казенный защитник? Он даже не ознакомится с их делом! На что ему?.. Зачем ему терять на это врем-мя?.. Между тем, как и вам известно, – их, конечно, большая шайка… У них организация… и средства!.. Они могут хорошо заплатить, и зато они получат талантливого защитника, как я!.. Я вел большие дела!.. Я вел громкие дела в свое время!.. Я выступал в Пе-тер-бурге в таких процессах, что-о… речи мои печатались в газетах полностью!.. Это была сенсация, я вам говорю!..
И он, возможно, говорил бы еще очень долго, если бы Семеныч не заметил прямо против себя только что открывшуюся дверь гизовского магазина. Как-то бездумно он вывернулся из-под руки больного бывшего адвоката и шмыгнул в эту дверь, а Стопневич остался на набережной, и толпа повлекла его к воротам казарм пограничников, куда уже вводили контрабандистов.
Разглядывая тетради в зеленых и синих обложках, Семеныч был чрезвычайно оживлен. Если бы он умел говорить так красно и без передышки, как Стопневич, он и здесь рассказал бы подробно, как заходили к ним, трем старикам, на дачу, бывшую Алафузова, в одну ночь мужчина, в другую женщина и как на поверку оказались они кто же? Кон-тра-бан-дисты, которых вот теперь повели под конвоем.
Но, платя деньги за выбранную тетрадь в зеленой обложке, он только подмигнул безгрудому и бесплечему продавцу, с могучим носом и маленькими черными глазками, и сказал, как о чем-то общеизвестном:
– Итак, значит, прищучили их, голубчиков!
Продавец посмотрел на него удивленно и спросил строго:
– Что значит прищу-чили?
– Насчет этих пойманных я говорю, – пояснил Семеныч.
Продавец оглядел его молча и тут же отвернулся показывать ручки какой-то девочке-школьнице.
А по набережной, уже пропустившей всю толпу любопытных, бодро топая, проходили, должно быть, к пристани, где остались пулемет и вся контрабанда, трое пограничников без ружей. Семеныч хотел было спросить их, – для того поспешно вышел из магазина, – здесь ли будут держать арестованных или отправят дальше, но счел неудобным задерживать их, исполнявших приказание по службе.
Можно было бы еще дойти до пристани снова, до тех мостков, где пристали рыбачьи лодки, и попытаться достать камсы, но Семеныч выпустил это из виду, – вернее, он совершенно забыл об этом.
Первое, что сделал Семеныч, когда, подымаясь домой в обед, он присел на горе на камне, был неспешащий, тщательный подсчет страниц в тетради. Оказалось сорок страниц. Сорок страниц чистой белой бумаги – это привело его в восхищение. Так как здесь, на горе, он был один, никто не мог помешать ему планировать эти замечательные сорок страниц не про себя, а вслух:
– Первым долгом – подытожить счета наши, какие были… это одна страница… от силы две… Остается тридцать восемь… Итого тридцать восемь… Об Иване Петрове и об Нюрке записать – две страницы… Итого чистого места останется тридцать шесть страниц.
Эти тридцать шесть страниц он перелистывал и думал над ними долго.
Та тетрадь, которую бросила в огонь Нюрка, заполнялась им два с половиной года. Эта должна была, по его расчетам, хватить года на три: на каждый год по двенадцати страниц – страница на месяц.
Он подсчитал, что к тому времени, как он испишет эту тетрадку, ему будет идти уже восемьдесят второй год. Может быть, и очки пропишет ему тогда глазной доктор Бервольф. Если недорогие, придется все-таки купить, а то он и сам замечает, что все крупнее выходят у него буквы и цифры, особенно по вечерам, при лампе…
Гаврилу и Нефеда, придя домой, он застал на винограднике. Он сказал им, подмигнув лукаво:
– Ежель с камсой меня ждете, то не надейтесь: не достукался я камсы… хлеба и то еле успел из-за народа… И откуда его к нам столько набирается, – пришлые…
Поговорили о камсе, много ли все-таки ее привезли рыбаки и почему нельзя было достать, – потом спросил кротким голосом Нефед:
– А насчет стрельбы что тебе сказали?
Тут Семеныч – спина колесом, борода зеленая, глаза снятомолочные – хитро выждал время и ответил таинственно:
– А стрельба эта оказалась в изустный счет.
Усталый от подъема в гору, Семеныч хотя и чувствовал сильное желание прилечь на свой топчан, – как он всегда делал с приходу, – теперь стоял, скрестив руки на набалдашнике палки, им же самим вырезанной из крепкого корявого граба.
– Учебная, значит? – захотел догадаться о стрельбе Гаврила.
– Вроде маневров? – спросил Нефед.
– Одним словом, иностранного какого неприятеля не было, – наслаждался их догадками и подмаргивал Семеныч, – а был только называемый внутренний враг.
Вечер этого дня был вечером большого совместного напряжения памяти трех стариков: нужно было восстановить все счеты, учеты и расчеты, которые были в сожженной тетради, знаменовали прошедшее и должны были послужить будущему.
Семеныч помнил все-таки больше других, и он отбирал, он просеивал, он не хотел смешивать неважного с важным, главное, он всячески экономил место в новой тетради, страницы которой были так девственно чисты.
Известно, что старики бывают болтливы, как дети, но они часто бывают и лукавы, как дети. Семеныч все-таки рассказал о том, что стреляли из орудия по моторной лодке контрабандистов, на которой исправно действовал пулемет, он описал подробно, как выгружались на пристани пограничники и семеро контрабандистов и как повели вторых «под свечами» (так в старину, когда служил он сам, назывались штыки конвойных), но он умолчал о том, что двое из захваченных были Нюрка и Иван Петров.
Он почему-то решил поскупиться на новости, как расчетливая мать на конфеты для ребят: не все сразу. Он хотел рассказать им об этом последнем завтра, когда на две страницы тетради будет занесено им все, что он знал об этих двух людях, отмеченных синими знаками на коже.
Смолоду с головой ушедший в казарменную дисциплину, исполнительный, старательный, отличенный начальством, он вышел в свою долгую жизнь для всякого места по мерке: начальство его часто менялось, исполнительность его оставалась неизменной. И в поздний десятый час (Нефед и Гаврила уже спали) Семеныч у лампочки, очень близко подсунув к ней чернильницу и тетрадь, как бы в пререкание вступил с этими двумя сторонниками устного счета, из которых один назвался Иваном Петровым, другая – Нюркой. Он даже забывал временами, что они еще молоды, что каждый из них втрое моложе его. Он знал только, что жизнь их уже окончена, – очень скоро придет к последнему концу. Он не думал даже, что будут их судить публично, что какой-нибудь Стопневич скажет речь в их защиту. Он решил, что оправдания для них нет и милосердия они не стоили, – и то, что писал он теперь, стараясь писать как можно чище и красивее, было немногословно. Он записал, как пришел один ночью, другая пришла вечером; один ночевал и ушел утром, другая ночевать не осталась и ушла ночью; на теле у обоих знаки. О том, что первый ел у них хлеб, а вторая пила вино, и что оба сушили у плиты платье, он умолчал, как о не имеющем значения. Но, как одержавший над заблудившейся молодежью победу, он вступил в поучительный тон. Он начал торжественно, как будто оба они стояли теперь перед ним и слушали:
«И вот ты, Иван, и ты, Нюрка, – теперь вы узнали оба: человек должен иметь план своей жизни. Людей очень стало большое количество, размножились до чрезвычайности, и которые без плана своей жизни, те должны будут без всякого семени пропасть. Тетрадки делаются одна в одну, – сожгла ты, Нюрка, мою тетрадку, – вот я другую купил, а ты себе жизню другую не купишь, знай это теперь: жизня дается на один нам раз…»
От волнения лицо Семеныча горело. Ему представлялось даже, что не заговаривающийся Стопневич, а он сам произносит речь на суде, и все семеро, не только Иван и Нюрка, и судьи за столом, и множество народа на скамейках – все его слушают.
И когда залаяла вдруг неожиданно Верка, – сразу неистово почему-то, – он вздрогнул, и сердце его как будто опустилось чуть ниже и забилось слышнее и чаще.
Он подождал, не остановится ли Верка (могла набежать и убежать чья-нибудь шалая или чабанская собака), – но нет, Верка рвалась на цепи и кидалась: было ясно, что подходил кто-то к домику не с доброй целью.
Просушив поспешно свою тетрадь над лампой, сложив ее и аккуратно заткнув пузырек с чернилами, Семеныч послушал у дверей.
Сквозь лай он услышал громкое: «Здесь ли?» – и ответ знакомым голосом: «Да здесь же, – это мне известно!..» Потом постучали чем-то твердым в окно.
– Прячь одеяла! – прошипел Семеныч Гавриле и Нефеду, поднявшим ошалелые головы; в окно же он сказал как мог спокойно: «Сейчас!»
Потом началось быстрое и привычное: одеяла комкались и засовывались под доски на потолке, а гвозди прибивались толчками снизу.
– Эй!.. Открывай! – крикнули снаружи нетерпеливо.
– Сею минутой!..
Когда Семеныч увидел, что спрятаны одеяла, он отодвинул дверной засов, и первым вошел приметившийся ему сегодня на пристани начальник погранпоста, молодой, сероглазый, с двумя квадратиками на зеленых петлицах шинели; за ним пограничник в буденовке, потом инспектор уголовного розыска, маленький казанский татарин, Шафигулин, и, наконец, высокий и, видимо, прозябший в своей зеленой кепке, – из трех наиболее неожиданный и непонятный – Стопневич.
– Этот самый? – кивнул ему начальник погранпоста на Семеныча.
– Ну, разумеется… Ведь я же знаю… – отвечал Стопневич, пожав плечами и кисло выпятив губы.
Начальник погранпоста сморщил нос так, что стал он совсем узенький и снизу белый, и сказал Семенычу:
– Мы, гражданин, должны тут у вас произвести обыск… По полученным нами сведениям, у вас тут был притон контрабандистов… Надеюсь, вы ничего против обыска не имеете, а?
И он закурил папиросу и опять зажал ноздри до белизны, а перепуганный насмерть Нефед исподлобья косился на потолок, откуда свисал кроличьим ушком уголок его одеяла.
1931 г.
Кость в голове*

Колокольчик куриного совхоза, как всегда, в пять вечера прозвонил заливисто, и сезонники, строившие брудергауз, пошабашили. Плотники продули рубанки и фуганки, штукатуры вытерли стружками лопаточки, кровельщики, покрывавшие крутые опалубки крыши чересчур обильно просмоленным толем, пытались оттереть руки влажной глиной. Наконец, небольшими кучками, по три – по пять человек, они потянулись к своему бараку лесной, обрывистой, очень крутой тропинкой в гору.
На том месте, где образовался совхоз, когда-то, до войны еще, вздумали основаться немцы из колонистов и построили с десяток домов из здешнего диорита; выкопали колодцы, в которых во время дождей держалась вода, а летом пересыхала; завели фруктовые садики и винограднички. Во время войны немцев этих отправили в Уфимскую губернию, бесхозяйственные дома разрушались.
Но один дам, получше других и попрочнее, двухэтажный, с башенкой, стоявший на тычке, похожий не то на перечницу, не то на чернильницу, обратил внимание проезжавшего по шоссе одного из видных работников птице-треста, и вот, в недолгом времени, в нем именно, в этом уцелевшем доме, образовалось ядро совхоза, носившего имя той горы, на которую его нечаянно взнесло.
Впрочем, не только люди, но и тысячные стада леггорнов могли досыта любоваться отсюда бескрайным морем на юг и вершинами Яйлы на север, так как эти вершины были все-таки куда более величественны и серьезны, чем та круглая и уютная гора, на которой вздумали разводить итальянских кур.
Вид отсюда был богатый, и два штукатура, немолодых уже, жестколицых, морщинистых, сутулых, усевшись поодаль от других, куря кручонки, дым пускали кверху, чтобы не мешал он им глядеть кругом, и, может быть, ощущали несознаваемую ясно подавленность перед тем, что сзади их каменно подымалось, а спереди без конца синело. Если бы на море и ходили сейчас волны с двухэтажный дом высотой, разглядеть этого отсюда было бы невозможно: синь и гладь, которая скоро должна была зазолотеть, так как солнца оставалось немного.
Одного из штукатуров – несколько повиднее, посырее, поплотнее и поусатее – звали Евсеем, другого – Павлом, и в то время, как Евсей имел склад губ смешливый, Павел тонкие губы свои зажимал строго: в обтяжку приходились они у него к зубам, еще не вполне прокуренным и не щербатым, и две глубокие, тоже строгие морщины на его сухих щеках правильно-прямо прочерчены были от подскульев к подбородку. Глаза у него были небольшие, мещеряцкие, с тусклым блеском, но редкие черные брови надвинуты на них до отказа, а нос с горбинкой прижимался к губе тоже каким-то задумчиво широким и строгим пришлепом. Люди такого склада торжественны по самой природе своей и к улыбке мало способны. Он и теперь сидел торжественный и напряженный, и этому ничуть не мешала его заляпанная известью кепка и рабочий фартук.
Евсей был пришлый из курской деревни; он сказал тенорком:
– Так посмотреть округ, будто ничего, подходяще, а только ни к чему… Прямо перевод денег вся тут жизнь… Настоящей, правильной жизни тут, хотя бы и с этими белыми курями, быть не должно: лес да камень.
А Павел на это важно и торжественно:
– Это ты по крестьянству судишь… Сознаю сам и ничего в возражении не имею… (Голос у него был хрипучий.) По крестьянству тут податься куда широко не хватает возможностей… Однако живут многие… А я, как с мальчишек в этот Крым попал с дядей, – мы рязанские, – так все и провожал долгое время… Несмотря что в этих местах я себе смертельное увечье получил, все-таки я отсюда не уходил… Места эти, в моем увечье они были невинные, как говорится: «Невинно вино, укоризненно пьянство», – так и эти места.
Евсей смешливо перебрал губами:
– Говоришь «увечье смертельное», а жив.
Но Павел возразил строго:
– Это одно другого не касается. Бывает, человек от пустяка помирает: муха его там какая укусит или комар, он и готов. В мухе же какая может оказаться смерть? Муха – она нистожная, а я в Севастополе с третьего этажа с рештованья упал и прямо на мостовую… Это уж не сравнишь с мухой… Это – смерть называется законная… Однако благодаря судьбе своей остался в живых. У начальника порта, адмирала одного… фамилию сейчас вспомню… Не Чухнин, Чухнина матросы убили… одним словом, позабыл, однако вспомнить всегда могу… трехэтажный дом строили в конце Нахимовской… не к пристани ближе, а в другом конце, он и счас стоит: кому надо поглядеть – иди, гляди. Строили, а я, конечно, в штукатурах там в артели… Случись, рештованье плохое было. Нес товарищ спереди мешок алебастру, а я сзади другой (это мы карниза обводили на третьем этажу), он пошел в просвет, ничего, и я уж к самому просвету подхожу, – тра-ах подо мной рештовка, рухнулась вся к чертям, и я, значит, вниз с мешком… И как до земли долетел, об этом не помню, а только подняли меня с мостовой – и в больницу. Пять сутков я без сознания находился. Кто из простого звания, уверенно в том говорят в одно слово: помер! А доктора отстаивают: жив!.. Тетка моя в Карасубазаре замужем за одним греком жила, ей телеграмму дали, приехала, около стоит, меня называет, я голос ее слышу, а глаз открыть не могу. Это уж на шестой день было… «Тетя, говорю, это где это я?» А она – баба ведь! – как зарыдает врыд… Тут от этого мне опять дурно… Опять я без сознания на сутки. Так что после того и доктор один стал оспаривать: «Должно, не выходится, помрет…» И так мне тогда жалко самого себя стало, – очень уверенность в нем большая была, – до того жалко, что я: «Ничего, говорю, может, еще отойду…» И тут от этого усилия, от жалости, глаза открыл… Это уж на седьмой день было. Долго ли, коротко ли, шесть месяцев я провалялся… Вот видишь: лоб себе рассек – раз; на затылку трещина большая была – два; ногу левую сломал, руку правую это место сломал, ключицу сломал… Как на перевязку мне, а со мной дурнота. Говорил тогда доктор: «Не иначе, тебе кости надо вынуть из головы, а то в голове будет кружение…» А я испугался: как это кости из головы вынуть? Что это, шуточное дело? Так и отказался. Побоялся, конечно… Особенно там один молодой настойчиво так: «Для вашей же, говорит, пользы, соглашайтесь!» А я говорю: «Много вас словесно благодарю, что вы со мной, как с богатым, хлопот имеете, а только, говорю, решиться на это мне моя темнота не дозволяет». Нет, так правду будем говорить: шуточное это дело – кости из головы вынимать! Ну в конце концов пошел я на выписку, ничего из своей головы не вынимавши… Сижу на бульваре раз, весь обвязанный, гляжу – инженер молодой, Семенцов его фамилия: «Ты это, говорит, тот самый есть, который с лесов упал?» – «Я самый», – говорю. «Так и так, твое дело верное, подавай в суд на начальника порта за увечье – десять тысяч получишь». Понимаешь, прежнее время да десять тысяч, ведь это что? Несчислимое богатство! Однако я так поглядел на него с жалостью… «Как же, говорю, вы меня такому научаете, когда нам отказу на постройке ни в чем не было? Доски, гвозди – вольные; сколько хочешь, столько и бери. Плотники, может, виноваты, что так рештованье сколотили, ну, ничуть не сам хозяин… Архитектор тут был? Был. За постройкой смотрел? Смотрел. Также и подрядчиково это, конечно, дело, рештованье проглядеть, может, где фальшь, ну никак не хозяина. Хозяин, он людям доверился, хозяин, он хотя в Москву себе поезжай, раз от него люди к постройке приставлены. Выходит, что никаким манером нельзя мне на него в суд подавать, если по правде…» Так ему объясняю, инженеру, а он мне все свое: «Подавай, не сомневайся. Твое дело верное. А меня в свидетели представь: видал я, как ты летел, – на моих глазах дело было…» Опять я ему свое, опять он мне свое, так и плюнул даже – пошел, что я такой дурак, своей кровной выгоды не понимаю. Два дня или больше прошло, сижу на улице на скамейке около дома, где свою квартиру имел, гляжу, пара едет, и кто же, ты думаешь? Сам начальник порта… видит меня – узнал. Он, говорили мне, и в больницу заезжал, когда я в бессознании находился… Кучеру приказ: стой! Из коляски вышел – и ко мне. Я подымаюсь, а фуражки перед ним снять не могу, как я весь оббинтованный. А он мне: «Садись со мной, поедем». Я в удивленье, конечно, ну, осмелел, сажусь рядом. «Как здоровье?» – спрашивает. «Благодаря судьбе своей», – говорю. «Ты, говорят, на меня прошенье в суд подал?» – «Не подавал, говорю, и подавать не хочу… Может, говорю, и закон такой есть и мне бы с вас присудили, только вы тут совсем непричинны: доски были вольные, гвозди вольные, стало быть, сами мы виноваты, строильщики: сами для себя рештованье делали, а сделать как следует – руки поотсыхали…»
Смотрит он на меня, смотрит, а старый уж человек, седого волоса куда в нем больше, чем родимого, и в очках золотых… «Поедем-ка мы, говорит, с тобой ко мне: там с женой моей потолкуешь…» Приехали. Точно, дама такая из себя полная, ну, помоложе все-таки его годков на пятнадцать… «Здравствуйте! (На „вы“.) Как ваше здоровье?» Объяснил ей все. Горничной позвонила. Вошла та в фартучке беленьком: «Чего прикажете?» – «Принесите нам кофею». Ей, значит, стакан принесла горничная та и мне тоже. «Кушайте!» – «Покорнейше благодарю». Пью я ложечкой, как следует, ложечка позлащенная, она тоже пьет. Потом губы обтерла салфеткой и мне так издалька: «Говорят, вы на нас с мужем в суд подали?» – «Нет, говорю, сударыня, никакого на это я права не имею». – «Да вы, говорит, истинную правду мне выложите, а выдумывать не к чему». Опять ей, как самому адмиралу, изъясняю: «Никакой вашей вины в этом нет, доски были вольные, гвозди вольные». Тут уж сам адмирал подошел. «Вот что, голубчик! Если ты правду говоришь, что в суд подавать не будешь, то я тебе сам заплачу… Примерно, пятьсот рублей – это как, довольно с тебя будет?» – «Я, говорю, еще, может, с полгода не налажусь, а за деньги могу вас только на словах благодарить». – «Ну, вот тебе пять сотенных, считай!» Дает. Взял я. «Чувствительно благодарю, говорю. Все-таки живет в вас, значит, добрая душа». А она, супруга-то его, смотрит-смотрит на меня пристально да вдруг ему, адмиралу: «Возьмет пятьсот, а в суд своим чередом подаст, я уж это в точности вижу!» И так мне горько стало тогда от подобных слов!.. Все мое здоровье в пятьсот рублей оценили да еще и веры мне дать не хотят… Положил я эти деньги на стол и говорю: «Ничего мне не надо в таком случае. А в суд я подавать не думал, так и сейчас не думаю… И денег мне с вас не надо. Эти деньги неправильные, потому вы в этом моем увечье ни капли не виноваты». Да за картуз… Как она вскрикнет вдруг да из комнаты вон. А начальник порта сует мне опять бумажки: «Бери, бери, тебе пригодятся, а у нас думка с плеч долой…»
В то самое время и жена его выходит, а глаза платочком вытирает… «И от меня лично, говорит, сто рублей вот возьмите, а в больницу девяносто рублей за шесть месяцев тоже я сама взнесу».
И так все мы трое друг перед дружкой стоим и плачем, потому что тот, адмирал, глядя на жену, слезам дал позволенье, а я от чувства… Так в слезах и простились со мной, как с благородным, за руку: адмирал ведь начальник всего порта, это что было в те времена… Вспомнить надо.
И разве же я мог с ним судиться? Что стал бы я на том суде говорить, кого обвинять? Поди ищи виноватого, когда ни в чем отказу не было: доски, гвозди, стропила, балки – все бери свободно. К кому же вину приписать? А тут еще на моей памяти – в Киеве дом от города строили пятиэтажный, четверо сошлись на балкончике на свежем бетоне покурить да провалились, – это с пятого этажа. И бетон полетел вместе с ними. Понятно, от них ни одной косточки цельной не осталось. И вот пошли ходить четыре бабы клянчить. Ходили-ходили, и только одна сто рублей получила, как у ней четверо ребят, мал мала меньше. А другим и того не дали: отправляйся в деревню, хлебушко черный жуй.
Евсей повел смешливыми губами:
– И, небось, еще скажешь: «Присудили бы мне на суде десять тысяч, – нипочем бы я их не взял!»
Но Павел ответил строго:
– Не взять, отчего же такое? Взять бы я взял, а только правильной суммой своей не считал бы.
– Однако ж от адмирала того взял шестьсот. Адмиралы!.. Сколько их, говорят, в море покидали в восемнадцатом, а ты тут нагородил. Это когда с тобой дело было?
– Это, почитай, перед войной случилось.
– Деньги-то пропил потом? – полюбопытствовал Евсей.
– Нет, на хозяйство эти деньги пошли.
– Поэтому ты хозяин был богатый?
– Нет… Все под итог пропало. И как они мне, эти деньги, могли в пользу пойти, когда они неправильные деньги? Вот поэтому они и пропали зря.
Первым делом я женщине доверился… в доме этом жила за няньку вроде бы. На той квартире, где я тогда проживал, даже она мне землячка приходилась и тетку мою это она же вызвала, стало быть, ко мне с участием… А раз она про деньги узнала, про шестьсот рублей, тут уж она отдышаться не могла – одно и знай, двошит в уши. Женщины от денег с ума готовы сойти. Кто есть женщина для мужчины? Есть она первый для него вор. Бывают денные воры, а больше полуночники, ну, есть также какие и перед светом работают, когда у людей сон самый крепкий… Эта же тебе и днем и ночью и во всякое время точит и точит, как мышь под полом, и отдыха в этом деле не знает. Раз уж я про деньги эти ей сказал да еще своими глазами увидала бумажки новенькие, – тут уж она не могла расстаться. Давай будем хозяйство заводить, а то деньги все зря пропустишь. А я, конечно, весь бинтами оббинтованный, на одних бинтах держусь, и такое у меня к ним вроде пристрастие: как бинты с меня сымут – тоска мне и страх, а как опять оббинтуют, вроде я как дите в пеленках: твердость тогда во мне, и хожу ничего.
Вот я ей и говорю: «Феня (ее Федосьей звали), вот весь я перед тобою… Только как же мы будем с тобою жить, когда ты считаешься замужняя?» – «А мой муж, говорит, в городе Омском служит в солдатах, а как отслужит – все равно я с ним жить тогда не согласна, а только с тобой… Место купим, хату поставим, огород разведем, корову прибретем…» Все бабские думки в одно место собрала и, конечно, ульстила, стерва. Ну, долго ли, коротко ли, деньги – дело, конечно, льстивое. Как может быть, чтобы вор, например, десятку у тебя взял, а сотенную оставил? Никогда вора такого не могло быть. Ну, вот и Феня эта!.. Она баба из себя тогда очень здоровая была: ряшка мало не лопнет, и во всех частях круглота, и деньги эти ей мои, конечно, полное ума помрачение…
Место на Корабельной слободке купила, а там все больше боцмана да матросы отставные жительство имели, – и тут тебе ворочать начала не плоше мужика: «Хату строить!» Я же смотрю только и ей говорю: «Феня! Хотя я штукатур и на постройках вырос и окалечился, ну, могу я тебе дать только совет словесный, а не то чтобы балки встремлять или даже глину месить…» – «Ты, говорит, только сиди и глаз не спускай, чтобы плотники гвоздей не украли да стружек в свои фартуки не пхали, потому – нам стружки самим в хозяйстве годятся, а я побегу того взять, другого приобресть…»
И вот я, понимаешь, сижу, гляжу, даже плотникам говорю: «Послал мне бог за мое увечье бабу такую, что лучше на свете и быть не может». И они утверждают: «За этой бабой не пропадешь. За такой, как у ней, спиной широкой ты теперь можешь, как князь, сидеть».
Гляжу – потом и щенка она злого достала и хвост ему топором обрубила на полене, чтоб еще злее был, и двух коз котных откуда-то пригнала. Ну уж козы, одним словом, не простые наши – деревенские, а такие козы, я тебе скажу, что называется швейцарский завод: по шесть бутылок по напору давали. Вполне нам две козы эти цельную корову заменяли…
Вижу я, да и другие тоже не слепые, что Феня эта моя такая, выходит, птица, которая по части гнезда вполне вить умеющая, и даже с большою она жадностью к этому делу, а не то как другие бывают – абы как!
– Вот, долго ли, коротко ли, хата у нас уж готовая: две комнаты с печкой и коридорчик. Собака под коридорчиком с одного бока, а козы – с другого. Козлят мы, конечно, продали, и тоже на завод они пошли, а не в резню. Я на этом не настаивал, чтобы их оставлять, потому что коз-ля-та это тебе, одним словом, не теля. За ними очень много времени надо, чтобы смотреть, а второе – собачьи ноги, чтобы за ними бегать, а мне тогда ходить было надо только прямо и направление на какую-нибудь точку, а не вообще, потому что чуть я свихнусь – у меня сейчас головы кружение и в глазах мрак.
А молоко козье, я тебе скажу, оно лечебное считается, и даже то нам на большую пользу шло, что цена на него спротив коровьего вдвойне стояла: коровье, если по сезону, гривенник бутылка считай, козье – двугривенный. Пастись в обчее стадо гоняли, хлопот особенных никаких, а как я стал окрепши и бинты снять позволили, так туда, ближе к осени, я стал молоко разносить по заборщикам, а Феня моя бельем занялась. Тут ее хитрый нрав вскорости и оказался, а спротив меня замысел.
Я тогда малый еще, конечно, молодой был довольно, и лицо у меня от болезни явилось белое, потому что бледность в нем. Это в первый день случилось, как я молоко понес… В одно место я занес две бутылки – там их девочка взяла, а пустые бутылки мне назад, в другое – там старушка такая, собой чистоплотная, хотя годов ей, должно, уж семьдесят, а в третьем месте – дама лет сорока… ну, одним словом, и с лица видать, что дама, и в комнате у ней убранство!.. Я, конечно, постучал, как мне Феня приказывала. А оттуда голос: «Кто там?» – «Молоко, говорю, принес». – «Откройте!» Я открыл это, а она на диване лежит. Я назад скорей, а она как зальется смехом: «Что вы, говорит, испугались? Или я уж такая страшная от своей болезни стала?» Я перед ней, конечно, извиняюсь чистосердечно: «Мне, говорю, только бы пустые бутылки взять». А она смеется: «Вот, говорит, на окошке стоят, возьмите, а я рада, что с вашего молока козьего теперь на спине лежать уже могу, а то на боку только приходилось и скрючивши… И даже я ногами теперь так и этак могу…»
Я было опять к двери повернул, а она как захохочет по-некрещеному, так что я, истинно говорю, совсем тогда заробел, да говорит между прочим: «Куда же вы, мужчина, от женщины в бегство ударяетесь? Бутылки-то хоть свои возьмите!..» Ну, я так, отворотясь, к окошку действительно на цыпочках подхожу, а она меня цоп за руку, вот за это место. «Садитесь, говорит, в кресло. Что ж вы со мной, с больной женщиной, и разговору не найдете? Ваша жена всегда со мной разговаривала». – «Извиняюсь, говорю чистосердечно, только я еще не женатый… А если вам Феня замужней сказалась, то это сущая правда, только муж ее в солдатах, в городе Омском…» А она меня в кресло толкает, чтобы я сел, а сама хохочет, и волосы у нее с подушки висят куделью. Ну, однако: «Покорно благодарю» – и сел. Раз, думаю, – она заборщица молока нашего, а другой раз – книжки у нее на столе, на окошках: может, думаю, мне пользу книжную произвесть. Ан заместо пользы она мне на другую линию стрелку свою переводит: «Ах, говорит, эта Феня какая скрытная! Говорит мне про вас – „муж“, а вы ей, значит, просто хахаль». Ей-богу, таким словом и сказала. Я ей, конечно, начинаю разъяснять, что хахаль я какой же? Однако, конечно, как бы я свою Феню за жену не считал, в церкви мы с нею не венчались и не записаны. А у дамы этой космы с подушки аж до самого полу свисли, и все она, знай, хохочет… Да мне – возьми – и ляп сразу: «Ах, молоко козье ваше какую мне пользу произнесло – так меня всю на мужчину потянуло! Так меня все и тянет…»
– Вот стерва какая! – и Евсей провел языком по смешливым губам.
– Прямо, вижу я – женщина весь свой стыд потеряла. Не зря, значит, она при мне на диване лежала и ногами разделывала. Подымаюсь я с кресла домой иттить, а она меня за руку: «Куда вы?» – «Извините, говорю чистосердечно, мадам, мне подобное слушать, первое дело, не в привычку». А она: «Ничего, привыкнете! – и все мою руку не отпускает. – Мы, говорит, здесь исключительно одни в комнате, и никто сюда войти не смеет, и Феня ваша ничего знать не будет». А от нее, конечно, дух, и руки у ней белые, жалостные… «Вы, говорит, по человечеству рассудите!» Я говорю: «По человечеству сознаю, по человечеству я все решительно могу про другого рассудить, если бы я судья был, а так – посудите сами: какими же глазами мне тогда на Феню смотреть?..» – «Во-от, – она говорит, – в первый раз такого мужчину вижу: бабы боится! Хоть бы уж она действительно жена была, а то первая попавшая!» Я потом ей: «Рассудите, я и сам больной: только недавно с одра поднялся…» А она мне: «Вы-то уж поднялись, а я вот и подняться не могу, а у вас ко мне ни капли жалости нет!» И вдруг это, вижу я, слезы у ней в глазах… Ну, одним словом, долго ли, коротко ли, ульстила.
Прихожу я потом от нее домой и сам не свой… А Феня моя стирает, локтями толстыми ворочает, юбка подоткнутая…
– Ульстила, значит? – перебил Евсей участливо.
– Ульстила же!
– Вот стерва!.. Ну, уж раз баба наготове, нашему брату трудно тогда приходится, – и Евсей цыркнул через зубы.
– Хотя бы другого на мое место поставь, кого угодно, – это дело такое… одним словом, называется – жизнь!.. Ну хорошо. Вот я сумку с бутылками поставил, бутылки еще раз, хоть они людями мытые, теплой водицей сполоснул, сам виду не подаю, а покажись мне, что Феня моя все на меня зыркает в сторону, а с рук у нее мыло так клочьями и летит, а руки красные, как у гуски лапы… А ресницы эти называемые у нее совсем белые были, и по всей личности конопушки… Ну, хорошо… Сам я виду не подаю, а она все будто на меня с каким смешком зыркает… Потом слышу от нее: «Упарился, Павлуша?» – «И то, говорю, упрел… с непривычки… Ничего, отойду». – «Посиди на солнышке, посохни». А сама будто все губами перебирает. Сел я на солнышке, и пошли у меня думки: «Трудится баба, как черт ворочает, для обчей нашей пользы, а я кто же выхожу перед ней? Выхожу я перед ней спальный обманщик». Обедать потом стали, и все мне корпится перед нею покаяться, перед Феней, а только вот с чего мне начать – слов таких не нахожу… Конечно, развитости мозгов у меня тогда после моей болезни и быть не могло.
Пообедали мы, она мне, не глядя, так и говорит из сторонки: «Вот все-таки от тебя теперь помочь по хозяйству будет… Теперь каждый день молоко на места носить будешь». Я ей на то: «Тяжелого труда в этом не вижу…» А сам про себя думаю: «Только уж от дамочки этой теперь надо подальше стоять!..»
И что же ты думаешь? На другой день приношу молока ей, трафлю, чтобы мне и в комнату к ней не всходить, нет, зазвала…
– Зазвала? – передернул губами Евсей.
– За-зва-ла!
– И скажешь, небось, опять ульстила?
– Уль-сти-ла!
– Вот яд!
– Чистый яд!.. И все Фене своей я не спопашусь как покаяться, потому что эта волынка пошла у нас каждый день… И так, что уж дама эта говорить начинает, что без меня она жить не может и меня от Фени оторвет, а меня в Чугуев-город возьмет. Я ей разъясняю, конечно, что двор этот, в каком мы жили, и опять же козы две, с каких молоко ей пользу доставляет, это все моя рана в голову смертельная, моя есть сила рабочая, кровь моя пролитая, кости мои поломанные… Что этого я ни в жисть не могу решиться, что это – мой угол вечный…
А тут уж октябрь месяц на дворе, и холодеть по утрам стало, и дамочка моя домой собираться вздумала: она в Севастополе вроде как на даче жила, крымским воздухом пользовалась, а муж ее в Чугуеве служил. «Собираюсь, говорит, я домой… Отпросись у своей Фени, меня хоть до Харькова проводи… За это от меня тридцать рублей получишь: вам с Феней лишние в хозяйстве не будут, а ты не больше как за трое сутков обернешь…»
Ну, конечно, за три дня три золотых десятки кто не хочет заработать. Всякий, я думаю, не против этого… Я Фене и говорю: «Так и так – женщина хворая, нуждается в помощи… Как ты мне скажешь?» – «Пускай, говорит, деньги вперед дает». Я той сказал, а та на это уперлась: «Я и так израсходовалась, а в Харькове меня муж стренет, у него возьму, тебе дам». Гляжу, на это Феня хоть поворчала, однако меня пускает.
Вот доехали мы до Харькова, и мне она десятку в зубы, – подавайся теперь, Павлуша, назад к своей Фене! «Как же это так? – говорю ей при всех на вокзале. – Выходит, вы есть – первая обманщица?» А она мне при всех свое слово: «Как это я – обманщица? Я ведь двадцать рублей Фене вашей уж отдала, а это последние – десять». – «Быть этого, говорю, не может!» – «Как это, – она мне, – быть не может! А что раньше я за тебя сто рублей Фене твоей уплатила, этого тоже не может быть?» Я так голову свою в плечи всунул и, обомлевши, стою, а кругом, конечно, народ. «Ты, говорит, купленный мною был за сто рублей для моей утехи, а теперь поспешай домой скорей – может, обратный поезд идет, а то муж ее, Фени твоей, из города Омского должен со службы в запас приехать, можешь ты и дому свово не оттягать».
Как сказала мне это еще, я рот разинул, а закрыть его не в состоянии: свело мне тут все, и слова сказать не могу. А она мне: «Вот и муж мой меня ходит – ищет… Сейчас ему шумну, а ты уходи, меня при нем не срами, как меня срамить не за что: я свое уплатила». Оглянулся я, где этот муж, а она от меня в другую сторону, а кругом народ как в котле кипит, – так меня от нее и оттерли… Ну, все-таки я заметил, – в дверях назад оглянулся, – она с чиновником лет пожилых целуется, а он картуз зеленый над головой держит, и голова вся блестит, лысая: не иначе, что это и был муж ее… А тут вступило мне: «А что как не обманула… А вдруг к моей Фене и в сам деле муж из города Омского? Вдруг и в сам деле это все у них было сговорено?.. Что такое баба? Внутренний вор. Разве она по правде когда жила? Она только свою линию всегда соблюдала…»
Как вступило мне это, я сейчас на поезд, как раз встречный был, да домой. В поезде люди какие были, так мне и с теми говорить нет охоты: все думаю – сижу: «Как же это? Неужто баба моя так меня обмотала?..» Приезжаю в Севастополь и первым делом домой качу. И что же ты думаешь? Все оказалось правда. Отворяю дверь – за столом солдат сидит, из себя очень здоровый, водка перед ним, помидорами закусывает, а Феня возле плиты, – я же эту плиту сам и клал, как я и по печной части могу, – стоит возле плиты, яичницу жарит с колбасой.
Я это в дверях стал в удивленье, а она мне, стерва: «Что? Отвез свою кралю-то? А ко мне в дом муж приехал, – вот он сидит… Службу свою совсем окончил». А солдат этот рюмку себе налил, не спеша выпил, хлебом усы обтер да мне: «Садись, земляк, чего притолку зря подпираешь, она и так не завалится… Садись, гостем будешь!» – «Ка-ак это так „гостем“, говорю, когда я есть здесь хозяин природный, когда это – мой угол вечный!» И только я это сказал, как Феня моя – руки фертом, голову совиную назад отвалила и залилась.
А солдат ее сидит, с лица весь кровяной, как арбуз спелый, да говорит, спешки не зная: «Ты, землячок, вещишки свои собери да катись отседа!» Ну, одним словом, их спротив меня двое вышло, а у меня головы кружение и в глазах заметило.
– Час я, не больше, в хате своей на порожку посидел, одежу, струмент свой щекатурный забрал, и вира! Потому суда с этой Фенькой, как с тем адмиралом, никакого быть не могло. У ней все, у стервы, оказалось по закону: землю участок она купила на свое имя, дом новый, хата наша, опять же на ее имя был записан-застрахован, – все, одним словом, по закону, и муж явился законный… Только мне в том хотелось удостовериться, правда ль она с этой чугуевской сто рублей за меня получила да еще двадцать за отвоз. И что же ты думаешь? Все до копеечки вышло правда… Вот как меня две бабы обмотали… Ну, одна хоть была из других классов, а Фенька-то, а? Вот и думай над этим… Внутренний враг!.. Ну, не случись мне в это время работа по печной части, – вот бы я и пропал вторично. Однако тогда уж на зиму люди готовились… Немного я подработал да в Симферополь перебрался – там зиму и весну провел, а летом, глядь, война.
– Война, тебе она что же? Калечные тогда дома сидели, – лениво сказал Евсей.
– Так я и сам думал, что не должны взять, и на комиссии чистосердечно всем объяснил, однако ж не помоглося мне – взяли! – торжественно поглядел на Евсея Павел. – «Мы ведь, говорят, тебя в ополченцы, там служба легкая!» Ну, я, конечно, в спор с ними не могу вступать, а на словах только изъясняю: кость у меня в голове. А они только посмотрели друг на дружку, – полковник один и доктор военный, и еще двое чинов посмотрели, и вроде бы им весело показалось, а полковник даже с шуткой такой: «Вот как совсем костей в голове не будет, тогда, разумеется, дело можно считать пропащее, а с костями которые – этих давай да давай сюда!» В одно слово – всю мою рану смертельную в какую-то шутку повернули и сами себе смеются, а я уж обязан был тогда на это стоять и молчать, как я, выхожу, значит, записан в солдаты и свободы-развязности никакой больше я не имею.
Конечно, сознаю я, что мне, как я неженатый, куда же спротив других легче должно быть: у других жена, ребят по нескольку штук, – те уж ходят темнее ночи, считай, что безо всякого фронту они вполовину убитые! И вот, нас сколько там было, пересчитали, переписали и погнали нас на вокзал. И куда же, ты думаешь, я попал? Опять же в Севастополе очутился, в семьдесят пятой дружине.
– У Феньки?
– Фенька эта – своим чередом… Первое дело была наша служба. Винтовки нам выдали, берданки, а одежа своя, и так ходим мы ротами, а одеты кто в чем: у кого картуз, у кого кепка, у кого бриль соломенный, так же и с костюмами. Мимо базара приходилось проходить на ученье, и торговки, какие там бублики продавали, к нам с сожалением: «Гляди, апольченцев гонють!» А мы, чтобы виду не показывать, мы мимо них с песнями:
Смело пойдем воевать со врагами,
Докажем, что есть ополченцы в бою…
– До-ка-за-ли! – подкивнул Евсей.
– Доказали, истинно! А казармы нам приделили – это был такой дом возля Карантинной бухты, куда в прежнее время паломников помещали, ну, понимаешь, это которые в Палестину ездили, назывались паломники, как они свою жизнь надвое поломали… Вот и мы тоже живем там, вповалку дрыхнем на соломе и об себе говорим: «Чем же мы не паломники? У всех у нас жизнь теперь поломанная!..» Эх, если ты не служил тогда, считай это за большое себе счастье! Ну, были, между прочим, из нас такие тоже счастливые!.. Помню я так, что какая-то комиссия явилась: два чужих офицера да врач, да из наших только сам командир дружины, наш полковник Громека. Командует он: «Какие признаете себя всем здоровыми, выходи на середину!» Ну, все стоят, думают: это ж на позиции выбирают! Как же, дождешься ты дурака, чтоб сам вышел. Стоят все, понимаешь, и ни с места. А Громека наш скраснелся весь, ухватил одного унтер-офицера, мордастого, за рукав, как дернет к себе из первой шеренги: «Тты, так и так и этак, чуть рожа не лопнет, а не выходишь?!»
Вообще, конечно, тебе известно, военные прежние были это не то что интеллигенты какие. Интеллигент, действительно, он понятия не знал, как выругаться… Скажет так это: «Сволочь ты, сволочь, сукин сын, мерзавец ты, подлец!..» – и больше он ничего не знает. Ну, уж касательно военных прежних, эти умели как следует. Одного к себе дернул командир наш, другого, а третий или там четвертый – те уж сами вышли. Так набралось их восемь человек, между ними земляк мой один, каменщик Гаврилкин. И что же ты думаешь? На позицию их? В том штука, что их не на фронт, а на бойню рабочими погнали, и за всю войну, как они пробыли там, почитай, три года, никакого они беспокойства не знали, а каждый день они какого хотели себе мяса наворачивали, и даже сам комендант крепости обедать к ним когда приходил, потому как первое мясо на весь Севастополь у кого же оно было в руках? Все у них же. А он от бойни недалеко жил, комендант крепости, раза два и я его видел: старик, а фуражка на нем надулась, как шар воздушный, а вот, поди ты, несмотря что, говорят, старикам мясо есть вредно, этот до мяса был привычный.
Так я себе провожаю время, то на ученье, то винтовку свою разбираю – чищу, то так по Нахимовской пройдусь, на дом, на свою погибель погляжу, а уж того, между прочим, начальника порта куда-то перевели, на его место другой, гораздо моложе, и так что не знаю, верно ли, нет ли, говорят, по военному времени будто двадцать пять тысяч одного жалованья получал.
– Не считая того, что крал, – вставил Евсей.
– То – своим чередом, конечно… Поглядел я на него, как раз случилось во фронт ему становиться: личность бритая, сключая усов, и щеки аж трясутся, как он сильно ногами в протувар ударяет. Этот бы, думаю себе, не то что мне бы тогда пятьсот рублей, а обратись я даже к нему – он бы меня в три шеи гнать приказал.
– Утопили его матросы, должно быть?
– В точности сказать не могу, потому что я до конца ихнего в Севастополе не дожил, а не дожил я опять-таки по причине Феньки… Я хотя в мыслях имел: пойду на Корабельную, до своей хаты дойду, прочее-подобное… И даже раз на ученье, мы рота спротив роты, в такие места там зашли, что Корабельную слободку я всю как есть видал, да как говорится: глазкам видно – ножкам обидно. Не идут ноги мои туда, не сдвинешь их… На Братское кладбище ходил, на Рудольфову гору ходил, на бульвар Исторический, а что касается Корабельной – не шли туда ноги. И вот же надо такому случаю: встречаю я этого земляка своего, Гаврилкина. А нам уже одежу военную выдали – защитные гимнастерки суконные и шинели даже. Идем мы с ним по Екатерининской улице, а он на мясе такой разъелся, хоть сваи им вколачивай. Я ему и говорю: «Пожить бы мне твоей жизнью, может, я бы прежним человеком стал». А он мне: «Не думай, что очень легко мы там живем, на бойне. Встаем куда до свету, в четыре часа, и начинается у нас катавасия. Голов до восьмидесяти в день мы режем. Зачнешь заделывать, от крови воспарение воздуха очень сильное, и, хотя все двери настежь, такой туман стоит, прямо ничего не видать, и кровь своим чередом нам в головы ударяет… Так что мяса много едим, конечно, а оно нам вроде безовкусное… Во флоте, там, разумеется, своя бойня, а мы только на гарнизон стараемся, и то силы мы на это много кладем… А тут еще с землячкой с одной связался – баба здоровая, она тоже из меня своим чередом соки тянет…»
Сам говорит это, а сам на меня будто с какой усмешкой глядит. Мне и стукни в голову: Фенька!.. Не иначе, думаю, что муж ее солдат, как он запасной был – прямо его с места на фронт погнали, может, уж даже убили давно, и теперь она вдова свободная, а я ног туда двинуть не соберусь по причине того, что я уж теперь сам солдат и жизнь моя поломанная.
В голову мне вступило и дыханье мне даже спирает, а я его спрашиваю, будто мне и не нужно: «Это где же ты такую бабу завалящую подобрал?» Он же мне опять будто с усмешкой: «Какая же она завалящая? Она – баба первый сорт, и даже домок у нее есть свой на Корабельной…» Тут я оборачиваюсь и говорю: «В таком случае до нее и вваливай, а мне тут поблизу дело одно есть». С тем и пошел от него. Пошел, а сам вижу, что опять у меня будто в глазах заметило… Улица же эта Екатерининская, она все равно что Нахимовская: на ней что ни шаг – офицерство, то и дело козырять надо было. Я одному пропустил честь отдать, другому пропустил, а на третьего наскочил, – тот ко мне, как крикнет: «Пьян?» Я чистосердечно: «Никак нет, больной я, говорю, в глазах заметило». Ну, он видит, я бледный стою, и вроде бы у меня дрожь началась. «А болен, кричит, чего шатаешься? В околоток иди…» Пошел я сейчас же в казарму, и так до утра я тогда не спал, все о своей жизни думал.
На другой день прошусь у дежурного на Корабельную слободку дойтить. Тот, ни слова не говоря, дозволяет. Я штык к поясу прицепил, иду. Думка такая была, что раз уж Гаврилкин вчера у Феньки был, то в этот день его уж быть не должно. Ну, одним словом, иду уж я теперь просто дом свой проведать, а не то чтобы я на бабу жаждал. Чистосердечно тебе говорю: этого в мыслях моих не было. Конечно, раз оно тогда на моих глазах все делалось, то смотрел я со всех сторон, что тут теперь добавлено (об убавке речи быть не могло, раз такой в дом работник из города Омского заявился). Вижу, голубятня на столбу – этого не было; скворешник на шесту – это тоже он завел. Значит, думаю, птицу летную любит; худого в этом ничего не вижу. А козы-то живы ли? Оказалось, целая корова на дворе стоит, жвачку жует, на меня смотрит, пестрая, из немецких, корова достойная. Конечно, из козьего молока сметаны, масла не сделаешь, а корова – это второе после дома бабье богатство: за коровой она как за блиндажом сидит. Вижу, вообще добра у нее стало гораздо против прежнего поболе, у этой Феньки, однако зла против нее большого не имею, а как увидал через стеночку – колыбная такая, невысокая стеночка вокруг двора, – что она и коз не продала, и козы наши прибретённые тут же из хлевушка смотрят и уши наставили, я прямо в калитку к ним.
И вот теперь как хочешь, так меня и суди… Что мне в голову вошло? На землю, на дом – это она, Фенька, купчую крепость сделала на свое имя, по всей строгости закона, ну, а что же касается коз этих, то на чьи же они деньги куплены? На мои кровные, кровью моей и поломами заработанные… И поверить нельзя бы, чтобы я насчет этого не вспомнил, когда Фенькин муж, солдат, пришел, а я даже и после того чуть не год цельный за коз своих и думать забыл. Вот какое у меня в голове тогда соображение было хмарное… А в этот раз я смотрю – это же явственно козы мои: они ни в каких бумагах не записанные, что, дескать, они Фенькины.
И стою я в козлятнике своем как ихний законный хозяин, и метится мне, что свое добро должен я защищать штыком, как я уж теперь солдат-ополченец и штык у меня на поясу висит.
А тут собачонка та, с хвостом обрубанным, увидала – чужой к ним во двор залез, на меня кидается-брешет, и на брех этот Фенька выходит и прямо к козлятнику. Она на меня глядит, а я на нее, а слов никаких подобрать не могу. Конечно, кто крик всегда первый начинает? – баба. А что касается мужчины, то он молчит. Так она и начала свой крик: «Ты кто такой? Тебе чего тут? Ты откуда взялся?» Разное подобное. Я же ей на крик изъясняю теперь спокойно: «Это я за своими козами двумя явился и сейчас их от тебя забираю». Она же, стерва, луп-луп глазами своими, – да вдруг ко мне на шею: «Павлуша!.. Это ты, Павлуша?» – и, значит, губами своими толстыми до моих губ.
Вот же не будь этого, я бы, может, обошелся бы с кротостью, а меня, главное, это в голову стукнуло: ульщает. И она же, правду буду говорить, хотя баба, ну, такая баба, что мешки пятипудовые таскала она себе безотказно, – откуда же у меня сила взялась ее повалить? Единственно, значит, от прилития злости. Сшиб я ее наземь и давай ногами топтать. А собачонка бесхвостая, Арапчик, она же вредная, все меня за коленки рвет и, знай, брешет, а Фенька в голос, а две козы мои – те из хлевушка выскочили и тоже мекают – блеют, – одним словом, шум большой поднялся, а на шум этот двое матросов мимо шли – и к нам. Сейчас до меня: «На каком таком основании женщину убиваешь?» А матросы, конечно, не хуже оба Гаврилкина-мясника. Фенька же, стерва, как вскочит да к ним с рыданьем: «Убивал, будьте свидетели, убивал, злодей!.. Кабы не вы подошли, до смерти убил бы… Я – женщина одинокая, помощи некому было дать…» Ну, прочее подобное.
А из матросов один с лычками оказался, хорошо грамотный, и мою фамилию записал и какой дружины, также и штык у меня с пояса снял. Я ему говорю: «Ты права на то не имеешь». А он мне: «Вот мы сейчас с тобой в твою дружину придем, там тебя, конечно, по головке погладят, а мне взбучки дадут…» Коротко говоря, сажает меня за то дело командир дружины на гарнизонную, и стал я – военный преступник. Через кого же? Через бабу, которая, стерва, кругом меня обмотала и даже другой бабе за сто двадцать рублей продала…
– И что же все-таки? Суд был? – справился Евсей.
– А как же? К военному следователю вызывали. Я ему все чистосердечно-подробно, а потом суд. Вот на суде это со мной опять и случилось: заметило – я и упал в бесчувствии. Тут, первое дело, я на гарнизонной под строгим арестом сидел, горячей пищи я мало видел: отощание силы во мне такое было, что насилу я под свечками до суда дошел. Ну, тут уж ко мне, видят, не то что статью закона подводить, а просто лечить меня надо… Меня и отправили в лазарет – на Екатерининской он был, назывался «Второй временный госпиталь». А там народу всякого было, и думка у всех была одна: как бы это от военной службы их отставили. Значит, солдаты на всякие пускались хитрости, а доктора-фершела должны были хитрости ихние распутывать и обратно их в полки-дружины возворачивать.
Тут я много от людей узнал, как может человек сам себя покалечить, только бы его на свободе оставили и на смерть напрасную за ему совсем ненужное не гнали. Потому что фронт для нашего брата, солдата, в то время что такое был? Та же неминучая смерть. Вот и пили разное, чтобы только явный себе вред получить. Один, из себя видный такой и говорил складно, тот со мной рядом лежал, он, я видел, сулему пил. Это, конечно, после дознались, что сулему, как уж он переборщил, отравился. Ему бы надо посредственно, а он – сколько рука взяла, а потом крик поднял: отводи его от смерти. Нет, к утру кончился, не отвели, хотя, слова нет, хлопотали.
Меня бы, может, тоже за обманщика лазаретного приняли, да, на мое счастье, один доктор там был, севастопольский сам, забыл я его фамилию. Он-то в военной форме теперь уже был, а тогда – в штатской одеже, кроме того, бородку он себе запустил, так я его поперва не узнал совсем. Их двое пришли меня опрашивать: этот да главный доктор. Главный, тот, как я об своих увечьях докладывал, все только носом крутил, дескать заливщик, а он, стало быть, заливщиков таких из нашего брата видал; этот же другой смотрел-смотрел на меня, да ему: «Знаете, он ведь всю чистую правду говорит, потому как я его отлично даже помню и совсем не чаял, что он выходиться может…» Так я благодаря своей судьбе месяца полного не лежал – меня на комиссию, и вместо всякого суда дают отставку мне, называлась тогда четвертая категория.
– Ты, конечно, к Феньке?
– Нет, брат, я уж тогда не то чтоб об Феньке, ни об какой бабе подумать я не мог, чтобы мне на землю не плюнуть. Что ни подумаю, то и плюну. И вижу я, что Севастополь этот – моя яма-могила, чугунный крест. Подался я на Балаклаву. Недалеко хотя, но все-таки не Севастополь. Там жизнь шла тихая. Батареи, конечно, стояли кое-где, и так что кавалерии ополченской один эскадрон, а то все больше рыбальством там люди занимались в бухте. Штукатурной работы я там себе не нашел, дома уже не строились тогда новые, а печей несколько сложил: дело уже к зиме шло. И вот раз утром рано слышу – стрельба от Севастополя подается: пушки. Значит, кончено: к нам война подошла. И что же ты думаешь? Не я один заметил: многие собаки из Севастополя целыми стаями к нам, на Балаклаву, от страху забежали. А за ними следом – дамы флотские на извозчиках, ей-богу. Спервоначалу неизвестно было, конечно, чьи такие дамы, потом оказалось, мужьям своим не поверили, чтобы германский флот напавший – или он уж тогда турецкий был – чтобы могли они от него отбиться, и сломя голову кинулись жизнь свою спасать в первое попавшее, в Балаклаву.
Стрельба хотя долго тогда не была, не более часу, все-таки к нам в Балаклаву доходят в тот же день слухи: в морской госпиталь попало – матросов одиннадцать человек разорвало в клочья, и даже пальцы ихние до стенок прилипли; в казарме нашей, где я службу свою провожал, угол отбило; и на Корабельной слободке будто тоже снарядов несколько упало, и дома там разваленные есть… Вот мне и запади в голову: не иначе как Фенькин дом, мой кровный угол вечный, не иначе как его разворочало и, может, Феньку уж окалечило – убило. Человек простой, кто об ней много говорить будет? Значит, самому мне надо на месте посмотреть. Ежель, скажем, убита Фенька, всегда я могу доказать – и соседи же кругом знают, что все, после нее оставшее, мое должно быть, а ничуть не Гаврилкина какого. Вот стоит, понимаешь, все время в глазах: Фенька размозженная лежит, а у хаты крыша сорвана, – что я поправить в силах… А скотина вся жива: что корова, что мои козы безрогие, белые… Два дня так мне все представлялось; на третий пошел я в Севастополь. А там же дорога недальняя, а по дороге все дачи стоят. Прихожу на свою Корабельную, – оказалось, в нее только один снаряд попал, вреда не сделавший, а только яму большую и то на пустом месте. И то бабы там говорят: «Вот хорошо, как теперь эта яма: будет куда нам котят-щенят кидать». Мимо дома своего прошел: как я теперь уж в вольной одеже был и воротник мог поднять, а шапку пониже нахлобучить, то меня Фенька не узнала, а она как раз на дворе сидела, достойную корову свою доила, не корова, а целый капитал, потому вижу, цебарку надоила полную… Прошел я мимо, а сам думаю: в Симферополь ли мне мотануть, или же в Севастополе остаться? С Фенькой, думаю, мое дело уж конченное: что мне теперь Фенька! Жизни моей она теперь мешать не должна; я человек непьющий, некурящий, могу я себе печками деньжонок каких собрать и тоже угол завести и даже корову такую достойную. Война, думаю, теперь меня не касается, а Фенька пускай курносый нос свой кверху не дерет, как теперь и без нее баб хватает, – всю они жизнь запрудили, спасенья от них нет.
Хорошо… Ходил я по Корабельной – все дворы разглядывал и все места, какие не застроены, и так я решаю себе: остаюсь я здесь, хозяйство свое заведу, и будет мне жизнь покойная, и всегда в сытости, в чистоте. В Севастополе, дескать, войска теперь много, а уж где войска много, там и денег довольно, тут я без работы не должен сидеть.
Остался… И так у меня пошло: война это там своим чередом, а мои печки-плиты – своим. Кто имеет желание – воюй себе, получай кресты-медали, особой зависти моей к этому нет. Коротко говоря, к концу это уж пятнадцатого года те самые шестьсот рублей, какие я, выходит, Феньке на всю ее жизнь подарил, ко мне возворотились и на книжке лежали, также и на мне все справное, что одежа, что обужа. Начинаю уж я ходить приценяться к местам, или так где готовое купить; о-ка-за-лось, что не только на то, на се, на мелочь разную – и на места, на постройки тоже уж цены пошли кверху драть, на мои шестьсот рублей, стало быть, очень не развернешься. А тогда уж, в случае строиться, и с железом и с досками стало туго, извести простой и то недостаток.
Не иначе, надо еще подработать, так я себе думаю, а сам уже об жене настоящей начинаю карты раскладывать, потому что чужая баба – это, дескать, одно, а своя жена – это уж картина особая, потому жена законная, она клятву дает, чтобы класть не в свой только карман, а в обчий с мужем.
Коротко об этом говоря, невесту я себе разыскал. Это уж тогда второй год войне кончался, а у меня уж на книжке тысяча с большим лишком лежала…
– Опять ты, стало быть, богач стал! – подмигнул Евсей.
– Богач не богач, а поправился, одним словом. А невесту я себе приглядел у кого же? Тоже не из крестьянства, как я сам от крестьянства давно отстал, а из мещанского звания. Что же касается хорошей девушки в Севастополе, то это я тебе прямо скажу: город военный, крепость, а самое важное – флотских много несчислимо; в таких обстоятельствах, чистосердечно, хорошей настоящей девушки там найти было – скорее на улице кошелек с золотом найдешь… Потому что матросня – ее там сколько-то тысяч собралось в морских казармах, еще и морская пехота какая-то, тоже в своем матросском, только, как и мы, с винтовками на ученье ходили…
Эта несчислимая саранча – она, что касается девиц, первые губители. По многим домам там работать приходилось – что ни прислуга, то обязательно вокруг нее матрос сидит, усы крутит, с лица весь кровяной, на лбу у него жила надувшись, а матроска синяя на плечах вот-вот не выдержит, лопнет… Кабы не женились, сказал бы не хуже той моей чугуевской: «хахали», а то ведь нет: тот не выдержит, разрешение по начальству просит к «Исаю ликуй», другой тоже, пятый-десятый… женихи, одним словом, и потом же война продолжается своим чередом, значит, кто у женщин может быть на первом предмете? Военные, конечно, а не то чтобы какой печник-штукатур.
Там, в Севастополе, во время войны этой такой напор с мужской линии на женскую был, что даже нас, ополченцев, гоняли по наряду каждую ночь от роты сколько там человек, по каким таким надобностям? Все по этим же, по постельным. Матросские дома терпимости по одной улице были, а гарнизонные по другой, и чуть кто из гарнизонных – артиллерия там, ополченцы – заблудился, на матросскую улицу попал, его там, конечно, матросы увечат – знай свою гарнизонную лавочку, к нашей не суйся… Ну вот и наряд, стало быть, сключительно ради этого дела: гарнизонных до матросских домов не допускать. Солдат же, он, конечно, должен на войне быть убит, а не то чтобы возля публичного дома… Ну, одним словом, лишнего не говоря, ты это сам должен понимать, что в таком городе невесту хорошую разыскать – это все равно, как от этого вот дуба яблоков дождаться.
Опять же я себя самого обвинять не мог: непьющий-некурящий, деньги на книжке имел и опять же ремесло в руках – те же деньги готовые… Порядочная женщина должна за подобного мужа как держаться? Как все равно клещук до собаки. Что об хозяйстве рассудить – я все могу, что нужное приобресть-купить – это все в моих силах-возможностях… Может, не будь войны, мы бы с женой жили без особо важных хлопот, ну, главное дело, война… Считаю я войну так, что это – повсеместное распутство… Об убитых, об уродах не говоря, это такое беспутство заводится на земле, что матери родной не верь, не то что жене венчанной, которая слова тебе говорит одни, а думки думает совсем обратно.
Она, конечно, в городе воспитывалась, в том же Севастополе, не то что Фенька. Та – деревенская сызмальства, к работе жадная, потому что с малых лет известно ей было одно: что дает копейку? Работа. А эта – она и грамоте училась, не доучилась; шитью училась, портнихой не вышла, и только знай, кого хоронят, или чья свадьба богатая играется, или войскам парад – тут и она со своими глазами… Даже имени своего стыдилась: ее Лушей звали. И, конечно, каждый вечер она должна убраться да в кино, а потом до полночи ты ее жди или сам ее провожай и с ней там сиди, смотри, как в глазах серые люди мелькают, что и деньгам перевод и на другой день с недосыпу в голове боль.
Вот теперь на море глядишь – как я уж привык на него глядеть за тридцать лет, и думаешь: на что же я в Луше этой польстился? И не знаешь. Ну, конечно, личиком она белая, слова нет, а так, росту она не дала, ну, конечно, вертлявость и разговор у ней детский, как все равно на сцене она представляет… Одним словом, помстилось мне, что она, как Феньке далеко не ровня, то это будет мне – лучше не надо… Родство же у ней – наше, рабочее: отец в кузнецах за подмастерье, мать стирать по домам ходила. Этих работ война не могла коснуться; что подковы, например, что белье – это всегда требуется. Ну, конечно, дома своего не имели, квартиру нанимали, потому что оба сильно пьющие были, а я в том же доме, где и они, комнату имел, – вот откуда наше знакомство, а Луше семнадцать лет, и кроме как в кино она любила, никто за ней не замечал… Я же и ей и отцу с матерью книжку свою показал и насчет дома-хозяйства доклад сделал… Коротко говоря, сыграли мы свадьбу, стала у меня законная жена – Луша.
Я это раз ее повел на Корабельную, свое обзаведение, какое Фенькой отнятое, показал, другой раз повел, показал, а потом по всей Корабельной прошлись. «Вот, говорю, выбирай себе здесь место какое удобное и, конечно, имей в виду, – первое удобство – вода, чтобы воду было где поближе таскать тебе… будем насчет домашнего удобства думать». А ей, понимаешь, смешки одни. Об корове ей упомянул, а она мне: «Вот еще, ко-ро-ва! Я их, коров этих, до смерти боюсь. Мне когда сон какой нехороший приснится, это, знай, за мной корова гонится. Гонится, гонится – вот сейчас на рога поднимет… Тогда уж я, конечно, проснусь…»
Я себе думаю: настаивать очень не буду; только вот дождаться, война кончится, дела веселее пойдут, можно готовую себе купить хату и корову на двор привести смиренную-достойную, тогда бояться не будет… У нее же свое на уме. Был, например, там, в Севастополе, каретный мастер Ампилогов – экипажное заведение имел. И вот, стало быть, дочка его старшая, говорили, очень из себя красивая была, с мичманами стала путаться. Путалась-путалась, ну, один мичман ее кортиком и зарезал, чтоб она другому мичману не досталась. Двадцать две раны ей дал. Его – судить, и будто приговор был – крепость на сколько там лет, а он в одно слово – расстрел себе требует. Так ли действительно он себе смерти требовал, только Луша моя об этом одном, как сорока, трещать стала: «Ампилогова, Ампилогова. Мичман, мичман. Любовь, любовь, какую в кино артисты представляют…» А как убитую хоронили, тут уж, разумеется, Луша моя день целый на улице продневала, и, конечно, у нее ведь подруги… Кого она послушать может? Меня, что ли? Подруги у нее главное…
– Пустая, значит, ходила? – осведомился Евсей.
– Хотя бы ж и пустая, – должна она о своем муже думать, а не то что о гулящих девках каких, которых ножами убивают. Думка даже у меня такая была, чтобы нам переехать в Симферополь. Сказал ей об этом – она в дыбошки: «У меня тут отец с матерью, подруги, а в Симферополе что…» Дело тут, конечно, было в подругах, и как все ей тут было известно с малых годов, а главное дело – мичмана тут в белых штанах ходят, вот что. Офицеров гарнизонных – тех по случаю войны с простой рядовщиной шинелями сровняли, а флотские, как раньше они щегольством занимались, так и теперь. Война – своим чередом, а белые штаны своим чередом остаются. Понятно, флотский на своем кораблю сидит и в море с него никуда не скочит – ему защитного цвету не полагается носить.
Коротко говоря, у этой гулящей Ампилоговой мичман был, а у меня, дескать, как я – не каретница, а только что печникова жена, пускай хотя бы кондуктор флотский будет, все-таки у него – морская форма, а не то что ополченец какой. Вот как моя Луша распорядилась моей с ней обчей жизнью. По стечению времени она к нему на квартиру ходила, как я на работе бывал, а потом совсем до него перешла жить… И сказать бы, что молодой, – не-ет. Даже, может, и меня на сколько-то лет постарше. Чем же он мог ее ульстить? Сключительно своей формой… А чтобы жалованье его было больше, чем я мог своей работой заработать, то это уж нет. И своим чередом – подруги сбили. Кто ее с кондуктором этим познакомил? Подруги, – это уж я потом разузнал. А где же он служил, на каком судне? Это тоже внимания достойно. Служил он на дредноуте самом сильном, на «Марии». Это уж было такое судно, что целого оно стоило флота. И действительно, посмотреть на нее – огромадина. Так что летом она к нам пришла, летом же Луша с ним и познакомилась. Или же я это тут путаться начал? Каким летом? В пятнадцатом она к нам, «Мария», из Николаева пришла летом, а женился я в апреле шестнадцатого, а с кондуктором Чмелевым познакомилась Луша, так надо быть, в июне. В августе же месяце она к нему перебралась… А просто-чистосердечно сказать – он ей комнату у одной вдовы нанял, она от меня и перевезлась со своими вещичками: граммофон у ней был, корзинка с бельем и, конечно, постель, у меня пара новая была, к свадьбе я шил, и так, другое что, этого ничего не взяла, врать не буду. Фенька – та бы не посмотрела, все бы к себе увезла, а эта нет. Коротко говоря, с работы прихожу – ни граммофона, ни ее корзинки, и постеля наша стоит вся разоренная.
Я к отцу-матери, те в изумлении и говорят: ничего нам не известно… Только на другой день я мог про нее узнать от ее подруги одной… Ну, одним словом, ты сам понять можешь, как подобное дело другому кому рассказывать. Говорится: чужой ворох ворошить – только глаза порошить…
– Все-таки ты до кондуктора этого ходил же или нет?
– Что же, что я ходил… ходить я ходил, слова нет: пришел, она с ним сидит, чай с конфетками пьет (тогда уже сахара мало кому попадалось)… «Здравствуйте, чего скажете?» Я смотрю, у меня дух занимается и в глазах своим чередом темнеет, а он – мужчина здоровый, конечно, мне так даже очень спокойно: «Поговорить пришли? Садитесь чай пить, поговорим». Я на нее во все глаза, а она только в чаю ложечкой мешает, а во рту конфетка-леденец зеленая… Она из себя худощавая была, а коса русая… На меня не смотрит, а на лице краски никакой, стыда нет, точно будто все равно не муж я к ней пришел, а первый попавший, или работы какой спрашивать…
Коротко говоря, посмотрел я на них обоих и говорю: «С тем до свидания». И повернулся. Только нашего разговору и было… Сам посудить можешь: драться я с ним не мог – он бы меня одолел, слова же тут разные – ни к чему… У них между собою сговорено, а мне на них жаловаться кому? Коменданту крепости, что ли?.. Так я только с родителями ее об этом поговорил, им попенял, и пришлось это дело оставить на произвол.
– Живу в своем помещении один, работаю помалу, где печку поправить, где побелка, а потом я тебе скажу, ну, ты должен и сам это помнить, немолодой, дела оказались совсем тупые, так что проведовать приходилось и свои деньги в кассе, а цены на весь обиход жизни, тебе должно быть известно, начали сильно расти, так что я насчет своей Луши думать начинаю: «У ней своя практика жизни, как она сызмальства городская, и, значит, что-то она замечать стала и в соображение себе взяла: жалованье кондукторское, оно уж не поменеет, а может, поболеет, что же касается работы печной и прочей, то скоро, может, ей совсем крышка будет…» Строиться никто и думать не хотел, потому, первое дело, что цены на матерьял дорогие без числа, а второе дело, что того матерьялу и доставать уж стало негде: железные дороги его не возили, пароходы тоже, лошадей порядочных, тебе известно, мало уж осталось, даже и люди, какие посправнее – в шинелях серых они ходили, одним словом, что ни день, то я к Луше своей злость утишаю и начинаю об ней сознавать…
– Выходит, одна жена тебя продала, а другую сам задарма отдал? – вставил Евсей.
– Как это – задарма?
– А конечно, так… Например, собаку нечем кормить – вот ее кому побогаче задарма и отдают, хотя же она животная и каких-нибудь денег она стоит…
– Этого не ожидал от тебя, чтобы ты жену до собаки приравнял, – обиделся Павел, но Евсей хлопнул его по спине легонько.
– Я к примеру говорю, чудак… Это я шутейно ведь… А видаться тебе с ней приходилось потом?
– Видаться? – Павел подумал немного, стоит ли ему продолжать, поглядел на золотеющее поражающее море и сказал вдруг: – Это море человеку дано зачем? Затем, чтобы он по такой воде плавал и рыбу в ней ловил, а не то чтобы в ней он другого человека топил. Этого ни в каких законах быть не может… А матросов возьми – их изо всех новобранцев выбирают первыми, это отборный народ. Конечно, им и служба трудная на судах, так что труднее этой службы и быть не может… И чтобы такие люди в понятие себе не взяли, что война эта – та же погибель людская напрасная, как все одно холера?! Не-ет, они, брат, раньше всех это себе в голову взяли… Я, например, сына своего воспитал, а его у меня чужие люди берут на котлеты. Каким это манером? Об этом мне ничего не объясняют, ради чего и зачем, а давай и разговоры свои вольные оставь: потому берется он по царскому указу… А я же того царя Николая видал в Севастополе – ополченцев он смотрел. Так у него и слова до солдат-ополченцев не было, каких он на погибель собрал. Они должны стоять, глаза на него делать, а он обязан был только мимо них с генералами пройтись, а фуражка на нем ополченская была с крестом медным, так на ней вот это место, на донышке, пятно масляное, ладонью не покроешь. Ей-богу, все видели, не я один. И росточку он мелкого был, а, поди ж ты, какой страной владел огромадной. И все только писал: «Быть по сему». А подумал бы об народе простом, за что же он терпеть должен. Эх! Конечно, начали матросы между собой разговоры – всем в Севастополе было известно. Что в чайную какую тогда зайди, что так, на работе, народ уже стесняться тогда перестал, и даже, я помню, офицерству того почету не показывали, как прежде. И в магазинах приходилось слышать, приказчики с ними стали обращаться куда грубее… Потому что все видят – война идет своим чередом, а наши офицеры, видно, спротив немецких оказались молоды-неучены, и простой солдат погибает, как барашка, через кого? Через своих же офицеров-генералов. Кому эта война нужна, – народу же она без надобности. Меня тоже тогда как другие кто спрашивают, я всем отвечаю чистосердечно: «Должны, говорю, замириться и войне конец делать…»
И вот раз как-то, в ноябре в шестнадцатом годе, встал это я утром, хоть не на работу, а так – искать работу надо: волка ноги кормят, – и вот вдруг даже будто дом весь наш пошатнулся, и стекла будто вылетают – звякают. Я и подумал: значит, опять нападенье.
Выхожу на двор, а народ вполне ничего не знающий, выскакивает совсюду и один до другого: «Что это обозначает? Нападение?!» Ну, разумеется, все кинулись куда же смотреть? На море, конечно, может, опять «Гебен» осмелел до такой степени, что даже и нашей «Марии» не боится. Иду я поспешно с другими, а тут опять рвануло, и даже стекла падают. Ну, другим говорю, поэтому теперь уж собачки опять на Балаклаву должны податься, а также барыни флотские… Добегаем до того места, откуда всю бухту видать, а там уж людей порядочно и в бинокли смотрят. Что такое? Полыхает, понимаешь, прямо на воде, и дым черный. «Нападение?» – спрашиваем. «Нет, говорят, похоже, что наша „Мария“ горит». – «Бой же какой был или отчего так?» – «Неизвестно, говорят, отчего это быть может. Может, на свою мину наскочила, поэтому». А я вспомнил кондуктора Чмелева, да как крикнул не в себе: «Это же матросов сколько должно теперь погибнуть!» А мне отвечает там один: «Не иначе как половина». – «Ка-ак, кричу, половина? Их же там больше тысячи человек». – «Хотя бы, говорит, две, все равно… Какое же им может быть спасение, когда возле их даже и море горит?»
И вот, скажу тебе чистосердечно, стою я совсем остолбеневши, смотрю на эту картину страшную, и сами собой у меня слезы текут. Человек, человек, думаю, что же это ты сам для себя придумать мог, чтобы погубить столько народу отборного? И вот они погибают там, а мы на бережку стоим и только глядеть на это можем… Так это думаю я, а вдруг меня сзади по имени называют. Оборачиваюсь – это Луша ко мне. Я в слезах весь, и она своим чередом тоже. За руки взялись, друг на дружку смотрим и плачем. Понятно, где же мог кондуктор ее быть? Только на той «Марии», которой, несчастной, никакого спасения, а только взрывы оттуда да огненные столбы. И зла у меня, понимаешь, на Лушу нет, а только как она мне губами одними шепчет: «Неужели погибнет, неужели?» – я ей слова свои тоже изнутря: «Быть, говорю, этого не может, чтобы погибнуть дали, когда вся эскадра стоит поблизу». – «Ах, жалко, говорит, у нас бинокля нет». – «Это, говорю, действительно жалости достойно, однако у людей кое у кого есть, спросить можно…»
Так мы часа три с нею, с Лушей, вместе стояли и на другие места переходили, откуда, думали, будет виднее, и до Графской пристани дотолпились, потому что там все-таки, хотя и жандармы стояли, ну, может, знающие люди найдутся, нам про Чмелева скажут… И не то чтобы у меня на Чмелева сердце, – нет, не было этого, правду тебе говорю: одного хотел, чтобы ему спастись.
Народу же округ нас на Нахимовской и на Приморском бульваре – ну, прямо сказать, весь Севастополь, и так что все дивно, без стеснения начальство ругают. Будто офицер австрийский под видом нашего на «Марию» был допущен и адскую машину туда принес, в темном уголочке поставил, – так я слышал, один прилично одетый рассказывал. Потом по-разному говорили, отчего загорелось и взрывы пошли, но в этот именно день, это я помню, так в разных местах говорилось: немец будто какой-то с подарками матросам на «Марию» был допущен, а, между прочим, в подарках и адскую машину пронес, в которой завод часовой был… Тут и Эбергарда-адмирала поминали, что он делал, как «Гебен» нападал… Ему по телефону звонят в четыре утра: «Так и так, замечено – германский броненосец на мине номер пять стоит – взорвать прикажете?» А он, конечно, как сам немец, то и говорит: «Все это одни пустяки и не может быть». Ему в пять утра звонок: «На номере девятом стоит… Прикажете в расход вывести?» А он: «Приказываю я с подобным ко мне не лезть, а то арестую». Вот и весь разговор. А в семь, когда рассвело, «Гебен» пальбу и поднял… Коротко говоря, что тогда говорил народ, то я многое позабыл, только безо всякого стеснения крыли… А потом говорят, какие были с биноклями: «Утонула „Мария“…» А пожар продолжает, между прочим, своим чередом. «Что же такое горит, спрашиваю, там?» – «А это, говорят, нефть, как она такое существо, что и на льду и на воде гореть может…»
Наконец того, мы с Лушей, – а мы с ней как брат с сестрой ходили, – дождались: лодки оттуда к пристани начали приставать. Вот когда народ сильно кинулся. И жандармы стоят в сторонке, ничего сделать не могут, и так были человек в человека влипши, что качались все, как один все равно человек: то назад подадутся, то вперед, а за себя самого тогда я уж не помнил, что я есть… Мы только с Лушей под ручки взялись, чтоб нас дружку от дружки не оторвало… И вот увидали – ведут по лестнице, а там на Графской пристани, лестница такая очень широкая, белая, – ведут оттуда раненых, с «Марии», да не хуже меня, грешного, какой я был, когда оббинтованный, так что родная мать не узнает, а жена уж и подавно… Ко-вы-ля-ют, как все равно по гвоздям их ведут, а тут, конечно, моя Луша врыд, и я своим чередом плачу. Кричали мы им: «Чмелев, кондуктор, жив?» Ну, ихнего ответа не дождались, как все кругом нас свое имя кричали, каждой бабе об своем знать хотелось, и такой поднялся базар с ярмонкой, что уж… не хуже взрыву, одним словом… А потом стали войсками очень сильно народ от пристани оттискивать: узнать насчет Чмелева исключительно стало невозможно… Откачнулись мы на Нахимовскую, думаем: в морской госпиталь идти если, так туда же в ворота не пустят, остается отложить до завтрева. Пошли мы – она идет, плачет, а я утешаю. Потом она – к отцу-матери, а я к себе в комнату и так про себя все думаю: «Должен я ей прощенье сделать, как если Чмелев ее теперь покойник, и до себя допустить». Прошла эта ночь у меня в думках разных, а спать я не спал. Утром же рано я умылся-оделся, жду, когда Луша придет, опять значит, чтобы вместе с нею иттить, однако не дождался: рискнула моя Луша одна пойтить по мытарствам. Конечно, так и выходило пока, что же мне это дело? Чмелев мне ни кум, ни сват, а только жены моей похититель. Так день я этот весь прослонялся по Нахимовской, народу уж было гораздо поменьше, а все-таки еще много: просто сказать, от делов все отбились, и ни на что руки не налегали, как и у меня тоже. С одним, с другим говорю – вижу, теперь разговор уж другой идет: матросня будто сама «Марию» взорвала. «Значит, говорю, сами своей смерти захотели?» А мне в ответ: «Как кому повезет: кому жизнь, кому смерть, а не то что всем подряд, как быкам на бойне…» – «Не понимаю, говорю, ваших я слов». Отвечают: «Войну-то кончать надо когда-нибудь или ей дать до веку продолжаться? А матросы как в тысяча девятьсот пятом начинали, так и теперь… Наши черноморские матросы в этом деле практикованные, даром что тех старых годов теперь мало осталось… Молодые у старых обучились…»
И вот истинно тебе скажу: вдарило это меня уж не в затылок, как я тогда упал, а прямо посередке в лоб. Столько народу серого на фронте терпят больше двух лет, а каких уродуют, убивают, то новых на их место гонют, и почему же это? Нужна, что ли, простому человеку война? Ее, конечно, ведь из высших кругов люди начали, а раз ежель простой народ откажется, придется тогда и генералам мириться начать. Небось по-французски, по-немецки говорить учились, поговорят наши с немецкими и дадут войне конец. Ну, мы же, думаю, много своей земли немцам тогда должны отдать. Разве же это нам не обидно? Слова нет, обидно, однако Фенька вот, думаю, совсем обманным образом, а не то что войной, земли участок у меня взяла, а также хату на ней, и то я с ней сделать ничего не мог. Так это хожу везде, слушаю, как говорят люди безо всякого стеснения, а есть какие даже со злобой: «Матросня! Она уж раз в море, когда „Мария“ под Болгарией стояла, и то взбунтовалась: „Поворачивай в Севастополь“. Вообще полный во флоте развал стоит… Теперь нас турки голыми руками взять могут…»
Коротко говоря, понаслушался я в тот день, а к обеду на всякий случай к Луше на квартиру зашел. Оказалось, она дома, только что пришла, и радость большая в ней. Все-таки женщина способней насчет узнаванья разного, как мужчина: она скорее своим напором добиться может. Явственно ей в морском госпитале матрос один с «Марии» сказал, что Чмелев-кондуктор спасенный. «Там, говорит, может, и раненый, слова нет, а только обязательно в живых: своими глазами я его видал…» И вот она меня чаем поит, сидим, рассказываем друг с дружкой, и все она мне о нем, – какой он умный, да как много он книжек читает… А я действительно поглядел округ себя – книги, газеты везде – и ей со своей стороны: «Я тебе, Луша, не лиходей, и раз тебе за ним лучше, чем за мной, ты его и держись…» Ну, она, конечно, мне от радости: «Ты мне, Павлуша, тоже будешь родной…» Прочее-подобное, слова разные бабские. Так у нас в разговорах часа два прошло. Потом думаю я: «Что же, если он спасенный, надо мне в свою конуру убираться, а то вдруг он взойдет сейчас, ему неприятность, и мне тоже радости особой нет». Ушел. На другой день Луша сама заходит ко мне и говорит: «Теперь уж даже и сомневаться насчет Кости нечего: не только он спасенный, а даже и ран на нем нет». – «Как же это ты узнала?» – говорю. «Сказали мне, что он на другом броненосце под арестом сидит». – «Так это ж, говорю, разве хорошо?» – «Все-таки же лучше, чем ему смерть получить или же безногость…» – «А почему же все-таки под арестом?» – «Да, должно быть, сгрубил начальству: он ведь начальство не уважал очень…» Тут я складаю в уме, что на улице слышал про матросов да что она мне говорила, покачал головой и чистосердечно ей: «Думаю, Луша, что дело твое будет из плохих: под арест в таком случае попасть – это же не иначе военный суд, а военный суд – он бывает довольно короткий…» Ушла она от меня в слезах, а я своим чередом сижу – думаю: «Что, как если не то что начальству он сгрубил – это, может, и простят, – а вот не он ли главный всему зачинщик, если уж в сам деле, как от многих слышать пришлось, матросы сами свою „Марию“ потопили?.. Вот это уж будет ему тогда полный расстрел». И, разумеется, Чмелева мне этого совсем не жалко, как я его не знаю, а насчет Луши, как я до нее уж за сколько месяцев привык, как она мне женой была, я тогда думал – больше ей некуда будет податься, как ко мне опять, и начинаю я уж сомневаться в себе: брать ли мне ее, или в полном я праве погодить, как она, выходит, спротив меня спальная изменщица… Так же и про Чмелева думаю: может, он как раз взял да «Марию» и потопил и сколько там народу погубил-покалечил, не считая, что это для всех убыток какой… Ее, «Марию»-то, в Николаеве четыре года, я слыхал, делали, да сколько на нее материалу пошло – несчетно все это: многие миллионы теперь на дне моря лежат. А чьи же миллионы эти? Говорилось – рабочих достояние. А я же сам кто такой есть? Тоже рабочий. Стало быть, моя доля тоже есть пропавшая на этой «Марии». Мне должна быть тоже обида. А тем более сейчас же не простое тихое время, а военное… Как же он это такое сделал, этот Чмелев-кондуктор?
Так думаю себе, хожу по улицам, гляжу – матросов трое стоят. Я к ним: «Что, говорю, слыхать приходилось насчет „Марии“: правда ли, что ее, стало быть, своя же матросня зничтожила?» Они, брат, как вызверились на меня: «Ты что это за спрос такой?» А один даже прямо: «Шпиён это, братцы!» – «Как это, тому говорю, шпиён, как я природный штукатур-печник?» – «По пальту твоему сразу, говорят, печника видать». Да от меня ходу. А на мне, сказать тебе, пальто действительно было из господских: старого драпу и мех черный – одного прапорщика убитого мать старуха продавала с бедности, а я купил, зазору в этом не видел. И вот, стало быть, за пальто это я в шпиёны попал, будто спротив классу рабочего я изменщик. Очень мне это в голову ударило, даже темно стало, спасибо, скамейка была поблизу, я сел и думаю: «Обязательно Лушу я должен к себе пустить, как ее хахаля расстреляют». С тем я и домой пошел. Смотрю, у меня в комнате Луша сидит, дожидается, и опять радость у ней в глазах. «Неправильно, говорит, мне сказали, будто он арестованный, а только он раненный в голову, все равно, как и ты был, и теперь его в морской госпиталь привезли. Я спрашивала: живой будет ли? Вполне, говорят, рана из себя не тяжелая». И тут я Луше чистосердечно с радостью говорю: «Поздравляю я тебя, Луша, что такая ты родилась счастливая, благодаря судьбе своей». И даже мы с ней поцеловались три раза.
Коротко говоря, кондуктор этот Чмелев, действительно он уже так недели через три на своих ногах ходил. Я потом с ним вместе чай пил – разговорились. «Насчет „Марии“, говорит, никому ничего не известно, отчего погибла. Если сказать, что матросы курили, где не следует, то от этих матросов только клочки остались, а клочки человеческие ничего не скажут, что же касается, будто офицер австрийский с машиной адской, то это сущая брехня… а что матросов арестовывали за разные слова, то это сущая правда. Слова говорили, однако принять ко вниманию надо, кто же их говорил. Люди были все увечные и такой пережившие ужас в огне, кого же даже прямая лихорадка бьет: с таких людей много не спросишь приличного разговору, такие вне себя считаются».
Ну, одним словом, все он мне понятно растолковал: и как горело и как его спасали… Человек оказался не из плохих, зла против него я не имею, а только чудно мне тогда одно его слово показалось. «Я, – говорю ему, – за вас тут душою болел, и вы должны понимать, как мне теперь с Лушей быть, а также с вами, как вы считаетесь холостой, а я женатый, между тем же это вы, выходит, женатый, а я – холостой обратно; что же касается, если мне жениться, то ни один поп венчать меня не станет, потому как я считаюсь в законе. Вот, говорю, какая путаница между нами получается». А он мне на это так: «Подождите, говорит, краткое еще время, и скоро на такие путаницы люди наплюют да вот так разотрут». А сам смотрит на меня пристально. Из лица же он теперь похудел и глаза большие, и так что, сказать я должен, видимость у него пострашнела, а я эти слова его в голову себе взял: хотя, думаю, его и не арестовали, однако насчет матросов что-то он такое знает, иначе говорить ему попусту зачем же. И я ему со своей стороны: «Очень я вас чистосердечно благодарю, что вы меня, хотя на мне пальто благородное, за шпиёна не принимаете, потому как я природный рабочий и до времени по-рыбьему должен я молчать». – «Вот-вот, – он мне, – и пока вы, товарищ, молчите („товарищем“ меня называл), а придет время наше, мы пойдем с вами в одну ногу». Ну, с тем я от него и ушел.
Живу себе опять один. Декабрь я так провел, январь тоже, а что касается газет и разговоров всяких, я уж ничего не пропускаю мимо ушей, потому что глаза эти помню пристальные. И, признаться сказать, пальто свое благородное я уж реже стал надевать, а все больше в ватном пиджаке ходил. Правда, зима в том годе была выдающе теплая, никто не помнил такой… В конце концов, как тебе самому известно, в Думе свои речи говорили, в народе простом свои, а потом она и началась – революция. Ты в каких тогда местах проживал?
– Я-то? – Евсей подумал немного. – Это когда без царя дело пошло?.. Я тогда у себя в деревне жил.
– Ну, вот – в деревне. Стало быть, ты никаких картин настоящих не видал, которые человеку забыть невозможно. А я насмотрелся. И должен я тебе сказать чистосердечно: какие тогда по деревням ютились, много те люди потеряли… Я хотя царя только раз видел в фуражке в ополченской паршивой, замасленной, ну все-таки я забыть того не могу, как его в Севастополе встречали и до чего много к этому приготовлялись. Потому что кто же он был, царь этот?.. Тот же бог земной… Богу небесному и то уж все люди перестали верить, а тогда этому верили, что от него все на свете зависит, что ему только захотеть, и вот, какие миллионы людей погибнуть должны, они бы живые остались. А он вон что в своей башке держал: ни за что не помирюсь, а буду до победного конца гнать, и сколько там миллионов погибнуть должно, для меня это без последствий… Ну, ему и сказали: в таком случае долой тебя, и никаких больше царей не хотим – хватит. Эх, время какое было! Люди на улицах говорили об разном, никого не боясь, – когда это раньше было? И на пальто старого драпу с черным воротником не смотрели, может, ты шпиён.
Ну не все, конечно, праздник, должны когда и буденные дни наступить, а то гули да гули, ан в лапоточки обули. Оглядываемся мы, какие севастопольские, кругом, видим мы, народу все более: это что ж такое? А это какие на фронте насиделись, те домой пришли. Я тоже двух таких встрел, с кем раньше работать приходилось. Спрашиваю: «Как там насчет победного конца?» – «Таких, говорят, дураков уже теперь на фронте нет. А какие офицера нам на фронте говорили слова эти: „конец победный“, тех штыками перекололи».
Значит, вижу я, войне конец, и надо мне об себе позаботиться, как мне дальше прожить, потому я о своих деньгах сбереженных могу в лучшем виде «до конца победного» добраться, а потом что же мне? С ручкой ходить?! Народ же об работе своей не думает, и какие побогаче, те тоже прижукли и даже хорошую одежу свою до время под хорошие замочки спрятали, а сами в задрипанном начинают ходить и по сторонам оглядывают.
Конечно, слова нет, народ за сколько там лет на волю вырвался, и это ж народ городской, а не то что деревенский, – ему корпится все обсудить, а также насчет будущего, вот почему вышло, что говорили тогда в городе все очень даже много, а дела стали совсем тупые… Деревенская жизнь – там совсем другое: «Царя скинули? Скинули, стало быть, нам теперь земельки прирежут…» Так я говорю?
– Это для каких, смотря, местностев, – ответил Евсей, задумчиво ломая дубовую ветку. – У нас, сказать, там помещичьей земли не было, там заводская… На завод мы, конечно, ездили гужом, подвод сорок… Ну, с завода что взять? Только какие стекла себе забрали да котел разбили… У нас ничего в те времена особого… А теперь, конечно, колхоз…
– В деревнях что? Там у каких помещиков что и брали, опять же Керенский приказывал назад отдавать… Ну, уж Севастополь тогда, как котел, кипел, и только капиталисты работ никаких не открывали, боялись. Одним словом, ни по штукатурной, ни по печной – ни-че-го… И вот начинаю я думать опять об Феньке: как же это она, стерва, в моем доме барствует, горя не знает, а я последние деньги из кассы тащу? Ты при ком это меня обмотала? При царе дело было. А где теперь царь этот со всеми законами его прискорбными? Раз царя нет, то и все законы его – аминь. На чьи ты орудовала деньги? Почему купчую-мупчую на свое имя сделала? Почему меня вон из моего угла кровного? Вот теперь ты мне на все это ответь!
Коротко говоря, прихожу я на Корабельную, которой я даже, если и бывать там по делу, и то избегал, вхожу я опять на свой двор – собаки уже две на меня накинулись с двух сторон, а на порожке, вижу, дите елозит. Та-ак, думаю, это уж, значит, Гаврилкино старание, значит, когда я насчет коз своих приходил, пожалуй, что она уж в начале в положении была, потому что дите уж порядочно елозить может. Я это прямо на порожек и в дверях с самой Фенькой сталкиваюсь. И что ж ты думаешь? Она уж другого грудями кормит. А на меня, конечно, со страхом и назад пятится. «Здравствуй, говорю, Федосья, и со свободой народной тебя поздравляю!.. Хотя ты, разумеется, свободу раньше того себе дала и время ты, вижу, зря не потеряла». Смотрю, уж и девочка, так лет двенадцати, около нее оказалась: это она племянницу свою из деревни заместо няньки взяла. Федосья, ни слова не говоря, в крик ударилась, девочка себе заорала, ребятишки двое себе – такой содом-гомор поднялся, что я аж на табуретку сел и уши себе заткнул…
Ну, она видит, бить я ее не собираюсь, маленького в люльку спрятала, сама стала около. «Чего тебе? Что ты так пришел вдруг?» – «Я, Федосья, пришел, говорю, с тебя свои деньги стребовать, как я теперь вижу, что жить я в своей хате не могу по причину содома, а давай мне мои деньги назад, с каких ты сама себя приделила к месту на свою жизнь, а то бы, может, ты и до сих пор по чужим людям служила… Давай мне эти шестьсот рублей, за мое увечье полученных, а что тебе за мое здоровье чиновница чугуевская отвалила сто двадцать, тех уж я не считаю…» Она было, как кошка, в дыбошки, а я ей все свои резоны докладываю: во-первых, царизма уж больше нет, а во-вторых, теперешние шестьсот рублей и тогдашние шестьсот, это уж всякий ребенок понимает, похожи как потолок на барашка, а в-третьих, одни даже мои две козы теперь те же, почитай, шестьсот стоят, а не то что дом с участком. Я же, говорю, тебя тогда беспокоить не буду, как мне все равно Гаврилкиных детей нянчить охоты нет. Она это сейчас: «Каких это Гаврилкиных? Почем ты думаешь, что Гаврилкина?» – «Ну, может, и кого другого, говорю. Севастополь велик, войска стоят в нем много, также и флот». А она: «Это, говорит, моего истинного мужа дети, какой сейчас должен приттить, за картошкой пошел… А ты зря языком на женщину не трепи». Я ей: «У бабы, говорю, и сам черт не мог понять, от кого у ней дети получаются, а только мужа твоего законного теперь, небось, и ворон костей не найдет».
И только я это, понимаешь, сказал, гляжу – дверь с надворья отворяется, и солдат в шинели входит, мешок, действительно, картошки взносит… Я думаю – Гаврилкин, не иначе… Оказалось что же? Действительно, муж Фенькин с фронта ушел, как тогда многие сотни тысяч поуходили, и вот он дома живой-невредимый, фельдфебель стал, и на рукаве нашивка-галун! А я как сидел на табуретке, так и продолжаю.
Он мешок сгрузил, на меня смотрит, а Фенька ему с такой про меня злостью: «Опять пришел денег требовать. Надо его раз навечно отвадить». А тот, муж ее, с морды стал еще толще, обширнее. «Та-ак, говорит, землячок: так ты, стало быть, чего же хочешь? Чтобы мы тебе дом свой отдали?» А у самого желваки играют. А Фенька как завизжит: «Хорошенько его, чего смотришь. Он меня чуть ногами не затоптал за коз, а тебе все равно». Да за кочережку железную. Я вижу такое, что вдвоем они меня свободно убить могут, – с табуретки да в дверь. Это мое счастье было, что муж Фенькин мешок тащил сдалека, с базару, упрел и сел тоже, как и я: ему, значит, подняться было уж куда труднее. Дверь же у них на двор отворялась, мне без задержки, и то за мной Фенька аж на улицу гналась с кочережкой, до того баба остервенела.
Иду я после того домой, а сам думаю: «Царизма хотя нету больше, однако права наши прежние остались: у кого кулаки потверже, тот тебе и закон пишет…» Даже опять головные кружения у меня начались, так что дня два я тогда дома пролежал, пока отступило. Я хотя и кричал Феньке, что судом добьюсь, однако и сам видел, что суда тут никакого быть не может, а добрая совесть у людей подобных, она засохши. К Чмелеву-кондуктору было я обратился с этим своим делом, как стал уж он теперь шишкой большой. Но только очень уж шибко он начал бегать по улицам. Я на улице его встрел, говорю: так и так… а он за часы серебряные: «Эх, некогда, товарищ, до черта. На корабле собрание сейчас, а мне выступать». Да на трамвай скорей… Ну, одним словом, раз человеку все речи надо говорить, ему, разумеется, другого выслушать человека времени ни капли нет.
Продолжаю по-прежнему – потому что работы, своим чередом, никакой. Тащу деньги из кассы, слушаю, народ говорит: «Это что за революция была! Это так себе, начерно, а чистая работа, она еще впереди будет». Ну, тут уж я, конечно, с ними. «Правильно, говорю. Это что царя-то сшибли, а какой-то там Керенский на его место, это ничего не обозначает, раз опять объявлена война до победного, а правды не разыщешь. Войну надо скорее кончать, а правду искать». Раз так сказал и другой – гляжу, мне уж начинают руками хлопать.
Так и сам я понимать начал, что у всякого своя зуда чешется: у меня – с Фенькой, у другого – с Ганькой, а зуда своим чередом есть. С кем промеж себя ни случалось говорить, у всякого своя грызь. Трясти яблонь начали, так уж так надо трясти, чтоб уж яблоков на ней больше не оставалось, а то, выходит, что же? Какие самые червивые, оказалось – они самые спелые, те свалились, всего несколько их свалилось, и вот уж говорить начали: сняли мы урожай. А урожай – он весь на дереве висит, и теми, какие яблоки свалились, никто не сытый, а только аппетит разгорелся… Я где в чайной это скажу, где на улице, слышу, мне кричат: «Правильно!» А какие подходят и мне шепотом: «Ты все-таки, товарищ, поопасывайся, а то могут тебя меньшевики сцапать». Вон еще когда я про этих меньшевиков услыхал: власть, оказалось, тогда ихняя была в Севастополе.
Ну, дальше – больше, от работы я совсем отбился, а все корпится мне речь свою сказать. Да и за прочими я замечать стал, что все тогда были в волнении: газеты покупать начали прямо несудом. Потому обидно, понимаешь, всякому: столько радостей было, что вот царя у нас больше нет, и всю полицию, всех жандармов под итог, и говори, что хочешь, а на проверку оказалось: говорить говори, а рукам воли не давай. И свобода полученная – к чему она проявилась? Так себе, ни к чему, – одна только слава… И война своим чередом продолжается, несмотря что с фронта солдаты бегут. Выходит, какие поумнее, те бегут, а многие бараны остаются для пушек, чтобы пушкам австрийским было кого на прицел брать.
Ну, коротко говоря, когда Октябрьская подошла, тут только я понять мог: вот она, правда настоящая, на земле явилась. А также, думаю, дело мое с Фенькой, обмотавшей, должны теперь правильно решить, и будет у меня угол вечный.
Я уж об шестистах тогда не говорил. Какие там шестьсот, когда уж не товар за деньгами, а деньги за товаром гоняться стали. Чемоданами целыми с собой люди деньги таскали, а что покупать на них, это уж был вопрос. Кто старину помнил, как купцы к себе за рукав тащили, те, конечно, только головами мотали: это что же такое? Ну, вот… Так же и я с моей хатой. Что такое для меня эта хата? Это я знаю про себя, – мое увечье смертельное. С трехэтажного сорвался я зачем? Чтобы мне для себя какой поближе крышей к земле, одноэтажный, построить. Вот что я знаю, а не какие-то шестьсот рублей… Про шестьсот я должен забыть, а про дом свой помнить.
Вот когда я к кондуктору Чмелеву приступаю и говорю ему, как он важный большевик оказался. «Товарищ Чмелев, говорю, так и так… Ожидаю от вас правильного решения и скорого с Фенькой и ее мужем фельдфебелем конца… Потому что, хотя их там теперь в моем доме пятеро скопилось, считая с детями, а я один, ну все-таки дом этот взят у меня обманом, также и место – об двух белых коз не говоря. Если же скажет она, Фенька, об ста двадцати рублях, какие еще тоже сюда вложила, то это все равно одно к одному – мое же: с моей стороны труд все-таки считается постельный, а с ее – кровный обман».
Все это Чмелеву я высказал – думаю: «Ну теперь, как он у власти стоит, делу моему правильный конец подошел». А он что же, этот самый Чмелев? Он поглядел на меня глазами своими пристальными да говорит: «Эх, товарищ Павел! И чем только ты занят… Ты все это брось к чертям и думать об этом забудь. А вот мы снаряжаем теперь отряд в Ростов против Каледина-генерала… Как ты все ж таки ополченец бывший, можешь записаться в отряд, по железной дороге он едет… А другой еще мы отряд посылаем, тот морем на миноносцах пойдет. Лучше тебе будет идти в пехотный отряд».
Ну, я его, конечно, словесно благодарю за совет подобный, когда я даже во втором госпитале признанный к службе негодный, и чтоб я куда-то доброй волей своей в Ростов на убой ехал.
Живу, свои деньги последние проедаю. А между прочим, что же, ты думаешь, вышло? Вышло – я даже понять тогда не мог: Фенькин муж, фельдфебель, он же собой был здоровый, как все одно флотский, откуда же в нем кровь могла взяться порченая? Об гвоздь он, понимаешь, по домашности что-то делал, напоролся и будто через это пропал. Началися с ним будто корчи от этого, – сказал мне так извозчик с Корабельной, – я это, значит, его прежде того знал, потому что мы в близких соседях с ним были, – начались корчи, и так неотступно, что с тем и кончился, а помощи никто дать не мог… Будто болезнь такая была, ну, я думаю, гвоздь – он что же такое? Мало кому приходилось на гвозди натыкаться, хотя бы по нашей работе. Никаких же с нами корчей не было… Нет, я так считаю, что это от порченой крови. Будто даже так, что недели не проболел – пришлось моей Феньке его на кладбище везть.
Я это как услышал, хоть нехорошо это считается, ну, дня три я не в себе веселый ходил. Хожу, про себя думаю: называется это как? Называется это наказание… Какой он сидел тогда красный, как помидор спелый, как из города Омского явился, думал я, ему веку не будет… На войну пошел – ясный же ему там конец; нет, конец его назначался совсем не там, а где и ждать никакого конца не приходилось: на гвоздю заржавом.
Вот же погнался человек за домом моим неправильно, а получил себе чистую отставку – смертный час. На какой большой войне был, ничего, не задело, а тут на пустяке – и попал… Не то это в ноябре, не то это в декабрю было, не помню, ну, одним словом, мне тот самый извозчик, на Екатерининской я его встрел, сказал. И вот у меня пошла своя думка… Пойду, думаю, к Феньке, так и так скажу: не так много лет прошло, как мы с тобой жили и домок этот отстроили, пускай ты хотя ребят прижила, ну, раз от законного мужа, то это уж не считается, чтобы особое против меня зло, и могу я их тоже за детей признать, и так и быть: согласен с тобой я жить, как мы с тобой прежде жили, и будем мы дальше-больше хозяйство весть…
Вот надел я пальто с воротником с черным, благородное, и шапка у меня тоже тогда была настоящий каракуль мелкий, а не то чтоб какая бывает фальшивая фабричная работа, – пошел к ней.
Ну, конечно, человек решает свое дело не спросясь; говорит себе самому: пойду. А сам не знает, на что он идет, все равно как тот же фельдфебель в дом мой пошел за близкой смертью…
Прихожу я… Видят собаки – прилично я одетый, брешут средственно. Я прямо на крыльцо, под каким козы у нас раньше жили. Смотрю – вместо девчонки-няньки той, какая прежде была, здо-ровая девка стоит, фартук на ней синий. «Вам кого надо?» Гляжу, тут же и Фенька входит – она у коровы своей была, отдаивала: корова телиться должна была – очень вымя раздулось, отдаивала, и, конечно, от нее самой и пах коровий, и сама же она за то время, как я ее не видел, разъелась, совсем коровища стала немецкая, без рог только…
И что же ты думаешь? Дала она мне хотя бы два слова сказать? Я ей успел только: «Слыхал, говорю я, Федосья, об несчастье твоем кровном, и вот надо нам с тобой помириться благодаря судьбе…» А она как заорет: «Так ты теперь, орет, на мое несчастье да свои лапы расставил, чтоб у меня мою имущество заграбастать? Так ты на то понадеялся, что раз муж мой зарытый, так это уж опять же твое стало? Так ты думаешь, как теперь власти нет, тебе это позволится?» Одним словом, разное-подобное… А пришла же она с доенкой, молозиво принесла, и доенка же эта у нее в левой руке была, пока она все кричала, а как кричать перестала, она эту доенку в правую руку да молозивом в меня – на пальто, на шапку-каракуль, как она у меня была в руках, и, конечно, все мне лицо залила… Во какая баба подлая оказалась… Раз такое дело, конечно, всякий человек драться должен кинуться… Я, разумеется: «Подлая!» – да на нее, а она ж меня, как ведро у нее все в руках оставалось, ведром этим, доенкой, в голову… Я и упал.
А дело уж к вечеру было: я нарочно так время выбрал, чтобы зря не ходить, а ее чтобы дома застать. Утром же пойди – глядишь, на базаре она или где, а уж к вечеру все бабы, конечно, дома бывают… И так уж зимний день – он какой: нистожный – свету от него много не бывает, а вечером и тем более – чуть-чуть, а тут, как упал я, глаза мне совсем заметило, и дальше уж я не помню, били они меня вдвоем с девкой этой здоровой или нет, – в этом врать не хочу. А должно быть, как лежал я на полу без чувств всяких, то они вдвоем темноты дождались, да меня на улицу вынесли, а пальто с меня сняли и шапку тоже, как она чистый каракуль была, и сейчас ее купить если – полтораста рублей отдай.
Одним словом, очнулся я уж на улице, и холод во мне и дождик на меня с крыши капает… А пальта и шапки нету… Вот как она меня обработала, эта Фенька.
– Может, пальто и шапку какие другие шли, сняли? – вставил Евсей.
– Какие же могли быть другие. Ну конечно, потом уж на кого хочешь думай, только домой когда к себе я попал наконец, – ни пальта, ни шапки, и во мне во всем жар, и голову несветимо ломит… И так, что я пять сутков тогда пролежал, не выходя. Жаловаться – это мне такой совет люди давали. Ну, а я уж видел тогда, что все эти жалобы мои будут в пустой след. Никакие жалобы тут помочь тогда не могли, потому что Фенька, она не такая дура, чтобы пальто-шапку дома держать. Она их за эти пять сутков раз двадцать могла продать, а властям тогдашним, какие тогда были, так могла бы она набрехать, что меня самого грабителем сделала бы. Девка же еще, да она сама – их бы против меня двое говорили. А мои где свидетели? Сказали бы: нападение делал – вот и все. Как меня уж через эту Феньку судили один раз, то я уж знал, чем она у нового начальства дышать станет… И вот почему – мне говорят: жалуйся, а я отвечаю: подожду, когда мне полегчает… А сам планирую так: последние деньжонки, какие у меня уж из кассы давно были взяты и спрятаны, на эти деньжонки я собрался да из Севастополя тогда взял и подался в тихое место – в Армянск.
Вот черезо что я до того времени в Севастополе не дожил, когда адмиралов-генералов в море топили. Это, мне говорили, уж в марте было, называлось Варфоломеева ночь, а я в январе ушел… и даже еще до этого времени, как матросы севастопольские город Симферополь взяли. Так что об этом я уже в Армянске узнал и подумал: «Не иначе – кондуктор Чмелев тут при этом отличился». Куда он потом делся и моя Луша с ним – этого я уж не знаю, не приходилось слышать.
И так что потом, правду тебе сказать, жил я совсем кое-чем, лишь бы мне прожить. А чуть заворошка какая военная начиналась, я свой мешок собирал и уходил опять в тихое место… Как в те года строиться охотников очень мало являлось, то жил, положительно тебе сказать, кое-чем… В Мелитополе жил, в Новомосковском жил, в Павлограде жил, – а как фронты сюда дошли, также махновцы и прочие, я даже взад Харькова подался… В Чугуеве тоже я жил.
– Это где твоя краля была?
– Вот-вот… Краля… Только ее, брат, уж я не нашел, счезла, а, конечно, мужская думка у меня на ее была… Ну, известно, революция людей раскидала куда зря, а как я ее настоящей фамилии не знал, где же ее найтить. Спрашивал я там у людей казначея, а мне говорят: теперь и казначейства-то никакого нет, а не то что тебе казначея. Лысый, говорю, из себя, картуз зеленый. Так же, говорят, и лысых теперь мало где осталось, а больше пошли молодые, какие с волосьями… Ну, одним словом, может, он даже и не казначей был: у баб правду разве узнаешь.
– Так неженатый ты и прожил?
– Говорится пословица: жениться-то шутя, да кабы не взять шута… Вот поэтому я и остерегался. А, конечно, жениться бы отчего не так, когда это стало простое очень дело. Но я не так про свою законную жену помнил, как помнил я про Феньку.
И вот же теперь это я в первый раз после стольких годов в Крым опять заявился, и смотрю я с горы этой в ту сторону – в той стороне Севастополь, а в этой, налево, – тут Феодосия, Керчь, смотрю я туда, а сам думаю: надо бы когда туда проехать, на тот дом, с какого лететь пришлось, полюбоваться, также на Корабельной побывать… А то дело, конечно, уж к старости идет… Посмотреть надо.
– Чего же тебе там смотреть? – удивился Евсей. – Домишко опять свой смотреть?
– Конечно, он уж теперь законно не мой считается, а настояще Фенькин, как я его сам, выходит, бросил и от него ушел. По новым нашим советским законам так выходит. Называется – бесхозное имущество, раз заявки на него не сделано от хозяина настоящего, а потом, через столько лет, заявки хоть и не делай: дом, раз он бесхозный, должен к городу отойтить. Ну, тут же он, конечно, не к городу Севастополю отошел, а в руках окончательно Феньки остался.
– Может, твоей Феньки и на свете давно нет? – перебил Евсей.
– Может, и нет… Все может быть… Тогда ее дети – наследники. Считай, сколько старшему лет, когда уж в семнадцатом елозил.
– Годов шестнадцать.
– Вот видишь как. Это уж считается теперь самый настоящий возраст… Значит, у Феньки уж целый хозяин за это время возрос. Да другие еще, небось, догоняют… Все-таки хотится мне до Севастополя доплысть… Давай вместе, а?
– Гм… Это чтоб у твоей Феньки меня вместе с тобой били?
Евсей хлопнул немного Павла по спине и встал:
– Пойдем ужинать, а то опоздать можем.
Начинало не то что темнеть, а золотеть повсеместно, точно поднялась золотая пыль и запорошила и горы и море. Павел спускался с Евсеем к баракам совхоза и говорил:
– Нет, все-таки Фенька, она уж теперь тоже под годами. Года же, они человека много меняют… Как здесь работа кончится, ты, конечно, как знаешь, а я уж все одно – корпится мне, значит, надо: туда подамся.
1932 г.
Итог жизни*

Он появился на этом большом загородном участке с некошенной летом и теперь высокой, густой, сухой, колючей, желтой травой в середине сентября. Хозяин его, татарин Мустафа, звал его по-русски Васькой, как зовется от Белого до здешнего Черного моря всякий вообще мерин. И по-русски же он сказал ему, снимая с него уздечку:
– Ну, Васька, прощай, Васька! Айда, пасись тут!.. Трава тут хорош, ничего… Тебе – да хватит…
Васька пытливо глядел, как Мустафа неторопливо уходил в калитку и потом скрылся за кипарисовой аллеей. Он слегка заржал, поставил уши топыром, послушал, покачал вниз и вверх головою и двинулся к калитке, чтобы догнать хозяина, но напрасно он думал отворить ее, тычась в нее мордой: она была на крепком крючке, и от нее далеко вправо и влево тянулась ограда.
Дрыгая правой задней ногой, Васька пошел вдоль ограды, думая выйти, но везде натыкался то на кусты шиповника, то на кусты держи-дерева, то на корявые дикие груши: все были колючие, а за ними в пять рядов колючая проволока, туго натянутая на дубовые колья.
Васька посмотрел на синее море внизу, на зеленые, кое-где на самом верху тронутые яркой желтизною кудрявые леса на горах, – то, что видел он здесь уже пятнадцать лет, – и сердито дернул зубами засохшую, пыльную сурепицу: продавши его еще утром, Мустафа уж не кормил его больше, а теперь наступал вечер.
Искрасна-гнедой, с вороным вытертым хвостом, на светло-желтой траве он был очень резко заметен издали, и молодой мышастый дог Ульрих, увидя его от дома, загремел на него могучим басом.
На лай Ульриха вышла высокая женщина – Алевтина Прокофьевна, новая хозяйка Васьки, и сказала:
– А-а, уже привел!.. – А так как Ульрих продолжал яростно греметь, то добавила поучительно: – Улька, это наш Васька. Нельзя Ваську-Ваську!.. Нельзя!
Когда она приносила домой взятую у соседей кошку, она подносила ее к самому носу Ульриха и говорила:
– Улька, кису-кису нельзя!.. Эту кису-кису нельзя!
Когда покупала курицу и пускала ее первый раз погулять, убеждала:
– Ципу-ципу нельзя!..
Не так давно завела она пару поросят, которые привели Ульриха в такой дикий раж, что долго пришлось ей уговаривать его:
– Пацю-пацю нельзя! Уляшка, пацю-пацю нельзя!..
Поросята, добродушно хрюкая, сами лезли к нему, доверчиво подымая пятачки, но в первые дни это его нимало не трогало.
Удивленно узнав, что даже эту лохматую гнедую лошадь, неизвестно как и зачем забравшуюся к ним, нельзя ухватить за морду зубами, Ульрих только лаял на нее издали в большой досаде, между тем как Алевтина Прокофьевна достала из бассейна ведро воды, а на кухне отрезала и посолила ломоть хлеба.
Так хлебом-солью и ведром воды встретила она старого мерина, который рассматривал ее выпуклыми глазами из-под спутанной челки пристально, но явно презрительно. Его продавали и покупали в последние годы довольно часто, так как он был лошадью старой, давно посаженной на ноги; но ни разу не случалось еще, чтобы купила его женщина. И когда он съел ломоть хлеба и выпил полведра воды, он фыркнул неблагодарно и отошел пастись и ждать Мустафу.
Ульрих не мог все-таки примириться с тем, что большой кусок хлеба достался не ему, а этому чужому; отстав от хозяйки, он кинулся на мерина сзади. Мерин лягнул в воздух одной ногой и вдруг, повернувшись, бросился на Ульриха сам и пытался догнать его вскачь.
Алевтина Прокофьевна удивилась даже:
– Ска-жи-те, какой рысак!.. Он еще скакать может! Ого!.. – И, боясь, чтобы Васька в этой игре не убил дога, крикнула: – Улька, на место! Сейчас же на место!.. Это я кому говорю «на место»?
«Это я кому говорю» на Ульриха действовало сильнее всяческих приказаний. Косолапо он пошел за хозяйкой, ворча ткнулся в ее легкие ноги и заглянул виноватым взглядом в ее глаза.
Хвост он все время держал совсем не по-дожьи, кольцом, – это был его недостаток, во всем же остальном он был вполне чистокровен. На груди его белело неровное пятно, похожее на трехпалую руку; след от его лапы на мокрой земле едва можно было прикрыть блюдечком. Когда он уставал бегать и, ложась на веранде, тяжело и часто дышал, как будто моторная лодка двигалась по морю, тогда красный, узкий, влажный, длиннейший, в полметра язык среди крепких, белых зубов казался совсем чем-то посторонним, змеею, которую он проглотил наполовину и вот-вот сейчас проглотит совсем.
Алевтине Прокофьевне нравилось, что его и люди и собаки кругом боялись.
Сентябрьское солнце кончается в пять часов. Оно быстро падает за горы, оставляя после себя растерянность и раздумье. Но в этот день, только оно зашло, захлопали выстрелы с разных сторон: это охотники, покончив с дневной работой, вышли на перепелов (дня за три до этого перепела налетели с севера). До полной почти темноты оглушала стрельба. Здесь кругом были пустые места: карагачевые кусты, шиферные скаты, кое-где небольшие колхозные табачные плантации, с которых уже сняли листья.
Мерин долго прислушивался и оглядывался по сторонам, пока привык к мысли, что ночевать придется здесь. В сухой траве, сразу прихваченной еще июльской жарою, сохранилось много сенных запахов. Иные травы засохли, не успев доцвесть. Когда мерин понял, что Мустафа не придет за ним, он начал грызть колючую траву злее, местами выгрызал ее до земли, оставляя почти черные круговины.
Ночь была теплая, тихая, лунная. На море где-то желтели огни двух встречных пароходов.
Муж Алевтины Прокофьевны, работавший в местхозе, пришел домой в этот день поздно: затянулось заседание. С мерином он столкнулся для себя неожиданно и хотел уже было выгнать эту неизвестно как попавшую сюда лошадь, но вспомнил, говорила жена: «Чем будем кормить поросят, когда решительно ничего не достанешь? Хоть бы одра какого купить для них на зарез: свиней от мяса за уши не оттащишь».
По природе муж Алевтины Прокофьевны был здоров, неутомим и потому добродушен. Он похлопал Ваську по тощей шее и сказал весело:
– Значит, ты и есть этот самый одер?.. Та-ак!.. – Провел рукой по ребрам и добавил: – Ничего, – подходящ!
Ужиная, он говорил деловито:
– Да ведь лошадь, она, конечно, теперь уж пережиток… Скоро наших теперешних лошадей в зверинцах будут показывать вместе с дикой лошадью Пржевальского… И вообще… по вопросу всяких людских паразитов… Как будут теперь перестраивать свою жизнь всякие вороны, галки, коршуны, ястреба, хорьки… прочее такое… Все они приспособились к мелкому частному хозяйству, и вдруг гигантские совхозы, колхозы… Ты сама говорила, что вороны нападают на ястреба, когда он кур сторожит… Не дают курицу истребить. А почему?.. Потому что вороны, – они долго живут на свете, они отлично знают: нанесет курица яиц, выведет цыплят, – вот тогда-то они на этом деле заработают!.. Кто больше всего маленьких цыплят таскает? Ворона, разумеется… Так что куры – это и воронье хозяйство… А что будет ворона делать в большом птичьем совхозе?.. И чем, хотел бы я знать, могут там поживиться ястреба, хорьки, барсуки всякие?.. Когда дело будет поставлено по-американски и цыплят даже выпускать из птичьего дома не будут, – чем?.. Ничем!.. Переведутся все эти твари, как волки в Англии…
Поужинав и поговорив, он, как и всегда, снял рубашку и проделал гимнастические упражнения с гирями. Торс у него был атлетический, хотя пучок щетинистых темных волос под носом начал уже седеть.
Едва стало светать, ошеломляюще залаял Ульрих. Он спал на веранде, и иногда в комнаты доносилось его равномерное густое храпенье, действуя усыпляюще. Но теперь он был вне себя. Его лай заставлял дрожать стекла веранды…
Алевтина Прокофьевна совершенно потерянно шептала мужу:
– Миша, обыск!.. Это обыск!.. Они всегда приходят рано утром… Это обыск, Миша!
Миша – Михаил Дмитрич – привык высыпаться по ночам. Разбуженный не вовремя, он не испугался, он осерчал… Отворив двери на веранду, он крикнул:
– Кто там? Улька, замолчи!.. Кто там? Какой там черт? По вопросу кого?
– Верховой! – прошептала сзади него Алевтина Прокофьевна. – Верховой, – я вижу!
Действительно, в синеватом, чуть просыпавшемся там, за окнами веранды, показалась смутно, черным силуэтом на черноте миндальных деревьев вздыбленная как будто конская, но чудовищных размеров голова… Она тряслась беспокойно, как будто верховой, только что слезший и стоявший рядом, оправлял на ней уздечку или вешал на нее торбу с овсом.
– А почему же не стучат? – оторопел Михаил Дмитрич. – Улька, молчи!.. Молчи, тебе говорят!
И он решительно повернул ключ в дверях веранды. Улька был на цепочке, он не мог сорваться; он только надсадно гремел, но они двое разглядели наконец, что это не верховой, что это тот самый мерин Васька, забравшись как-то в их маленький палисадник, захватил зубами и терзает широколистую, стоявшую там в кадке пальму-латанию, которую три года заботливо выращивала Алевтина Прокофьевна…
Перед тем как идти на обычную работу в местхоз, Михаил Дмитрич, ворча и часто поминая «идиотские бабьи фантазии», поставил перед домом несколько кольев и прибил к ним проволоку в защиту от мерина.
Алевтина Прокофьевна выросла среди нескольких мальчишек, своих братьев, и от них переняла уменье терпеливо возиться с дикими птицами, с лесными зверьками, делать их послушными звукам своего голоса, способными понимать различные выражения светлых и круглых своих глаз и говорящие жесты рук, тонких, но сильных.
Если бы применить эти ее способности как следует, могла бы выйти из нее прекрасная работница в большом звероводном хозяйстве где-нибудь на нашем лесистом севере; но она была только женою Михаила Дмитрича, жила на пустыре, вдали от города, во время прибоев слушала, как ритмически плещется в берег море, во время штиля не уставала удивляться ошеломляющей его голубизне и на горах справа различала, – так примелькалось это, – каждую тропинку, каждую синюю или красную скалу, каждую кизилевую чащобу… По утрам ходила в кооперативные лавки, а придя, варила обед.
Ей нравилось, что встречала ее около дома ручная галка Пышка, кричала пронзительно-радостно и усаживалась ей на плечо.
Эта Пышка – она уж имела свою маленькую историю.
Прежде всего она была нездешняя: здесь, около моря, не водились галки, и не Алевтина Прокофьевна ее приручила.
Верстах в сорока, в степном городе выходил ее из желторотых галчат мирный, одинокий старичок псаломщик, но бойкая птица повадилась пробираться с ним вместе в церковь, и когда ей удавалось это, подымала там чрезвычайно веселый кавардак.
Церковный сторож, очень богомольный и строгий старик, пытался изгнать Пышку из церкви длинным шестом, на который привязывал тряпку, но куда же! – Галка летала по церкви в полнейшей ошалелости от восторга: как всякая галка, она любила блестящие вещи, а тут все блистало: иконостас, паникадило, подсвечники, лампады перед иконами, разноцветные камешки окладов… Нет, из такого великолепия не хотела улетать Пышка.
– Чер-товка!.. Чер-тов-ка ты!.. Вот уж чер-товка проклятая! – ругался выведенный из терпения сторож.
Но тут же вздыхал он, поникал серебряною головою, прислонял к стене шест и начинал усиленно креститься:
– Господи, прости согрешение!
Потом, отмоливши грех, опять подкрадывался к проказливой галке со своим шестом и, наконец, уморясь снова, хрипло ругался:
– Ссво-лочь!.. Ах ты же, сволочь паскудная!
И когда крестился потом, то взывал хотя и просительно, но довольно строго:
– Господи! Помоги изгнать беса!..
Вдвоем с псаломщиком они кое-как вытуривали галку и захлопывали двери, но в конце концов пришлось псаломщику расстаться с Пышкой: он вынес ее на базар продать или просто подарить кому-нибудь из дальних приезжих. Такою дальней приезжей оказалась в тот день как раз Алевтина Прокофьевна, купила Пышку за гривенник и привезла в одной клетке с гнездом плимутроков.
Очень быстро освоилась Пышка на новом месте, щеголевато гуляла по веранде, шипела на Ульриха, когда он ляскал на нее зубами, подвывал и крутил хвостом, – целый день была озабочена то тем, то этим, как рачительная экономка, но Алевтина Прокофьевна заметила, что у нее пропали одна за другой две чайных ложки. Только еще думала она, куда могли они деться, как совершенно бесследно исчезли маленькие ножницы; за ними пропал куда-то наперсток…
Михаил Дмитрич заподозрил Пышку, Алевтина Прокофьевна ее защищала, но на всякий случай устроила ей приманку: положила на пол веранды на самое видное место новенькую монетку, а сама наблюдала из комнаты сквозь дверную щель. Пышка сделала вид, что монетка (эка невидаль!) нисколько ее не занимает: прогуливалась около и бормотала пренебрежительно… Держалась так минут десять, – наконец повернула туда-сюда круглую голову в сером платочке, захватила монетку клювом – и наружу.
Галкин клад разыскала Алевтина Прокофьевна только на другой день в овраге за сараем, под дубками, между двух больших камней, полузасыпанных палыми листьями. Кроме ножниц, наперстка и ложечек, оказались там и чья-то запонка с голубой эмалью, и чей-то серебряный крестик с отломленным ушком, и два новеньких ключа от чемодана, связанных синей ленточкой, и ручка от алюминиевой кастрюльки.
Не то осерчала Пышка на то, что разграбили ее богатства, не то была очень сконфужена, только она после этого держалась где-то вдали и только на третий день появилась снова на веранде и начала вести себя так, как будто нигде не была, никуда не улетала: прогуливалась щеголевато, бормотала хозяйственно, шипела на Уляшку.
Несколько раньше, чем появилась Пышка, Алевтина Прокофьевна достала было у одного охотника лисенка, и казалось ей таким трогательным, что лисенок, совсем как маленькая собачка, карабкался к ней на колени, когда она сидела, брал осторожненько еду из ее рук, бегал за нею следом и заглядывал ей в глаза зелеными лесными глазами. Он очень быстро поладил с Уляшкой, тогда еще только шестимесячным щенком, но воинственно был настроен в отношении кошки.
Пощечины, которыми награждала его кошка, действовали на него слабо. Зато часто слышала Алевтина Прокофьевна, как отчаянно визжала кошка, которую трепал лисенок. И наконец совсем куда-то она сбежала. Но вскоре после того от петуха орловской породы остались только сиротливые рыжие перышки на дне оврага. Грешили, конечно, на ястреба, хотя ястреба весною перекочевывали отсюда на север. Потом как-то уж совсем бесследно, точно ее украли, исчезла курица. Но на второй курице попался лисенок. Курица эта захвачена была им за крыло и страшно орала. На крик бросился Уляшка, и Алевтина Прокофьевна, выбежав, видела, как по черному шиферному крутому скату оврага мчался лисенок с курицей в зубах, а за ним, стеная, как заправский гончак, неловкий, тяжелый, обрывающийся на сыпучем шифере, спешил Уляшка.
Часа через полтора только вернулся дог, совершенно измученный погоней. Он долго и шумно дышал, растянувшись на веранде, потом заснул беспокойным сном, поминутно вздрагивая всем телом. Лисенок же больше уже не появлялся.
Около дома жил еще и еж. В жаркие дни, вечерами, он безбоязненно выходил из кустов и медленно, но неуклонно катился колючим шаром к сковородке с водою, поставленной для кур. Тут он пил, пофыркивая, а напившись, не спеша уходил снова в кусты, и если останавливался над ним с грозным рычаньем Уляшка, не прятал мордочки и не подбирал ног, потому что Алевтина Прокофьевна брала собаку за ошейник и убеждала:
– Улька, – это наш ежик!.. Ежик… этот… наш!.. Нельзя!.. Понял? Нельзя!
И пара диких голубей еще, выкормленных Алевтиной Прокофьевной изо рта жеваным хлебом и кашей, гнездились на чердаке. Ели они вместе с курами и очень любили, когда Алевтина Прокофьевна пекла хлеб. Они узнавали об этом по запаху, и тогда не было конца их радостной гуркотне. А когда хлеб вынимался из печки и стоял укрытый полотенцем на столе или на комоде, голуби непременно должны были его разыскать, взобраться на него и распластать на нем крылья в сладостном изнеможении. Должно быть, запах свежеиспеченного хлеба напоминал им запах той жвачки, которой их вскормили. По крайней мере так думала Алевтина Прокофьевна, и это ее умиляло.
Пустырь, на котором была расположена эта, кем-то неведомым уже теперь устроенная усадьба, приходился между двумя очень глубокими оврагами – балками, как зовут их здесь. Однако и спереди, к югу, в сторону моря тянулась третья балка, хотя и не такая глубокая. И только сзади, на север, пустырь прилегал к дороге, выходившей когда-то на шоссе, но теперь заброшенной и заросшей.
Звучнее здесь были почему-то все слова, чем где-нибудь в долине, или это только казалось так. По крайней мере те, кто проходил по той стороне глубокой и широкой балки, справа или слева, часто слышали длинные разговоры молодой гибкой высокой женщины, что-то делающей около этого одинокого дома.
Она спрашивала, она и отвечала, она убеждала, она стыдила, она вышучивала кого-то, кто ей не отзывался ни словом. Этот молчаливый был большей частью Уляшка, иногда поросенок, иногда Пышка, реже голубь, еще реже петух плимутрок – очень глупое создание, – или ежик.
– Ты бы принес мне хотя ведро воды из бассейна, а то ты себе налопался и лежишь, как байбак! Дар-моед ты, дармоед презренный!
Это относилось, конечно, к Уляшке, который способен уже был нести в зубах ведро воды и делал это с большой готовностью, если дужку ведра всовывали ему в пасть, но ходить за водой сам не мог, почему и молчал, только глядел очень внимательно умными желтыми глазами и украдкой пытался поймать языком муху, чересчур нагло ползавшую по брыжу.
Или вдруг весело, но лукаво говорила женщина:
– Хитришь, брат, – ох, что-то ты хитришь! А я все твои хитрости насквозь вижу! Не обманешь меня. Нет, брат, не обманешь!
Это относилось, конечно, к беспокойной Пышке, задумавшей какую-то каверзу.
Или слышалось увещевательное:
– Ах вы, надоеды!.. Ах вы, ненаеды!.. Ах вы, ненасыты!.. Ах вы, неналопы!.. Ах вы, ненатрески!.. Ах вы, ненажоры!.. – И потом бурно гневное: – Прочь от меня, окаянная сила!.. Мало вам места, где пастись?
Это относилось иногда к поросятам, иногда к курам, а чаще к тем и другим вместе. После такого окрика брызгала в стороны многочисленная живность.
Маститые кипарисы окружали дом. Должно быть, так близко к дому были посажены они когда-то в видах слишком жаркого здесь летнего солнца, но зимой отнимали они у комнат много света. Шишки с ненужной щедростью облепили их со всех сторон и нагибали их темные ветки: вид у них был задичалый и несколько мрачный издали. Но под ними туда и сюда легко и проворно скользила женщина с обильными, у плеч подстриженными светлыми волосами. Иногда она пела, должно быть, вполголоса, потому что негромко: для себя. Голос у нее был грудной, виолончелевый.
Осенние дни своенравны. Они непостоянны, как вспышки сил старости. И появляется вместе с ними кое-что новое. Уродливые богомолы, размеренно ползая по земле, хватают легкомысленных кузнечиков и пожирают их, начиная с головы. Гнусаво кричат пестрые сойки, налетая целыми стаями на дубы и искусно обрывая с них еще зеленые желуди. Кусты кизиля становятся багровыми, как и листья винного винограда. Ветер, который теперь дует то с севера, то с запада, доносит из лесов на горах сильные и терпкие запахи сбрасывающих листья буков.
Васька подымал иногда косматую голову от сухой травы, поворачивал ее на эти запахи к горам, морщил ноздри и взматывал челкой.
Мустафа не приходил уже несколько дней. Ни сена, ни овса никто не давал. На легконогую женщину, которая ставила недалеко от него ведро воды и пыталась свистать, чтобы подозвать его, Васька смотрел презрительно по-прежнему. А когда проходил мимо него Михаил Дмитрич, ночную жесткую палку которого он помнил, Васька оборачивался задом и прижимал уши.
– Когда же ты думаешь резать его? – спросил как-то, ужиная, Михаил Дмитрич.
– Разве теперь можно резать, когда так еще тепло?
– Зачем же ты его покупала так рано?
– А затем, что позже, пожалуй, нельзя будет и достать, – вот зачем…
Однажды Васька радостно заржал тонким голосом евнуха: это поднялась подвода сюда снизу из колхоза, – вышло распоряжение скосить и привезти в сараи на сушку оставшееся на плантациях бодылье, чтобы потом отправить на табачную фабрику, где должны были его пустить в производство.
Лошадь была серая кобыла, знакомая Ваське, и, пока проходила она по дороге, он шел вдоль ограды, бодро дрыгая задней ногой и стараясь лихо подымать голову.
Но вот он уткнулся в угол, а серая знакомка пошла дальше. Ее остановили шагах в двухстах за кустами, так что только одни усталые уши ее было видно, но Васька долго не отходил грызть опостылевшие колючки перекати-поля, смотрел и время от времени грустно ржал слабым голосом евнуха. Когда же часа через два кобыла тащила тяжело нагруженный зеленым бодыльем воз обратно, мерин так же вдоль ограды, косясь и задирая голову, проводил ее до другого угла.
Русский рабочий из пришлых шагал около воза с вожжами в руках и смотрел на Ваську враждебно. На возу сверху прикручена была и сыро блестела, как нож мясника, горбатая коса.
Прежний хозяин Васьки, Мустафа, сытый, круглый, уравновешенный человек лет сорока, один раз тоже проехал мимо на новой молодой буланой, такой же сытой, как и он сам, лошади. Даже и Алевтина Прокофьевна, как раз в это время стоявшая у калитки, удивилась и спросила:
– Где ты достал такую?
– Тебе сказать? – ласково улыбнулся Мустафа. – Четыре штук таких Васька дал и еще половина! – А чтобы было понятнее, он добавил: – Пять таких Васька дал!.. Считай дорога туды-сюды, шибай, магарыч, что еще, – сама знаешь… Пять!
Линейка у него была теперь на новых черных резиновых шинах, колеса недавно окрашены в ярко-красное, – все было веселое, и сам сиял.
– Куда еду, сказать тебе?.. Автомобиль мотор не работает, просил приехать, забрать, – пфу!.. Мой мальчик автомобиль повезет!
И Мустафа захохотал весело и замотал головой. Шоссе отсюда было недалеко, и, присмотревшись, разглядела на нем Алевтина Прокофьевна светлую легковую машину, около которой возились люди.
На своего бывшего хозяина, на нового его красавца – жеребца Васька глядел из-за ограды таким сложным взглядом, в котором все было: и радость, и надежда, что его возьмет сейчас Мустафа на пристяжку, и ненависть к новому буланому, и обида, и отчаянье наконец.
Добежав до угла ограды, он стал бить в нее ногой, стараясь перебить колючую проволоку и вырваться. И он не ржал даже при этом, он как-то выл по-собачьи, тоскливо и глухо. Выпуклые глаза его были жалки и, пожалуй, страшны. Алевтине Прокофьевне показалось даже, что он плачет. Неестественным было бы взять и зарезать такое сильное еще и явно разумное животное… Она закричала:
– Мустафа, найди мне покупателя на Ваську. Я продам за свою цену!.. Скажи там кому-нибудь, слышишь?
– Э-э, – отозвался Мустафа. – Кто его теперь купит? Скоро зима, никто не купит… Кому говорить будем?.. Нема кому говорить!
Но он сказал все-таки, когда торжественно привез автомобиль в город; это была слишком радостная минута, чтобы не сказать, и в тот же день вечером к Алевтине Прокофьевне приехал другой извозчик Усеин с шишкой, он же «Лошадиная смерть», – старик лет шестидесяти с огромным турецким носом, с маленькими светлыми готскими глазами, безотказно еще грузивший на подводу пятипудовые мешки, весь в глубоких морщинах и соответственно, но непостижимо расположенных на лице красных наростах и с большущей жировою шишкой на правой стороне шеи.
Летом, когда дела его шли хорошо, он жирел, тогда вырастала чудовищно и шишка, зимою худел, и шишка становилась гораздо меньше; теперь она была средняя. Лошадей он любил менять часто, по-видимому, это было у него в крови – нечто вроде болезни. В три-четыре недели из каждой новой лошади он делал клячу, и та, на которой он приехал теперь, – рослая чалая кобыла, – еле переставляла ноги, распухшие во всех суставах, шла и гремела костями.
К большому удивлению Алевтины Прокофьевны, чуть только подошел, тяжело ступая и с кнутом за очкуром, Усеин к Ваське, тот отскочил, подобрав хвост, и потом, все оглядываясь, уходил от него в явном страхе, так что и Алевтина Прокофьевна сказала:
– Однако смотри ты, как он тебя боится!
– О-он зна-ает! – хитро подмигнул поочередно обоими глазами Усеин и вдруг добавил строго: – Копыта ему мягкий, кузнец ковать не хочет!.. Л-о-шадь очень старый: годов двадцать… На нога спорчен…
– Ну, все-таки лучше твоей! – даже обиделась Алевтина Прокофьевна.
– Бери мою, – тебе все равно на резня!.. Двадцать рублей тебе додачи. Ну?.. Айда!
И Усеин поднял черную (должно быть, уголь возил) широкую ладонь, чтобы сразу ударить по рукам.
– Это чтобы у меня тут твой скелет бродил, – испугалась женщина, – а ты чтоб моего мерина увечил?
– Ну, а что – увечил-увечил!.. Как это увечил?.. Я его, чтоб он да на постель спал? А, хозяйка!.. Я его, чтоб работал. Правда я говорю?
Усеин тоже обиделся. Нахлобучил шапку и отвернулся. Шишка и огромный нос делали его так очень похожим на пеликана. Уныло стояла на дороге совершенно мокрая и дрожащая чалая кобыла, иногда сгибая тонкую шею дугой, чтобы дотянуться губами до пыльной сухой травы на обочине.
– У меня тут Васька будет себе пастись, и хоть никто колотить его не будет, – начала думать вслух Алевтина Прокофьевна. – Недели через три, когда захолодает, его зарежут, так хоть мясо будет поросятам и собаке тоже… А ты его до резни еще раньше доведешь да вдобавок колотить его все время будешь…
– Прощай! – совсем осерчал Усеин. – Когда такой дело, – прощай!.. Жалко, сколько я время терял с тобой зря, ай-яй-яй!
И он пошел. И потом звонко загремели вниз по дороге его линейка и кости его кобылы, и показалось Алевтине Прокофьевне, что Васька в первый раз поглядел на нее благодарно и почтительно.
Ульрих обладал маленькой странностью: иногда он, подойдя к кусту, просовывал в него голову, осторожно, медленно, и как будто что-то старинное, лет этак за сто до своего появления на свет, вспоминал при этом. Медленно-медленно переставлял он, продвигаясь, не лапы даже, а каждый мускул лап, и не то что замирал, а совершенно переставал замечать окружающее. Как будто обыкновенный куст казался ему сплошь наполненным какими-то тайнами, и эти тайны он теперь постигал.
Такое в мышастом доге нравилось Алевтине Прокофьевне. Она даже наедине пожимала плечами, подымала высоко брови и так удивленно следила за ним издали, чтобы не испортить ему настроения.
Но поросята, эти трехмесячные пацю-пацю, необыкновенно жизнерадостный и занятой народ, они совершенно не выносили ничьей задумчивости и, подбегая с обеих сторон к Ульриху, добродушнейше хрюкая, хватали его за уши или за отвисшие брыжи.
И вот сразу пропадало всякое очарование воспоминаний дожизненного, Ульрих ляскал зубами, ворчал, подбрасывал голову, смотрел презрительно, морщил нос, старался показать, что даже и запах поросят чрезвычайно ему противен.
Однако он и сам был еще молод – годовичок – и не больше как через минуту сам начинал заигрывать с ними, и тогда подымался на дворе очень веселый кавардак. Поросята, разбежавшись, то один, то другой подталкивали его снизу в живот, а он старался ухватить их зубами за совершенно круглые и плотные, как футбольные мячи, спины. Так втроем добегали они до мерина…
Вопросительно подымая на него морды, с разбега останавливались поросята, хрюкали и пятились, потом со всех ног прыскали к дому, а Ульрих лаял, припадая к земле, и ждал, когда мерин погонится за ним.
Как величественный бронтозавр, обреченный в пищу подвижным и прожорливым ящерам аллозаврам, но не понимающий своей обреченности, Васька притворно двигался на дога, мотая головой, а дог обращался в притворное же поспешное бегство.
Ночи становились уже долги.
Сначала часов до десяти мелькали на шоссе мятущиеся огни автомобилей, и гулко доносился их бег. Потом темнота, тишина и колючее перекати-поле, на которое то и дело натыкались губы.
Иногда в тишине скоплялись тучи, и начинал сразу колотить частый крупный дождь. От него укрыться было некуда, – не было здесь сарая. Васька мог только терпеливо ждать, когда дождь устанет наконец бить его по ребрам. Иногда подымался холодный порывистый ветер, что было хуже. Васька подходил тогда к новой ограде, которую поставил от него Михаил Дмитрич, и глядел на кухню. Он упорно уныло думал, что хорошо бы было, если бы его пустили постоять за кухней. Он тихонько ржал, чтобы о себе напомнить. Он ожесточался, что его никто не слышит, и бил копытами в землю. Но ничего не оставалось больше, как идти снова рвать колючую траву и подставлять худые бока ветру.
Сидел Савелий, приземистый старик с седой и лысой уже головой, но с рыжими еще, широкими фельдфебельскими усами. Он только что вылегчил поросят (оба были боровки) и теперь в тени лохматого кипариса около дома вытирал платком лысину и говорил:
– Муха их не должна беспокоить, если в темном их помещении продержать дня два… Потому что, хозяйка, дня за два так у них там все затянет, – ни-и чер-та-а не бойтесь!.. Ведь это же младенцы считаются – им что?
– Так они ведь, бедные, неизвестно куда забежали от страха! – недоуменно глядела на Савелия Алевтина Прокофьевна. – Если бы вы их связали…
– Ну, куда же они от родимого корыта забечь должны? – весело подмаргивал Савелий. – В балке где-нибудь легли – прижукли… Кушать захотят – прибегут. У меня их, подобных, до сотни было, – в лесу по горам я их пас… До двадцать шестого дозволяли, а потом уж запрещение вышло… А там же, конечно, орешки буковые кучами гниют, желуди… Свинья в лесу завсегда сыта бывает и может даже сала на палец приобресть… Ходишь так вот с ними, бывало, думаешь: облегчать ведь надо, а человека подходящего в лесу где возьмешь? Вот я один раз наточил свой ножик на камушке да сам начал… У меня рука легкая оказалась, – ничего… Сразу пошло безо всяких потерь… А потом я уж начал и барашков и бычков и так что даже до жеребцов достукался… Приходят люди: «Дядя Савелий, так и так…» Ну что же тут сделаешь с людьми? Отказываться? Это делов немного, конечно, – отказаться всякий способен, – идешь, конечно.
Тут Савелий хитровато-простодушно пожал плечами и сбочил голову, улыбаясь:
– Идешь на отчай души – вот как все одно к вам пошел, ведь вполне вы во мне уверены: зарезал их Савелий, поросят моих!.. Ну, однако, они живые останутся и скоро вы ихний рост увидите… А бывает, действительно, так что рука тяжелая. В прежнее время барашки гурты огромные были, – у какого хозяина в степу их тысяч несколько ходит, – и также вот холостить время… Хозяин нанимает, конечно, мастеров трех-четырех, и, конечно, они так за столом со своими ножами стоят, а чабаны им только барашков задом подносят… Те их – чик и готово. Хозяин же, он стоит себе одаль и только смотрит: у кого барашки потом идут себе выбрыком, этого мастера он оставляет. А то бывает такой, – он и охолащивать умеет, а неизвестно отчего, – от ножа ли, или от руки зависимость, – у иного мастера барашек пошел, шатается, а то упал, лежит… да другой так, да третий… Ну, такого уж хозяин гонит в шею… Что же насчет быков, то этих холостить надо так: завязать ему жилу бечевкой дня на три, а когда уж жила отомрет, – развязать, а жеребцов, – их, конечно, холостят по четвертому году, – этим клещатку заправлять надо…
– Какую клетчатку? – подняла брови Алевтина Прокофьевна.
– У них же, хозяйка, жила до такой степени толстая, что без клещатки как же? Без клещатки не подступай. Берут так вот две палочки (он показал на своих обрубковатых пальцах) и с одного бока завязывают концы, потом жилу эту ими захватывают и своим порядком опять и эти концы завяжут… И так чтобы жеребец ходил с клещаткой дня четыре, аж тогда только можно ее снимать… За холощеньем, как я это дело людям показал, что знаю, чуть бык, корова, а то и лошадь заболеют, – об свиней не говоря, – сейчас все до меня: «Иди, Савелий, погляди, что за болезнь такая…» Ну, идешь, конечно… Поглядишь да возьмешь и сделаешь… Вот недавно лошади одной, – груди у ней опухли, – это ж чистая сибирка считается, а ветинар что? – Помажь, говорит, скипидаром… У ней же и так все нутре горит-печет, а от скипидара, всякому известно, дух в ней заняться должен!.. А я ей ножом разрезал, да фонтанель туда, – нехай дрянь всю повытягает. Что ж?.. К вечеру лошадь кушать начала… А то еще у одних бык захромал… Он, бык этот, степной, в степу был куплен, по наших горах никогда не ходил, камушек вот такой ему промежду копыт попал, кончено. Начинает шкандыбать, – ни-куда! Я посмотрел, – вязать ноги ему!.. Связали… А там, в копыте, вижу, уж даже кровь скверная. Взял ножик, разрезал, так кровь и хлынула. А в кармане у меня подкова была воловья. Подковал его, говорю: «Теперь развяжите – ходить должен». Развязали, – бык себе и пошел пастись. А ветинар узнал: «В суд его, говорит, чтоб леченьем не занимался!» Это меня-то! А сам до кого ни придет, никому от него пользы, а бывает чистый вред… Вон где они, мои леса, где я свиней своих стадо пас! Посмотреть, кручь какая, а там ходишь, мало замечаешь, – перебил самого себя Савелий, уйдя глазами в леса на горах. – Не помню уж, в каком годе это, – стою я, свиней смотрю, как они в орешках роются, а тут зеленые на полянку выходят… Они тогда в лесах скоплялись, зеленые, и не то они за красных стояли, не то за белых, или сами за себя, не помню. Только это ко мне: «Твои личные свиньи?» – «Мои личные». – «Продай одну». – «А деньги?» – «А деньги у нашего каптенармуса получишь». Ну, я вижу, что они мне и денег не уплатят и свинью своим порядком заберут, говорю: «Когда такое дело, берите одну, вот эту, – так ее вам даю, без денег». А свинья эта, первое дело, прибаливать стала, а второе, думаю: «Леса эти теперь все равно что ихние… То я бесплатно пользовался, а теперь платить надо». – «Ну, они говорят, когда такое дело, к нам приходи свинку свою кушать, а также вина нашего выпьешь». Я и пошел, а свиней на подпаска оставил. Иду, а мне часовой навстречу: «Кто такой?» – «Свинарь, говорю». – «А, говорит, знаю, проходи». Так я у них тогда дня четыре провел. Все вино мы пили, свинину жарили, – насилу вырвался. А вырвался каким манером? Калабалык у них начался, стрельба всеместная. Ну, я тикать, конечно, и кто такой на них нападал, я, по правде, даже и спытывать не стал, а скорей ходу…
– А лошадь вы зарезать можете? – вдруг, глядя на красную лысину Савелия, вспомнила Алевтина Прокофьевна.
– Приходилось, резал, – отчего ж? – ничуть не удивился Савелий. – В голодный год так что даже нескольких пришлось, – также и свою одну… Я ведь раньше и дрогальством занимался… и так что это была у меня, кажись, последняя. А потом уж я, это когда свиней пасть в лесу запретили, – тут я на волов перешел… И теперь же у меня ведь пара волов, – дрова из лесу вожу. Хотите, вам могу тоже воза два сухостою доставить…
– Нет, мне дров пока не нужно, а вот лошадь зарезать…
– Шуткуете? – весело перебил Савелий.
– Ничуть… Вон моя лошадь пасется!
И она показала ему Ваську, который только что вышел на чистое из густых дубовых кустов пустыря.
– Так это же Мустафы-извозчика лошадь! – живо отозвался Савелий.
– Была Мустафы – теперь моя… Я на зарез купила.
– На за-рез?!
Савелий несколько секунд смотрел изумленно хитровато-простодушными светлыми глазами в круглые и тоже светлые глаза женщины, вздернул плечами, ударил себя по колену, проворно встал и пошел к мерину, говоря:
– Эта же лошадь, – она по здешним местам первая на вывоз была!.. Я ее сколько годов уж помню?.. Ну, не меньше как пятнадцать! Я когда сам дрогальством занимался, сколько раз присыкивался, чтоб ее купить, ну только у нее хозяин был – Павло Букреев – нипочем не продавал…
– Ваську? – удивилась Алевтина Прокофьевна.
– Ваську… Этот Васька был изо всех Васек Васька!.. Мы раз камень с горы везли на постройку, а у Павла тормоз был плохой, – лопнул на самой круче. Это что называется? Это называется, что и лошадь другая бы пропала к чертям и дроги, потому что ей бечь надо вниз не порожняком, а сорок пудов у ней сзади… А Васька этот – он как уперся задними ногами, так и ни с места!.. Пока-то Павло подбежал, – мы с ним сзади шли, – да камень под колесо встремил!.. Нас тогда, дрогалей, человек восемь было, – так все и ахнули. А также в гору, если с камнем идти приходилось, – Васька этот кнута никогда не видал. Он если остановится, то не больше какой полминуты стоял, а потом сам возьмет и пошел себе! Он не ждал, когда ему нокнут, лошадь была понимающая: нужно везть, он и вез… Он Павлу дом нажил, а также все хозяйство, этот Васька…
И, подойдя к мерину, Савелий похлопал его по загривку, откинул челку вправо и пощупал под салазками.
– Это вы что у него ищете? – спросила женщина.
– Насчет сапу я думал… Между прочим, сапу нет.
– Еще чего – са-ап!
– Сапу нет, а только, конечно, ноги… Гм… Васька, а?.. Что же ты, брат?..
Мерин смотрел на Савелия пытливо. Конечно, он помнил этого старого дрогаля. Привыкший к тому, что его в последнее время часто продавали, он и на Савелия глядел вопросительно: не он ли будет его новый хозяин? Он даже заржал вполголоса, таким шелестящим интимным ржанием, как шепот между друзьями, и в это ржанье вложил так много всего: и вопрос: «Купишь?», и совет, похожий на просьбу: «Покупай, я еще не совсем сдал!» – и жалобу на то, что здесь, на этом пустыре, нечего есть, кроме горькой сухой сурепы, колючего перекати-поля, жестких, как железо, дубовых листьев.
Он и голову старался подымать выше и держался молодцеватее, чем всегда, и косил глазом, наблюдая усатого Савелия, хорошего хозяина, заботливого к лошадям.
И, осмотрев его всего очень внимательно и распутав пальцами всклоченную гриву, сказал Савелий:
– Значит, здесь тебя постигает конец, Васька!.. Конечно, ты уж под годами… Отработал… А что касается резать, хозяйка, тут есть такой человек – Степан, он же и могилы копает людям на кладбище, – он за такие дела берется, а я уж…
Тут Савелий развел куцыми руками и поглядел на Алевтину Прокофьевну совсем уже каким-то другим взглядом без обычной для него смеси простоватости с хитрецою, – степенно и несколько даже хмуро, – и закончил:
– По первах, скажу вам, хозяйка, может у меня даже на него и рука не подняться, как я его, этого Ваську, давно знаю, а Степану, – ему абы пятерку зашибить, да он же и пришлый считается – из Новороссийска… Так он мне говорил, – будто оттуда, – а там я не знаю… Касается же поросят ваших, – когда колоть захотите, это я могу в лучшем виде: и заколю, и обсмолю, и расчиню все как следует… И много с вас не возьму, – что дадите. Ну, может, конечно, пока тех поросят вы дождете, меня уж на свете не станет, тогда извиняйте!
И ушел Савелий, простовато улыбнувшись, а Васька долго вопросительно глядел ему вслед.
Однажды Михаил Дмитрич пришел не один, а с небольшим худощавым пожилых лет человеком с тонкой и дряблой шеей, в старых очках, спаянных в одном месте сургучом, в огромной серой кепке, под которой оказалась небольшая голая голова, острая, собранная к затылку. Волосы у него были только на бровях – черные с проседью.
Голос у него оказался резкий, теноровый, когда, остановясь против свирепо лаявшего Уляшки, он кричал:
– Да ведь это же красавец, ей-богу!.. Это – ульмский дог, а?.. Ульмский или английский?.. Нет – какой красавец, а?.. Только уши, уши неправильно обрезаны! Кто их ему резал, тот мерзавец… или полнейший неуч, что в конечном итоге одно и то же!
И он даже присел перед Уляшкой, согнув худые ноги в коленях, что очень удивило собаку. Дог отскочил на шаг и оглянулся на свою хозяйку, которой говорил в это время Михаил Дмитрич:
– Наш новый ветеринарный врач – Яков Петрович… На всякий случай решил я это дело с мерином оформить… А то черт его знает, – может быть, кляча эта имеет какой-нибудь старый билет обозной лошади, а начальник милиции Чепурышкин – он безграмотный, и он дурак, и вдруг захочет он показать, что и очень умен и образован, и привлечет он тебя к уголовной ответственности за злостный убой рабочего скота… в целях срыва, что ли, посевной, например, кампании. От него можно всего дождаться… Так вот… По вопросу нетрудоспособности мерина…
Яков же Петрович, перебивая его, говорил той же Алевтине Прокофьевне с большим оживлением:
– Нет, как хотите, а это у вас английский дог, а не ульмский!.. Есть еще далматские доги, но те – меньше… И морда длиннее… И шерсть полосатая… А это английский… Но красавец, шельмец, красавец! И он ведь еще молодой! Сколько ему?.. Год с небольшим?.. Он будет гораздо больше, только кормить, кормить вволю надо, – кормить, как и нас грешных!.. Если бы меня вволю кормили, я бы тоже весил гораздо больше, уве-ряю вас, не был бы я такой легковесный!..
И одной рукой теребя за ушами Уляшку, он другою так крепко держал руку Алевтины Прокофьевны, что та сказала, смешавшись:
– Сейчас будем обедать. Садитесь, пожалуйста!
За обедом Яков Петрович был очень оживлен и говорлив. Он вспоминал отца своего, протопопа на Полтавщине, дерптский институт, где учился, князя Урусова, у которого в имении на конюшне провел он по случаю эпидемии мыта, как бывший в то время земский ветеринар, целый день…
– А он меня даже на кухне где-нибудь у себя или в людской хотя бы обедом не угостил! Шарабан вечером подали и – пожалуйте, Яков Петрович, тащитесь назад голодный, как стая волков!.. Вот они какие были, эти князья Урусовы! А то другого помещика, гвардии ротмистра помню. У того тоже день на конюшне провозился. Вечером кончил, – приглашают в дом. Ну, думаю, обедать зовет. Как бы не так! Сам-то он обедал в это время, а меня, врача ветеринарного, дальше крыльца и не пустили! Вынес лакей на крыльцо на подносике бутерброд с колбасой копченой да рюмку водки, а рюмка эта была серебряным рублем накрыта. «Это что же такое?» – спрашиваю. «Это вам-с». – «Как это вам-с?» – «Так барином приказано». Повернулся я да пошел… Вон они были какие, гвардии ротмистры, – ветеринарного врача и за человека не считали!.. Ничего-ничего, почтеннейшие! Ветеринарные-то врачи как при вас были, так и теперь остались. А вы-то где?
И погрозил энергичным, запачканным йодом пальцем над своей острой голой головою, но тут же этот палец обернул вдруг в сторону Уляшки, который лежал около стола, и спросил неожиданно:
– Чумка у него была?
– Нет еще, – сказала Алевтина Прокофьевна.
– Когда будет, вы сейчас же ко мне!.. Чуть только первые признаки, ко мне: имею от чумки радикальнейшее средство!
Тут он все тот же указательный палец твердо приставил к своей груди против сердца и наклонил голову немного вбок.
Потом он заговорил о знаменитом некогда жеребце Гальтиморе.
– За двести тысяч был куплен когда-то, еще до войны! Золотом, золотом, а не бумажками! Для государственных заводов… в Америке… как производитель. И я его видел!.. Я его не видал тогда, когда, понимаете, он был в силе и славе… Я его тогда видел, когда он шел под дождем, по грязной дороге, – это под Харьковом, кажется, было, – вместе с другими, такими же, как он теперь, а раньше когда-то, разумеется, тоже все дербистами, призерами… И вот в табуне кляч отъявленных тащится, – вы себе представьте! – из кляч кляча, и даже уши висят! Ребра, как обручи на бочке, кострец весь напоказ, навыкат… Шерсть как все равно молью травлена… «Что это за сокровище?» – спрашиваю. «Это, отвечают, действительно, сокровище было, а теперь, конечно, гражданская война идет, кормить нечем… Называется он Гальтимор!» Так я и ахнул и до земли руками!.. Вот оно sic transit gloria mundi![3] И, конечно, вскорости где-то подох он… Да и не мог жить в таком состоянии, – конечно, должен был подохнуть вот-вот… И что же от него, Гальтимора, осталось? Шкура… как и от всякой другой клячи… больше ничего, – шкура, за которую сейчас в кооперативе семь рублей бумажками дают!
– А когда мы подохнем, за наши шкуры и семи рублей никто не даст, – скромно вставил Михаил Дмитрич. – А как же все-таки по вопросу мерина? Будете вы его смотреть или так просто бумажонку напишете?
– Хотя я нисколько не сомневаюсь, что он никуда не годится, раз его у извозчика никто на работу не купил, однако для проформы мы его посмотрим, – важно ответил Яков Петрович, но в это время влетела с надворья Пышка (обедали на веранде) и, привлеченная ярко блестевшими очками гостя, села ему на плечо.
– Эт-то что за экземпляр? – удивленно привскочил Яков Петрович.
– Это – Пышка, – улыбнулась Алевтина Прокофьевна. – Она ручная.
Ветеринар взял ее в руки. Галка смотрела ему в глаза с живейшим любопытством, потом оглянулась и стала проворно клевать из его тарелки.
– Очаровательно!.. Нет, это, как хотите, – это очаровательно! – восхищался Яков Петрович, несколько рассолодевший от выпитого вина.
Так, усадив Пышку к себе на плечо, он вышел после обеда смотреть мерина, и вот около старого косматого гнедого коня сошлись все, кому был он теперь нужен, так как не только Уляшка степенно сопровождал хозяев, но и поросята деловито, один за другим, прибежали следом и, став в сторонке и хрюкнув, начали упорно глядеть на него боком и чуть приподняв белые ресницы маленьких глаз.
– Да, – протянул Яков Петрович многозначительно, осматривая Ваську со всех сторон. – Может быть, он мог бы еще работать, но извозчики и дрогали – народ корыстный: прибавочную стоимость хотят получать от лошади, жулье, а не только переводить на нее корм… Этим все объясняется. Лошадь эта убыточна для хозяйства: стара, искалечена, устала… Одним словом, брак!.. Так и запишем.
И он вынул блокнот и бойко начал писать на листочке карандашом, что мерин гнедой масти, принадлежащий такому-то, к дальнейшей работе совершенно негоден, а потому препятствий к его убою на мясо не встречается никаких. Была сделана еще и приписка о том, что с соблюдением необходимых правил убоя он может быть зарезан не на бойне, где лошадей вообще не резали, а дома.
Чтобы не быть голословным и подвести под свое заключение прочную базу, Яков Петрович набросал и список болезней, которые открыл в старом теле обреченного мерина его тоже старый, опытный глаз.
Чуть ли не все лошадиные болезни, не входящие в число острозаразных, тут были: и желваки, и сквозники, и пипгаки, и грибовики, и сплёки, и мокрецы, и путлины, и мышечный ревматизм, и эмфизема легких, и запал, и для полноты картины даже воспаление печени. Уписав все это на листке блокнота, Яков Петрович подписался с замысловатым росчерком и торжественно передал листок Алевтине Прокофьевне.
Так была оформлена ближайшая смерть мерина, а он неведающим лиловым взглядом спокойно разглядывал окруживших его людей.
Сказал жене Михаил Дмитрич, вернувшийся со службы и как всегда принесший хлебный паек в дорожном мешке:
– Имей в виду, что уже кто-то донес Чепурышкину, что у нас лошадь. А говорят, что скоро будет учет лошадей. Нужно будет вести Ваську на учет. Вот что.
– Ну, что за глупость, когда он на зарез куплен!
– А если на зарез, то почему не зарезан?.. Значит, должен быть зарезан, если на зарез!.. Итак, по вопросу мерина…
– Нельзя же солить теперь, – двадцать раз я тебе говорила!.. Вот когда холоднее станет…
У Михаила Дмитрича было очень много дел в местхозе. Чтобы приводить их постояно в последовательность и ясность, он усвоил привычку даже про себя говорить: «По вопросу того-то… так… теперь по вопросу того-то» – и сообразно с этим действовать безотлагательно.
Он был вообще методический человек: по утрам каждый день обливался водою, по вечерам минут десять – двадцать занимался гимнастикой; в дни отдыха выпивал перед обедом рюмку водки. Не курил, так как считал табак вредным для здоровья.
– Итак, по вопросу мерина… Завтра я поговорю с мясниками, сколько они возьмут, – и прочее…
– Не знаю, войдет ли он в нашу кадушку… Да и жалко хорошую кадушку портить: она для свинины пойдет… – раздумывала Алевтина Прокофьевна.
– Вот тебе раз! Резать – резать, а кадушки нет… Значит, прежде всего по вопросу кадушки… Я видел селедочные бочки в горпо, стоят два с полтиной штука… Итак, два с полтиной, да привезти…
– А войдет ли он в одну?.. Я думаю, две надо, не меньше…
– Ну, вот уж и две!.. Раньше надобно было думать!.. Я вижу, влетит нам этот мерин в копеечку!
В то время как в доме, при керосиновой лампе, за ужином, шел вопрос о резнике и кадушках, мерина мучила жажда. Сухая трава, которую проглотил он в огромном количестве за день, требовала, чтобы ее размочили, а ведро с водой на обычное место около ограды забыла в этот вечер поставить Алевтина Прокофьевна.
Долго и покорно стоял он и ждал. Качал головой, пробовал тихо ржать… Пошел было снова злобно рыть ломавшуюся с треском траву, вернулся. Должна была стоять ночью вода в ведре. Почему же ее не было и даже ведра не было?
Колья Михаил Дмитрич забил редко и неглубоко: земля была очень жесткая, как всегда здесь в начале осени. Мерин так усердно начал от нечего делать чесать бок об один из кольев, что вывернул его и повалил. Обнюхал и переступил через проволоку осторожно…
Где-нибудь около кухни должна стоять вода, – и в темноте, раздувая ноздри, тыкался он мордой обо все углы кухни, ища ведро.
Крыша на доме чуть белела (она была зеленая). На двух молодых персиках сзади дома держались еще густые листья. Мерин поспешно обгрыз их совсем с ветками. Вблизи от персиков стояла груша. На ней ветки начинались высоко от земли. Нужно было высоко подымать голову, чтобы захватить листья. Хрупкие ветки ломались одна за другой, и не больше как в четверть часа остались только самые верхние сучья, остальные висели.
Пить все-таки хотелось не меньше прежнего, и появилась тупая назойливость, вызванная обидой: должны были поставить ведро, почему не поставили?
Мерин помнил, как его били за пальму, и боялся, что залает собака, но когда он тупо и долго глядел на дом, все представлялось ведро там где-то, около стены. И когда он пошел наконец огибать дом, между копытами и не плотно держащимися подковами лезли и рвались какие-то маленькие кустики: это были молоденькие буксусы, посаженные в два ряда. Мерин не пытался даже их пробовать, он честно искал свое ведро, вытягивая худую шею влево, вправо.
И вот он почувствовал на каменном выступе веранды воду: стояло ведро, хотя и не его, другое, но только что он нагнул его мордой, чтобы напиться, грянул громовой лай Ульриха.
Мерин, спеша, дернул ведро к себе, оно опрокинулось, вода полилась ему на ноги, но вместе с водой полилось и молоко из кувшина, который был поставлен в воду на ночь. Мерин спешил уйти и, повернувшись, раздавил одной ногой кувшин, другой – ведро.
– Какой там черт, а?.. По вопросу кого?.. Уляшка, замолчи! Ни черта не слышно!.. – кричал на веранде Михаил Дмитрич.
Мерин уходил поспешно, вконец дотаптывая буксусы.
Одной рукой придерживая плащ на голом теле, в другой – фонарь, Михаил Дмитрич кричал жене:
– Нет, это прямо вредитель какой-то, черт бы его драл!.. Ты посмотри, сколько он нам убытку наделал!.. Больше чем стоит!.. В бочку, в бочку, да! Это самое лучшее! Самые милые домашние животные, – черт бы их драл! – это которые в бочке, в бочке!..
Ульрих оборвал все-таки свою цепь… Свирепо накинулся он на мерина, и хоть крикнула Алевтина Прокофьевна свое заклинание: «Улька, назад! Это я кому говорю?» – но было поздно: мерин лягнул и ударил его в голову около уха. Хотя и с залитыми кровью глазами и визжащий от боли, Ульрих все-таки пытался еще вцепиться в мерина, насилу удержали его за ошейник и втащили в дом.
Михаил Дмитрич потерял при этом плащ и двигался голый, как древняя статуя.
Две сельдяные бочки прислал с утра на другой день Михаил Дмитрич. В записке, которую подал извозчик, муж писал жене, что нужно не только хорошенько выпарить бочки, но еще и выкурить их дымом, и полдня Алевтина Прокофьевна возилась с бочками: обваривала кипятком, скребла ножом, нюхала и прижимала верхнюю губу к носу.
А в обед пришли два старика могильщика резать мерина, и один из них, в рыжей засаленной, дырявой фетровой шляпе и в синей рубахе навыпуск, но без пояса, сказал деловито и даже не без гордости:
– Так что, хозяйка, мы на такое грязное дело пошли, только чтобы нам к пяти часам управиться… Потому мы без работы не сидим, лодыря не гоняем… Мы с утра могилу копали, а в пять покойника принесут, обратно мы ее должны закопать… Это в ту же цену у нас идет, в десять рублей… А ваше дело справить сговорились мы с хозяином вашим за шесть, – вот что полагается вам сказать…
– А кроме этого, – вставил поспешно другой, поседее и ростом пониже, но тоже в каком-то подобии шляпы и в теплом, на вате, пиджаке, – кроме этого, сами посудите: как большое животное убивать в тверезом виде?.. Это ж не то, что какая курица: чик ее ножом вострым, – и все… Это ж, одним словом, лошадь!
– Обещался хозяин ваш так, чтоб по рюмке водки вы нам дали спервоначалу… По хорошей! – перебил первый.
– По стакану! – строго поправил второй и более ласково добавил: – По стаканчику, одним словом, и хлебца кусок закусить.
– Хлебца! – укорил первый и даже отвернулся сплюнуть. – Не видали мы хлебца! Может, у них что получше есть, а ты хлебца!
И, переведя глаза на мерина, добавил:
– Вот эта самая лошадь? Ну-ну!.. Это ж называется здоро-вая лошадь! С такой упреешь, покуда свалишь!.. Веревку, хозяйка, потолще давайте…
– Две веревки! – строго поправил второй.
– Разумеется, две! Что ж они сами не знают, что ли?.. Раз есть ноги задние, есть ноги передние, стало быть, ясно, что две!
– И за шею завязать тоже веревку нужно покрепче: это чтоб его наземь свалить…
– Цепь, может быть, дать? – сказала Алевтина Прокофьевна, вспомнив об Уляшкиной цепи.
– А чепь, так чего лучше!..
Старики выпили по стакану водки, поморщились, сплюнули, но, кроме хлеба, ничего не нашлось у Алевтины Прокофьевны.
Старики сказали: «Ничего, обойдется» – и один, пониже, взял ломоть, понюхал его и кинул Ульриху, который стоял с забинтованной головой; другой, в синей рубахе, пожевал немного, остальное тоже бросил догу, побил одну руку о другую и сказал:
– Вот теперь заправились немного… Теперь нам, хозяйка, топор и нож большой… И своим чередом веревок, какие потолще… Лошадь в ногах силу имеет… Какие тонкие, – враз порвет…
Когда подошли они оба к мерину, вытирая усы, он посмотрел на них с тревожным любопытством. Но они были без кнутов, они были не извозчики…
Алевтина Прокофьевна протягивала ему кусок хлеба, и вид у нее был ласковый. Мерин схватил сразу весь кусок и начал двигать челюстями поспешно, а старики с двух сторон взяли его за всклоченную гриву и повели к сараю.
Дожевывая на ходу, мерин шел послушно, дрыгая привычно ногой. От стариков пахло только землею. Мерин догадывался, что это земляные, работящие старики, что сейчас они, хозяйственные, вытащат откуда-нибудь охапку сена, настоящего, зеленого, лугового сена, потом, может быть, запрягут в неспешащую (старики не любят спешить) линейку или дроги… вечером дадут овса…
Перед заброшенным, пустым, ниже дома, сараем была небольшая площадка, забранная щелястым забором; сюда завели мерина. Оглаживая его, старик в рубахе, Степан, говорил другому:
– Ну, Овсей, вяжи передние!.. Да пинжак же свой сыми, повесь: сейчас тебе жарко станет!..
Овсей повесил пиджак на дерево около забора. Васька покойно дался перевязать передние тонкие, с шишками на коленях ноги: это были привычные путы перед тем, как пастись. Необычным было то, когда оба старика начали затягивать ему задние ноги веревкой, но мерин подумал: «Ковать»… Правда, обе задние подковы болтались.
– Лошадь все-таки смирная, ничего, – сказал Овсей.
– Старая, поэтому… Постареешь, – и ты посмирнеешь… – и Степан подмигнул Алевтине Прокофьевне, которая как раз в это время принесла топор, большой кухонный нож и цепь.
На стариков и покорно стоявшего Ваську она глядела со страхом.
Она сказала несмело и негромко:
– Вот цепь… Я думаю, хватит, – она длинная…
– Веревка бы лучше. Ну, ежели нет по нынешнему времю… Стой, Вася, стой, друг… Стой, ничего, это – один момент, и готово…
И Степан окружил шею Васьки ближе к голове жутко блестевшей цепью.
Когда, взявшись за конец цепи, оба старика дернули враз и внезапно и Васька рухнулся наземь, Алевтина Прокофьевна закрыла глаза.
– Голову, голову ему придерживай! – крикнул Овсей, хватая нож.
– Знаю, голову!.. Лег он неудобно… Ну, режь!
Алевтина Прокофьевна кинулась к дому, только слушая напряженно.
– Че-ерт!.. Разве так режут! – это голос Степана.
– Вали, вали его!.. Вали, ничего!.. Хватай за гриву! Веревки тоже называются! – это Овсей.
Алевтина Прокофьевна обернулась только на миг и увидела, как Васька, порвавши веревки на задних ногах, поднялся наполовину, и из перерезанной шеи его красным фонтаном далеко била кровь.
Она взмахнула рукой и побежала. Ей так ярко представилось, что Васька, порвавший веревки и на передних ногах, кровохлещущий, мстительный, сейчас догонит ее и вцепится зубами в затылок…
Вскочила в дом, заперла двери на ключ и стояла с сильно бившимся сердцем на веранде, глядя все туда, вниз на сарай, от которого видна была только черепичная крыша.
Но Васька не показался оттуда: обухом топора ударил его в голову Степан, и, дергаясь предсмертно, он улегся, чтобы больше не подыматься.
А когда через час или два осторожно и тихо вышла Алевтина Прокофьевна и стала так, чтобы можно было заглянуть на площадку перед сараем, она увидела во всю ширину ее распяленное что-то розовое и блестящее, и, заметив ее, седой Овсей, держа в руках свой теплый пиджак, кричал:
– Соли давайте, хозяйка, шкуру солить!.. Вот же, проклятый, весь пинжак кровищей обхлестал, а вы говорите… Эх! Нет у вас к нам сочувствия!
В то же время слышался неровный и жуткий хряск: это Степан, ругая тупой топор, рубил на куски то, что было недавно мерином Васькой, хекая хрипло при этом, будто колол крепкие сухие суковатые дубовые поленья.
На дубу, над самым сараем сидела Пышка. Точнее, она не сидела, она перескакивала с ветки на ветку и кричала, волнуясь необычайно. Крик ее был отрывистый, резкий, очень неприятный, как крик соек, дикий лесной крик, колющий в сердце.
– Откуда могут быть галки здесь? – спросил осторожно подходившую Алевтину Прокофьевну Овсей. – Что вороны должны налететь на мясо, это конечно, а галки?.. Дивно мне это!
А внизу в полнейшем восторге кружились поросята, уже окровавившие себе Васькиной кровью передние ноги.
Копыта Васьки были отрезаны по бабки и брошены вместе с подковами через забор, и поросята захватили за щетки каждый по копыту и волокли их, привизгивая радостно, в кусты.
Солнце клонилось к закату и бросало жесткий, желтый, беспокоящий неприятный болезненный свет.
Крым, Алушта.
Июль 1932 г.
Воронята*
Говорится, что ворона – дикая птица. Это не совсем верно, конечно, да едва ли и сама ворона считает себя дикой.
Ворона долговечна. Она живет на одном и том же месте многие годы, и разве известно вам, о чем она думает, сидя около вашего дома и глядя на него и на вас?
Для вас все вороны, конечно, одинаковы, вы из них ни за что не отличите даже самца и самки, они же отлично знают вас, и всю вашу родню, и всех ваших гостей, и когда приходит к вам в дом кто-нибудь такой, кого они никогда не видали, они начинают встревоженно каркать: они вас хотят предупредить о возможной для вас опасности, потому что по долгому опыту жизни знают, что всякий новый человек – это какое-нибудь беспокойство.
Они вполне уверены, что когда выплескивают с вашей кухни помои, то это для них, и за то это, что они ведь ваши вороны, вашего двора, вашего и еще двух-трех поблизости, но не дальше трех: там уже начинаются свои вороны, а еще дальше – свои. У них строго разграничены все дома в населенном месте: эти – наши, а вот эти – ваши, другие вороны! И что бы вы там ни говорили, а когда с конька вашей крыши они кидаются на ястреба, который вьется над вашими курами, они ведут себя, как дворовые собаки, и когда ястреба прогонят, они прилетают снова на крышу и каркают по-особенному, сильно раскачиваясь, пригибая и выставляя голову и распушив хвост. Приблизительно карканье это значит: «Вы видели, конечно, летал ястреб? Он мог задрать самую лучшую из ваших кур, но мы-ы…» Каркают этак они в смутной надежде, что вы их когда-нибудь да поймете и кинете им за их службу нескупой кусок хлеба.
В старину, когда люди были ближе к природе и непосредственней, ворон называли вещуньями, но теперь вороны потеряли способность вещать, так же как цыганки теряют способность к гаданью; что делать – время! Теперь вороны чаще бывают сыты, от сытости очень чувствительны, от чувствительности – неловки, и чаще с ними случается, что то или это они и проворонят. Но если они кое-что из своих знаний и потеряли, все-таки, – не особенно красивые, но сработанные прочно, – они остаются сметливы, себе на уме, осторожны и домовиты.
И те две вороны, которые вдруг по весне начали таскать прутья на вяз, стоявший в саду помощника машиниста с железной дороги Приватова, были, конечно, давнишние приватовские вороны, но, пока они не пустились в такое сложное предприятие, как устройство гнезда, их просто не отличали от других ворон.
Однако когда и на второй и на третий день две вороны усердно и деловито таскали в клювах прутья на верхнюю разлатину вяза, восьмилетняя Женя Приватова указала на них пальцем и сказала матери хотя и довольно тихо, но с явным восторгом:
– Мам! Погляди! Вон наши вороны строят себе дом!
Мать Жени Приватовой была высокая, статная, миловидная еще лицом, хотя уж не молодая. Потеряно происхождение старинного слова «степенный», но не утерялось еще его значение: у матери Жени была именно степенность, неторопливость во всем, что она делала. В молодости на селе она была первой рукодельницей, и множество прошло через ее руки лоскутных одеял и полосатых дерюжек из бесчисленных ситцевых обрезков заказчиц. Она и теперь еще вышивала по вечерам петушков и коньков на полотенцах, и хотя сама читала по складам и писала с большим трудом, все-таки она, а не отец, научила Женю читать и подписывать свою фамилию. Читала Женя уже лучше матери, а подписывалась так: «Женья Прыватов».
Когда в саду их – а он был не так мал для подгородной слободы – скашивали траву между деревьями: двадцатью четырьмя абрикосами и двенадцатью грушами, взяв пучок сена, Женя сияюще протягивала его к лицу матери, та затяжно нюхала его и говорила певуче:
– О-ох, и па-ахнет!
– Ох, и па-ахнет! – восторженно повторяла Женя и с совершенно нечеловеческим криком начинала кувыркаться на собранном стоге, набивая осоки в густые русые, как у матери, волосы.
– С ума ты сошла, гляньте-ка, люди! – повышала голос мать, но Женя видела, что серые, слегка впалые глаза ее улыбались.
Когда цвели груши щедрыми на белизну пучками цветов, сплошь укрывавших еще безлистые деревья, Женя складывала перед грудью руки и цепенела от умиления.
На неторопливо везде поспевавшую мать, на ее большое белое лицо с мелкими морщинками около губ и на безошибочное мелькание ее до локтей обнаженных рук, когда она мыла посуду после обеда и сверкали мокрые тарелки с синими ободками и розовыми цветочками, Женя тоже любила смотреть подолгу.
И когда приходил с железной дороги, – полтора километра было до станции, это она слышала, – ее отец и на его широком лбу с залысинами к вискам краснела потная вдавлина от тесной кепки, она знала, что он скажет:
– Ну, как у нас нонче насчет жамканья?
И он непременно это говорил.
Потом поднимал ее к потолку, взяв подмышки, и делал это он так быстро, что она всегда вскрикивала.
От его рук при этом пахло керосином и ржавчиной, и иногда она говорила ему не без досады:
– Хотя бы руки помыл!
Отец отвечал:
– Это, большой люд, следует!..
Или:
– Это, большой люд, хотя действительно так – я сознаю…
Он часто звал ее «большим людом»; он был добродушен. Голос имел очень громкий и тихо говорить совсем не мог. Росту был высокого, но сутул. Женя привыкла с раннего детства к тому, что рубахи на нем, когда он приходил со станции, были грязные, тужурки отрепанные, в сальных пятнах, продранные на локтях; однако этого она не любила. И, оглядывая отца, так одетого, она качала осуждающе головой, глядела исподлобья и прижимала губу к носу.
– Что-о? Не любишь?.. Чи-стю-ля! – отзывался на это отец. – Когда бы я все в чистом ходил, что бы ты жамкала?
Когда она просыпалась по утрам, на стене, если было солнечное утро, нарисована была чрезвычайно замысловатая тень от кисейной занавески, и это было первое, на что смотрела она просыпаясь. Тень эта была от нее шагах в двух, но она смотрела на нее еще не вполне открывшимися глазами, как на величайшую загадочную красоту, оставшуюся от только что виденного и забытого сна, и водила по стене около подушки пальцем, чтобы передать все звездочки и кружочки этой изумительной тени.
А днем она любила водить карандашом по бумаге, стараясь передать жуков, лягушек, птиц и зверей так, как они были изображены в ее азбуке. Эти незатейливые рисунки в потрепанной, как отцовские тужурки, книжке ее поражали. Она смотрела на них, расширяя глаза, раздувая ноздри, чувствуя вдоль спины холод до дрожи.
Скакал ли, подбрасывая задние ноги, заяц, он соскакивал со страниц книжки, он проскакивал мимо ее рук, он сверкал на нее косым своим глазом, его хотелось ухватить за длинное ухо – совсем ведь не такое ухо, как у кота Мордана, – и держать крепко.
Кот же Мордан был рыжий, полосатый, как маленький тигр, а Морданом назвали его за толстенькую мордочку, когда он был еще котенком. Теперь же он был совсем не мордастый и, по мнению Жени, красивый необыкновенно, особенно в сумерки, когда казался белым, а зеленые глаза его чернели и блистали, или в яркий день на солнце, когда разваливался он и лениво раскидывал блаженно лапы и хвост.
Он увязался откуда-то еще в прошлом году летом за Женей, когда она шла поздно, уже вечером, с матерью из кино. Пристал почему-то и побежал следом. Его отгоняли, он возвращался тут же и даже забегал вперед и ловил в траве кузнечиков, точно стремился показать, какой он прекрасный охотник, так что если его возьмут, то пусть не заботятся о том, чтобы его кормить. Попрыгав так деловито в траве, бежал он потом рядом с Женей, задирая хвостик и толкая ее ласковой головой в голые щиколотки.
Наконец, вошел вместе с нею в дом, и Женя сказала:
– Мам! Пусть уж будет он наш, когда ему так этого хочется!
И рыженький Мордан ужился.
Зиму он проспал на кухне в духовке, а к весне из него вышел занятный веселый кот. И он действительно оказался охотник. Он очень ловко ловил ящериц, чуть только они появились; поймает и принесет показать Жене.
– Не ешь, Мордан! Брось! – вскрикивала в таких случаях Женя и кидалась к нему отнимать ящерицу, еще шевелившую в Мордановых зубах хвостом. Но Мордан бросался опрометью со своей добычей в дальний угол сада, чтобы выполнить там все сложные правила кошачьей игры и, только доведя ящерицу до неподвижности, ее съесть.
Женя наблюдала не раз с замиранием сердца, как он готовился схватить бабочку, когда та садилась на дорожке и то распускала, то собирала крылышки. Мордан прижимался тогда весь к земле, перебирал лапами, пружинил хвост и как-то быстренько-быстренько время от времени принимался дрожать зубами… Шевелились его белые усы, двигались взад и вперед уши, и только глаза, широкие страшные глаза были неподвижны, впившись в яркие крылышки. Наконец, он не выдерживал, бросался к ней, а она взлетала. Однако он подскакивал за нею высоко, в рост Жени, вытягивал лапы, стремясь схватить ее когтями.
Но, сколько ни наблюдала на такой охоте своего Мордана Женя, это ему никогда не удавалось, за бабочек она стала уж спокойна, когда вдруг он принес ей показать большого красавца махаона и даже уступил его ей, не убегая, но махаон был уже придушен, его можно было только насадить на булавку и пришпилить к переплету книжки.
Однако махаон был до такой степени прекрасен, что Женя долго не могла на него наглядеться и забыла осерчать как следует на кота.
Когда же Мордан поймал и так же деловито притащил ей напоказ какую-то маленькую серенькую пичужку и Женя в ужасе и с криком кинулась ее отнимать, кот заворчал вдруг угрожающе-глухо, забился в совершенно недоступный угол, а оттуда шаркнул в открытую дверь – и в сад. Потом под кустом смородины Женя нашла одни только длинные перышки из крыльев и хвостика – и ничего больше.
Мышей в доме он перевел всех до одного и съедал их совершенно без остатка, а от крыс оставлял одни только вывернутые шубки; за это мать Жени относилась к нему с уважением и даже с некоторой задумчивостью вспоминала иногда, как он увязался за ними ночью на улице и все старался показать, что он работящий, добычливый кот, что дармоедом он быть не любит и не будет. И хвалилась даже им не раз:
– Вот до чего умный котишка вышел, – просто прелесть какой!.. В комнатах ведет себя чисто, на стол не лезет, как другие, из шкафа ничего не стащит, – очень даже редкостный котик получился, а мы его, дуры, не хотели брать!.. Вот так же и с людьми бывает.
Когда кота не видели около дома долгое время, то звали его не «кис-кис-кис», а «Мордан! Мордан!» – и он откуда-то появлялся и бежал на свою кличку, как собачонка.
– Смотри же ты, пожалуйста, – говорил и отец Жени. – А я ведь, признаться, никогда до кошек пристрастия не имел… Что же касается Мордана, то зверек он оказался очень потешный и нешкодливый, и даже, признаться сказать, мне он довольно нравится… Ничего, пускай у нас продолжает.
Иногда он ловил Мордана за хвост и поднимал на воздух. Мордан не мяукал загробно при этом, не извивался, как другие коты, не царапался, а терпеливо ждал, когда его отпустят. Отец Жени отпускал его удивленный, кот преданно терся лбом об его сапог.
– А танцевать ты умеешь? – спрашивал помощник машиниста, усаживался поплотнее, брал кота под передние лапы, подбрасывал его у себя на коленях и насвистывал «чижика».
Кот смотрел на хозяина с большим любопытством, а хозяин говорил удовлетворенно:
– Танцует ничего! Вот поди же ты: другой бы кот, пожалуй, все бы мне глаза повыцарапал, а этот… Нет, прямо скажу: это у нас довольно замечательный кот!
Но однажды Мордан притащил откуда-то совсем маленького, не больше крысы, кролика, черненького с белой душкой, недавно появившегося на свет. Переполох в доме Приватовых поднял он этим большой. Крольчонка отбили, но искалеченного уже настолько, что пришлось его прирезать. Кот убежал, но к вечеру вернулся до того брюхатым, что Женя вскрикнула:
– Вот где сидит еще один кролик! – и ткнула ногой в Морданов живот.
Мордан же глядел на всех вполне невинными глазами.
И так несколько дней потом он ничего не просил есть, а брюшко у него было туго набито.
Мать объяснила Жене, что где-то напал он на кроличий выводок: окролилась чья-то крольчиха на воле в норе, но чья именно, нельзя догадаться, так как поблизости ни у кого кроликов не было.
Долго потом Женя укоризненно качала головой, глядя на своего Мордана, и приговаривала:
– Пожрал кроликов несчастных, у-у, паршивый!
А Мордан глядел на нее невинными светлыми глазами.
Две вороны устраивали в саду Приватовых свое лохматое гнездо, упирая в развилины сучьев сухие прутья, а кот Мордан смотрел на них очень пристально и двигал хвостом: для такого кота-охотника вороны казались неплохой дичью.
Вороны приметили его тоже. Вороны обеспокоились.
Они не видали его зимою, – ведь он проспал зиму в духовке, – а вяз для гнезда облюбован был ими еще зимой. Они начали его испытывать, то одна, то другая. Они садились недалеко от кота и каркали вызывающе, – бросится или нет? Кот немедленно бросался, вороны взвивались и садились на средние ветки абрикосов. Кот начинал подкрадываться и вдруг взлетал по дереву к воронам. Вороны были старые, опытные. Они орали от возбуждения, но усаживались на самые верхние тонкие ветки, на которые за ними не мог бы погнаться, как более тяжелый, Мордан. Они поднимали крылья для взлета и каркали с шипом, с задышкой.
Однако кот очень осторожно, чтобы не свалиться, подкрадывался к ним и на тонкие ветки. Тогда взлетали они и то одна, то другая нападали на него сверху. На их отчаянный крик при этом налетали еще вороны, соседние – две, три, четыре… Такое обилие крепконосых, черноголовых больших птиц, кружившихся над Морданом с оглушающим криком, его, наконец, смущало.
Выходило совсем обратное: не он за ними, они охотились за ним. Он уступал, наконец, поле сражения, он убегал поспешно, задрав хвост копьем, и прятался. Вороны торжествовали.
Гнездо они упорно продолжали строить. И если сначала, глядя на него снизу, Женя говорила матери: «Ну, что они, мам, такое натаскали? Ведь это ветер все сдует и унесет!» – то потом она убеждалась, что косматая куча прутьев в развилине вяза почему-то не поддается ветру и держится крепко.
Женя заходила с разных сторон вяза, чтобы разглядеть как следует это чрезвычайное гнездо в их саду: оно захватывало ее вплотную. И когда отец, придя однажды сердитым от усталости, сказал матери: «Дай-ка шест! Разорить это надо к свиньям собачьим, а то галдеж от ворон этих подымается, как на базаре!» – Женя повисла у него на руках, плача, чтобы не разорял.
Так гнездо уцелело, и потом иногда видна была оттуда носатая черная голова: прилежно несла яйца ворона.
Старшая сестра Жени, Даша, была уже замужем и жила у мужа-счетовода. Однажды она принесла Жене красок на картоне – шесть разноцветных кружочков – и мягкую кисточку и сказала:
– На-ка тебе, мажь на здоровье!
Женя была вне себя от радости и тут же повела сестру в сад показывать воронье гнездо.
– Ага, это хорошо, – сказала Даша. – Я возьму тогда одного вороненка.
Однако это показалось Жене безжалостным, и она опала с восторга, подняла на сестру недоумевающие глаза и спросила тихо:
– Зачем?
– А так, выучу его разным штукам.
– Каким штукам?
Маленькой и внимательной Жене казалось, что вороны и без того знают множество штук, и чему же еще человек мог бы научить ворону?
– Дурочка! «Ка-ким»? – взяла ее за подбородок Даша. – Может быть, я его говорить выучу!.. Они такие, что и говорят, если их хорошо учат.
– Го-во-рят?.. Во-ро-ны?..
Женя была поражена. Она смотрела на сестру, высокую, как и мать, и такую же белую лицом, испытующе: шутит она, смеется?
И в то же время зорко замечала она, что на ней новая голубая блузка с черной прошивкой… Белое лицо, высокая, открытая, тоже белая шея, волосы золотятся и блестят на солнце, и голубая с черной прошивкой блузка.
– Ка-кая ты красивая, Даша, – сказала она нараспев, сразу забыв о говорящих воронятах, как о явной шутке.
Но Даша вдруг спрашивает:
– А лестница где?
– Зачем?
– Полезу посмотрю, нет ли там чего в гнезде… Где лестница? Бывает, что вороны в гнездо золотые кольца таскают…
Гнездо похоже на чью-то растрепанную голову, и в нем золотые кольца, – это нравится Жене. Лестницу она находит и помогает Даше ее приставить удобнее. Но когда Даша поднимается со ступеньки на ступеньку все выше, вороны подымают неистовый крик, куда более сильный, чем над Морданом. Они проносятся косокрыло над самой головою Даши, они касаются ее голых рук когтями… Их уже не две, а три почему-то, потом четыре. Они отчаянно защищают гнездо. В темной зелени вяза – голубая блузка; между черных сучков – белая шея и золотая голова; а над самою головою разъяренные вороны кричащим клубком.
– Даша! Слезай скорее! – в испуге кричит Женя. – Заклюют!
Но Даша так поверила в драгоценные (с бриллиантами) кольца в лохматом этом гнезде, что куда же воронам ее испугать? Она жмурит глаза и пробирается между сучьев, подтягиваясь на сильных руках и ища упора ногами. Лестница осталась внизу, но до гнезда уж недалеко.
– Пятая! – кричит ей Женя. – Еще одна летит! Пята-я!
И всплескивает руками от ужаса: что может поделать Даша с пятью воронами?
Но Дашина голова уже вровень с гнездом.
– Четыре! – кричит ей звонко оттуда Даша. – Четыре яичка.
Она шевелит все-таки вороньи яйца рукой, нет ли чего под ними, но вороны дошли до последней степени неистовства, вороны орут оглушительно, садятся ей на плечи… Одна – это ясно видела Женя – ударила ее в голову клювом.
– А-ай! Спускайся скорее! А-ай! – кричит Женя и только тогда перестает кричать, когда видит, как проворно в темной вязовой зелени замелькали все ниже и ниже белые Дашины руки.
– Кыш, проклятые! – кричит Даша. – Вот окаянная сила!..
И уж нащупывает сильной ногою в сером чулке верхнюю ступеньку лестницы.
– Их прямо перестрелять надо! – говорит она, уже спустившись и оправляя волосы.
– Больно клюнула? – спрашивает испуганная Женя.
– Да разве одна меня клюнула? – вскидывается Даша. – Я думала, они на мне и блузку всю изорвут. Вовсе сумасшедшие стали!
– А будешь вороненка брать? – вспоминает Женя, и в голосе ее как будто даже торжество: нельзя будет у таких ворон взять вороненка!
Даша осматривает кругом все платье и чулки, щупает голову, нет ли шишки, оглядывает руки, нет ли царапин от вороньих когтей, и отвечает:
– Днем за вороненком немыслимо лезть! Это уж придется ночью, когда они, чертовки, спят и ничего не видят… А днем они могут и глаза выклевать, гадины этакие.
Вороны расселись около на деревьях и каркали, не совсем еще успокоенные. На крик их появился откуда-то кот Мордан и задвигал воинственно рыжим хвостом.
Даша скоро ушла, а маленькая Женя жадно схватилась за краски. Новенькие, они казались ей чудесно яркими. Она знала уже, что надо мочить кисточку не во рту, а в воде. И она разрисовала сначала привычным карандашом то, что только что видела, что ее так разволновало: сквозь ветки вяза пробирается к вороньему гнезду Даша, внизу – лестница; над Дашей вьются, распустив косо крылья, вороны… Потом начала она раскрашивать этот рисунок так, как осталось в горячей памяти: зеленой краской сплошь – вяз, голубой – блузку Даши, золотисто-желтой – ее голову. Черными сделала она ворон. Внизу, у лестницы, поместила Женя кота, добросовестно расцветив его рыжими полосами.
Это была первая картина Жени, которая привела ее самое в полнейшее восхищение. И еще не успела высохнуть покоробленная бумага, помчалась с нею на кухню к матери.
– Мам! Вот Даша! – спешила она объяснить. – Вот Даша лезет, а ее клюют вороны!.. А это вот – наша лестница… А в самом низу – Мордан!
До рези в глазах все на ее рисунке было для нее живое: ярчайшая зелень вяза, голубейшая блузка, ошеломляюще живой кот и вороны, полные ярости. Эти вороны положительно кричали с раскрашенного листа, клювы у них были, как ножницы.
Но у матери что-то перегорело в печке, она спешила что-то вытащить рогачом… Она сказала, потнолицая: «Отстань ты!» – и только минут через пять прошлась по картине Жени взглядом опытной рукодельницы и экономной хозяйки.
И рукодельница сказала:
– Мала еще свои рисунки делать! С книжки бы лучше сымала…
А экономная хозяйка добавила:
– Теперь на тебя и бумаги не накупишься, раз у тебя новые краски завелись!
Старший брат Жени и Даши, Митрофан, жил дома, но имел такую специальность, что уезжал часто в командировки исправлять весы, и так неделями: приедет, побудет день-два, и опять его посылают.
Он высоко ценил это свое уменье и негодовал, когда его называли слесарем. Тогда он говорил торжественно:
– Сле-сарь?.. Нет-с, это дело у нас не пляшет!.. А ну, пошлите-ка слесаря к десятичным весам, какие врут, и что он там в них узнает! Где они врут и как они врут, – это все надо найти, разыскать, pa-аз! А второе, – как он будет исправлять фальшь? Он, слесарь, что с собой возьмет на работу? Напильники? Не пля-яшет!.. А я вот, я с одной такой палочкой езжу, и больше у меня в карманах ничего! А что же это за волшебная палочка такая? Хотите знать, могу объяснить. Это называется карборун – камень такой есть твердый, что даже он стекло, как алмаз, режет почем зря, – вот! Хотите, на каком угодно стекле черту проведу! Разумеется, это не камень настоящий, а только от него осколочки мелкие, и они вместе слепляются, понятно вам? Слесарь, кроме напильников своих, что он знает? А в весах, вам известно, какая сталь бывает? Поди-ка к ней с напильником сунься!.. Мне же, кроме того, дают весы и не знают даже, фальшат они или не фальшат. Я им испытание должен сделать!.. У меня, конечно, с собой разновес самый точный, госвесовский (называется учреждение наше Госвес), и вот беру я этот разновес и на доску весовую ставлю. Тут опять вопрос, куда же я должен поставить? Доска же имеет четыре угла, и вот я все эти четыре угла проверить должен, который из них фальшит и насколько он именно фальшь свою показывает? Ведь это же все надо в точности знать, а слесарь, разве он это знает? Один угол на такую долю соврет, другой на такую, а как это высчитать, насколько они в общем? Это опять все я должен сам, потому что кругом народ – баран! Весовщик какой-нибудь, скажем, на станции, он знай себе свои гирьки кладет, да туда-сюда муфту двигает, – весы ему кажутся вполне верные, а он себе может на них вполне изолятор заработать… Такой был случай, что большую партию сахару на станции одной грузили, а на другой принимали. Грузили тысяч сорок кило, а получили на пятьсот кило меньше. Вот тебе и усушка-утечка! Каким же это образом вышло? Ясное дело, что весовщик замошенничал! И дома везде обыск и следствие – вполне взяли в оборот, а сахару нет! И кругом говорят: весовщик этот давно работает, и за ним не замечено. Однако советское добро пропасть не должно. Ну, раз сами найти не могут, к нам в Госвес посылают на всякий случай: весы проверьте. Я тогда командировку получаю на эту станцию, – смотрю, правильно: весовщик не воровал, а весы воруют! Они, правда, хотя и воровали не так много, а на большой партии вполне порядочно вышло: пятьсот кило сахару, это только шутка сказать, а поди-ка его купи! Вот таким манером я человека из изолятора и вытащил… Человек же этот до того мне был благодарен: «Ты, говорит, меня прямо спас!» А, разумеется, спас. Весы же мне приходится проверять всякие: и базарные, и рыбные, и станционные, и на фабриках, на заводах… Бывает, что все четыре угла правильные, а середина показывает: ворует! А кто этого не знает, тот на середину и не посмотрит даже. Так вот, надо все выверить и, где лишнее, карборуном снять… Опять же и для этого надо глаз меткий иметь, а то снимешь больше, чем надо, еще хуже весы испортишь… А то говорят тоже – сле-сарь!
Женя очень внимательно слушала, когда говорил таким образом брат Митрофан. Голос у него был громкий, как у отца, нос большой и твердый, на шее кадык. Очень уверенный в себе был у него вид, и Жене казалось, что он все знает и все может.
Она сказала ему:
– А у нас в саду воронята будут… Четыре!
Он отозвался:
– Большое счастье!
– Они говорить могут? – спросила она.
– Хотя бы каркать отвыкли! – ответил он.
– А Даша сказала, что могут, если их учить.
Брат посмотрел на младшую сестру снисходительно.
– Ну да, разумеется, необходимость нам большая ворон говорить учить! Хотя бы люди говорить как следует научились… А также считать тоже. Четыре вороненка? Это же надо ждать, что на будущий год у нас пять пар гнезда вить будут, а еще через год – пар двадцать! А когда ты такая большая дура вырастешь, как Даша, куда тогда от ворон прикажешь деваться? Это гнездо паршивое, – его загодя надо разорить, а яйца ногами потоптать!
Женя всплеснула руками, но больше от неожиданности такого братнего оборота, чем от испуга за судьбу будущих воронят. Она знала, что брат из командировок обыкновенно приезжает недовольный людским непониманием, а главное тем, что не дают ему отдельной комнаты там, где приходится ему работать, между тем как отдельная комната ему полагается по договору с Госвесом; никто, однако, по его словам, комнаты ему не дает, и ночуй где хочешь.
– Я им говорю: «Не-ет, товарищи! Это дело не пляшет!» Но они, конечно, ноль внимания, а, между прочим, работать – работай!.. Также и насчет продовольствия: ни-ког-да ничего не выполняют! Форменное безобразие! Брошу вот все, поеду на Дальний Восток: там, я слыхал, к людям так не относятся шаля-валя!
Приезжая домой, он много спал, и днем глаза у него были красные. А вечером надевал он новый костюм и лиловый галстук и уходил гулять в город. Женя замечала, что при ходьбе он раскачивал плечами, а ноги ставил не спеша: так получалась важная походка, и еще замечала она, что брат смотрел на нее хмуро, так что она даже побаивалась его немного и держалась при нем тише, чем без него. Однажды, когда она, по обыкновению, как-то вскрикнула восторженно: «А-ах!» – и сложила лодочкой руки у груди, брат так на нее поглядел, что она при нем только открывала рот, удерживаясь от явного восторга, и, вскидывая руки, тут же их опускала.
А когда снова как-то пришла Даша, она повторила ей слово в слово то, что говорил Митрофан, и незаметно для себя добавила будто бы его словами:
– Если все вороны, какие есть, да начнут говорить, то что же это будет такое? Тут и людей всех не переслушаешь, а то еще поди ворон слушай!
Но Даша ответила:
– Обо всех и не толк, а только об одном вороненке.
– Об одном нашем вороненке?
– Ну, конечно, о нашем.
– А ведь их всех будет четыре… Значит, три будут по-своему, по-вороньи, а только один говорить?
– И с одним-то возни будет сколько, пока его выучишь!
– А кто его будет учить? Ты, Даша?
– Ну вот, еще чего? Откуда ж я это умею?.. Новости какие, чтоб я воронят обучала! Это же надо все знать, как их обучают…
И Даша важно прикачнула золотой головою и добавила:
– Это хочет одна моя знакомая, сербка, Александра Васильевна… Она провизорша из аптеки, лекарства отпускает.
– А-а, Серпка!..
Женя думала, что это – фамилия: есть слово «серп», отсюда фамилия Серпка, но гораздо более необыкновенное слово «провизорша» она растянула с немалым изумлением:
– Про-ви-зор-ша!
Для нее это длинное слово было совсем новым, и поняла она его так: учительница воронят.
– Провизорша! – повторила она как можно тверже и спросила Дашу: – Ну хорошо, а когда же она к нам придет?
– А зачем же ей к нам приходить? – удивилась Даша. – Вот еще новости какие, чтоб сюда ей прийти!
– Как зачем? А чтоб вороненка выбрать.
– Что, мы сами не можем выбрать, а ей отнести?
– Са-ами? Ну что ты, са-ми!.. А если мы совсем не того выберем? Почем мы знаем, какого выбрать?
Женя даже испугалась такой непростительной Дашиной ошибки и долго не закрывала рта.
Даша подумала и сказала:
– А может, она и сама придет в самом деле, когда воронята уже оперятся? В самом деле, я ей так и скажу.
Блузка в этот приход на Даше была уже не голубая, а светло-розовая, но прошивка, как и на голубой, тоже черными нитками. Прошивка черная на светло-розовом нравилась Жене гораздо менее, чем на голубом, и она смотрела на Дашу и мучительно думала: нравится ли так ее портнихе, или ей самой, или просто не могли они достать ниток другого цвета, так как в те времена (это было в двадцать пятом году) далеко не все можно было достать в лавках.
Шли долгие дни мая, переполненные событиями, ярко возникавшими перед Женей. Их было так много, и они были так поражающи… Вот хотя бы это.
Женя проснулась рано утром и выбежала в сад. Солнце только начало подниматься, и сад был весь-весь золотистый, насквозь пронизанный острым, ослепляющим, желтым переливистым светом… Каждый лист на абрикосовых деревьях круглился и золотел, как спелый июльский абрикос, и в то же время роса блистала на высокой, еще не кошенной траве и на лиловых ирисах, маках, и капли росы этой, как и цветы, были так непередаваемо взволнованно-прекрасны, что Женя остановилась с разбегу как вкопанная, какие-то сладостные мурашки пробежали у нее между лопаток… Она глубоко, как могла, вздохнула, и тут же все как-то счастливо затуманилось кругом: это выступили крупные слезы. Она поднесла к губам свою голую в сгибе локтя руку и долго целовала ее, глядя кругом в золотой туман, целовала, чтобы не закричать во весь голос от этого удара необыкновенных утренних майских лучей… И весь этот день она с отвращением смотрела на свои шесть красок на картонке.
И другое случилось.
Шла мимо из города соседка Топыриха, молочница, и завернула к ним со своей кошелкой, залатанной грязной холстиной, и двумя измятыми пустыми бидонами и сказала матери Жени:
– Что же ты это так себе дома сидишь и беспокойства не знаешь? На станции, говорят, большое крушение, а твой-то муж ведь не дома?
– Дома нет, на работе, – испугалась мать.
– «На рабо-те»!.. Может, его и на свете уж нет, а ты сидишь, беспечная!
И ушла. И потом Женя вместе с матерью, заперев наскоро дом, пошли, одна перегоняя другую, на станцию.
Мать, всегда такая спокойная, – видела Женя – побледнела, осунулась. Она делала очень широкие шаги, подобрала юбку; Женя бежала.
Наконец, увидела Женя на путях груду разбитых товарных вагонов, над которыми возились, растаскивая их, рабочие.
– Вот страсти господние! – вскрикнула мать и кинулась к ним бегом, но ее не пустили близко.
Она кричала:
– А машинист какой? Машинист?.. Не Приватов?
Но ей не ответили, только махнули рукой, чтобы шла на станцию. Вплоть до станции охала и хваталась за сердце мать, но там ей сказали, что муж ее уехал с другим поездом, а этот состав угробил машинист Жариков.
– Ну, так я и думала, молодой, который порядков еще не знает! – прошелестела мать, облизнула сухие губы, пошла пить из бака с кипяченой водой и выпила, не отрываясь, всю большую жестяную, на железной цепочке, кружку.
Потом еще, это вечером, поздно, когда Женя легла уже спать, она проснулась от крика, – пришла Даша и начала вопить в голос, что с таким извергом мужем она больше не хочет жить, что он ее бил, повредил ей пломбированный зуб, что это видели соседи, что больше нога ее не будет у него на квартире…
Она не плакала, но щеки ее были замазаны грязными полосами от недавних слез.
Женя стояла около нее в одной рубашке и смотрела на нее во все глаза.
Но не больше как через десять минут пришел за нею муж, молодой, но сутуловатый, с маленькой, запавшей верхней губою и выпяченной нижней, в очках, служивший где-то счетоводом, и Женю опять отослали спать. И как ни пыталась она вслушаться в сбивчивые, крикливые объяснения Даши и ее мужа, причем Даша часто кричала: «Врешь!.. Врешь, негодяй!» – сон все-таки оказался сильнее ее любопытства, а утром, когда она встала, не нашла уж она Даши: помирившись с мужем, она ушла с ним на рассвете к себе домой.
Или еще вот это.
Случилось услышать Жене не то чтобы очень уж горестное, но с выражением сказанное:
– А бабка Катя угасает!
Бабка Катя была древняя, лет девяноста, старуха гречанка на соседнем дворе. Из года в год возилась она с огородом. Почему такую древнюю, черную, морщинистую, в дугу согнутую старуху звали Катей, Женя не понимала, но и сама называла ее так же, как и все.
Иногда бабка Катя дарила ей сладкую осеннюю морковку или свеженький бородавчатый огурец, – и вот теперь она угасала. Женя не совсем поняла, когда услышала, что это значит «угасала», но почему-то догадалась через минуту, когда на дворе бабки Кати увидела еще трех-четырех старух – чужих, из других дворов, – поняла, что бабка Катя умирает.
Потом новенький гроб с бабкой Катей выносили и укладывали на простые дроги. Старухи все были в черных платках. Лошадь буланая, с надрезанным ухом и белесой челкой. Ей не стоялось на месте, ее кусали мухи, и она все оглядывалась назад, скоро ли все кончат и можно будет идти на кладбище.
А в середине мая была гроза и такой ливень, что по улице – она была не ровная, а покатая, – бурно катилась целая река желтой воды.
Река эта хлынула через ворота к ним на двор и сразу затопила его и весь сад, и она, Женя, помогала матери и Митрофану, который оказался в этот день дома, делать перед воротами запруду из глины и камней. При этом не только мать подоткнула юбку до колен, но даже и важный Митрофан, хотя и ругался все время, но засучил брюки и рукава рубахи; она же, Женя, радостно мокла вся сплошь, и потом, когда сделали уже плотину и отвели от себя воду, минут пять с визгом носилась под дождем: все равно уж намокнуть до нитки, а потом переменить платье!..
Но главное было тогда не это, а то, что после ливня высоко, почти посредине неба, засияла радуга, незабываемая, совершенно исключительная, единственная из радуг, огромнейшая, широчайшая, в которой было целых три лиловых дуги одна за другою с небольшими промежутками. И в новом сухом платье Женя опять выбежала на двор смотреть на эту радугу и ахать от восторга, складывая руки лодочкой перед грудью.
И хотя в это время из какой-то отсталой тучки посыпался мелкий град с совершенно незаконным уже дождем и Женя снова промокла, но она не сдвинулась с места, пока Митрофан не втащил ее на крылечко, отчего у нее потом целый день болела рука. А на дорожках в саду после этого ливня дня три еще было грязно.
В одно утро кот Мордан прямо на постель к ней прыгнул с изумительной птицей в зубах: крылья у нее были длинные, как у ласточки, хвост длинный и клюв длинный, а перья то ярко-желтые, то голубые, то коричневые с красниной. И как было Мордану не показать Жене такую редчайшую добычу? Он даже довольно легко выпустил из зубов ее, мертвую уж, конечно, чтобы Женя могла разглядеть ее внимательней и подробней, и только зорко следил, что будет делать с нею она, не спрячет ли так, что вновь уж ее не вырвешь?
Женя заплакала и тут же с постели, ударив кота по голове, побежала к Митрофану, чтобы он сказал, какая это такая птица.
Митрофан только что проснулся сам, лежал и курил.
– Это? Щур-пчелоед, – сказал он. – Это Мордан поймал? Ну-ну!.. Щура? Как же это он, чертенок, ухитрился?
Мордан же был уже около него: он вскочил следом за Женей, он неотрывно глядел на свою добычу страшными и в то же время умоляющими глазами, глухо мяукал и двигал хвостом. Женя заметила даже, что глаза у него стали будто розовые вместо зеленых, и сказала Митрофану:
– Отдай уж ему, все равно не живой щур!
Но Митрофан отозвался лениво:
– Жирно будет по целому таракану, хватит и по лапке!.. Вот сделаю я из этого щура чучело и повешу на стенку…
– Мордан все равно достанет!
– Ничего, так повешу, чтоб не достал.
И положил мертвую птичку в свой стол, а в кота бросил ботинком.
Наконец, еще одно было.
Какой-то очень широкоплечий молодой малый ходил по их улице с медведем. Конечно, это был смирный медведь, и Жене показался он не таким и большим и ничуть не страшным, как будто бы даже унылым, облезлым, – должно быть, он линял. Он шел вперевалку, как большая бурая собака с куцым хвостом и низко опущенной головой. Посередине улицы, окруженный очень плотной толпой, он боролся со своим вожаком, и вожак его поборол. Потом он поднялся, встряхнулся, как собака, и с фуражкой вожака, поднявшись на задние лапы, обошел толпу. Ему клали в фуражку деньги. Иные трепали его по плечу. А один очень бородатый человек, сапожник (его видела иногда Женя: за столиком на улице он чинил обувь), говорил громко:
– Это, граждане, чистое мошенство, чтобы человек медведя мог повалить. Это двойное мошенство: и малый мошенничает и само собою и медведь тоже. Человек медведя нипочем не свалит!
На что малый отозвался скромно:
– Это смотря какой человек…
При этом он выкатывал действительно наводящую на размышление грудь и хлопал по ней бугроватой рукой…
И многое еще случилось в долгие дни мая, туго переполненные сложными человеческими делами и заботами, радостями и печалью, а также расцветами и смертью как цветов, так и зорь; вороны же, обе поочередно, прилежно сидели на своих четырех зеленоватых крапчатых яйцах, в которых чуяли уже будущих четырех воронят.
Во время ливня Женя очень беспокоилась, как бы гнездо не смыло, как бы не вывалились оттуда яйца, но нет: такое лохматое, на редкость плохо по виду сметанное гнездо оказалось на деле очень прочным, из него неизменно высовывался серьезный вороний клюв, а вблизи от гнезда заботливо сидела настороже другая ворона и зорко глядела по сторонам.
Однажды – это было уже в конце мая – Жене, смотревшей на гнездо из слухового окна чердака, показалось, что в гнезде распустились какие-то красные цветы, которые двигались: лепестки красные и острые распускались и сворачивались, и шел от гнезда какой-то змеиный шип…
Женя поняла, что это вывелись, наконец, воронята.
Она сбежала с чердака стремглав. Она хлопала в ладоши и кричала:
– Воронята у нас! Воронята!
Она дергала за платье мать и тащила ее смотреть воронят вот сейчас же, немедленно.
Но мать удивлялась ей:
– Ну что же тут такого, ежели воронята? Сидела ворона на своих яйцах, ну и вылупились воронята, и все…
Женя в сад побежала одна. Вяз стоял непроницаемо зеленый. Листья его только теперь, к концу мая, развернулись во всю свою мощь. Снизу ей чуть видно было гнездо.
– Ка-кие ум-ные! – вслух подумала Женя о воронах, так укрыто поместивших свой дом.
Она заходила так и этак, она подымалась на цыпочки, чтобы увидеть еще раз красные лепестки ртов четырех воронят, но в гнезде было совершенно тихо, и снизу ничего не видно. Она поняла, что воронята сыты и спят.
Вторая картина Жени, сделанная в тот день, была такова: из темно-зеленого облака вяза выдвигалось исчерна-коричневое гнездо воронье, а из него, как лепестки мака, такие красные, высовывались восемь остроконечий. Над гнездом на сучке сидела ворона с куском хлеба в черном клюве. И только. Под картиной была подпись карандашом: «Маи вароньяты».
Эта картина ей самой нравилась чрезвычайно: ей все казалось в ней живым до того, что даже как будто шел воронячий шип от этого раскрашенного листа бумаги.
Она приколола его двумя булавками над своею постелью, и когда глядела на него издали, у нее замирало сердце от удовольствия.
Потом эта восьмилетняя девочка с двумя болтающимися тонкими белесыми косками, не маленькая для своих лет и ловкая, бежала по улице, квартала за четыре, в город, к сестре Даше, обрадовать ее тем, что появились воронята.
Даша жила в двухэтажном доме, в котором было несколько квартир. Только когда Женя входила во двор и потом подымалась по лестнице, она подумала, что Даша, может быть, теперь ругается с какою-нибудь соседкой или моет пол, и как ей скажешь тогда о воронятах?
Но Даша сидела в комнате у окна и чинила свой чулок, распялив его пятку на ложке. Увидя это, Женя еще от дверей крикнула:
– Уже есть, Даша! Воронята! Четыре штуки.
Даша целовала ее и смеялась:
– Ах, какое счастье привалило! Воронята!
– Четыре штуки!
– А ты разве к ним туда лазила, считала?
– Я с чердака видела! Четыре рта, и все красные-красные!
– Замечательно!
Даша тормошила Женю, но Женя спросила вдруг серьезным тоном:
– Теперь вопрос: какой же должен учиться говорить?
– Это уж пускай Александра Васильевна выберет… провизорша.
– А когда же она выберет? Пускай сейчас выбирает и берет, а то Мордан… или даже мальчишки через забор залезут…
– Ну, вот еще – мальчишки! Какие же мальчишки?
– Какие-нибудь… соседские… Увидят гнездо и залезут ночью.
Мысль о мальчишках явилась совершенно внезапно: слишком много их видела Женя на улице, пока добежала.
– Ночью, так это Мордан скорее залезет, а не мальчишки, – сказала Даша.
– Mop-дан?.. Мордана я никуда не пущу ночью! Мордан у меня будет спать теперь ночью!
– Беда тебе будет теперь с твоим хозяйством! – шутила Даша. – Мордан, мальчишки, – теперь так и оглядывайся кругом!
– Да-а, а ты как думаешь? Хоть бы провизорша скорее взяла одного. Ты бы ей сказала сегодня, а? Скажешь?
– Скажу, когда оперятся.
– А я потом могу с ним разговаривать, с вороненком?
– Дурочка! Да ведь он сколько же слов знать будет? Может быть, всего двадцать.
– Ну что же – пускай двадцать… А мне больше и не надо… Значит, я с ним буду говорить, а? Она мне позволит?.. Я ей, конечно, его подарю, а все-таки ведь он мой же будет, вороненок?
Она просидела у сестры с полчаса, всячески стараясь уяснить для себя, когда именно придет за вороненком провизорша Серпка, какого именно из четырех она выберет: самого большого, или самого маленького, или среднего (ей представлялось, что они не одинаковые, а непременно есть среди них и побольше и поменьше), и как именно она будет учить его говорить, то есть будет ли его бить – и как и чем бить, – или не будет?
Домой она бежала так же, как и сюда из дому: она была в волнении чрезвычайном.
Женя брала к себе на постель кота недели три, чтоб не забрался он к воронятам ночью. Среди дня же несколько раз залезала она на чердак, чтобы рассмотреть, что делается в гнезде.
Если бы могла она сама подставить чердачную лестницу к вязу, она полезла бы и туда разглядеть как следует воронят вблизи. Это занимало в доме только ее одну, но, упорно думая над этим, она нашла и способ, как надо лезть: с куском хлеба в руке. Влезть и начать кормить воронят, и вороны, увидя это, не стали бы долбить ее носами. Но лестница была для нее чересчур тяжела, а вяз снизу гладкий. Приходилось только стоять под ним и слушать, как шипят воронята, когда им принесут еду. Однако и это доставляло радость.
– Мам! Они вот-вот улетят из гнезда, воронята! – сказала горестно Женя.
– Так и улетели! Рано еще им, – утешила мать.
Однажды в день отдыха отец обедал дома и поставил перед собою графинчик водки. Дома был в это время и Митрофан: несколько дней уже его никуда не посылали в командировку.
Ели зеленый борщ с бараниной и котлеты с малосольными огурцами.
К концу обеда графинчик водки выпили отец с Митрофаном. Говорил Митрофану отец, вытерев усы полотенцем:
– Очень я на тебя удивляюсь!.. Как это может человек не понимать полной своей выгоды? У тебя свободное время выдается, и то ты спишь днем, или же ты оделся в чистое, тросточку в руки и подался шалды-балды в город!.. Между прочим, ты бы в свободное время примус кому починил или там керосинку, замок поправил, кастрюльку медную запаял – вот и была бы тебе копейка на обиход!
– Ну да! Копейка!.. Кастрюльки паять я буду – тоже работа! – брезгливо отзывался Митрофан. – Я должен не то чтобы ронять свою квалификацию, а, напротив того, ее поднимать еще выше, – вот это так! Я, может, куда в техникум поступить желаю, а ты меня до замков-кастрюлек обратно тянуть хочешь из-за копейки!
– Обожди! – стукнул по столу отец. – Обожди!.. У тебя уж ус долгий растет, который ты что ни день у парикмахера бреешь! Кто учиться может техникам всяким? Который еще мальчишка, вот кто!.. И помню я свое положение, как я до пятнадцати лет с отцом своим степь пахал, и считалось, что мы земли двадцать пять десятин засевали арендованной, а что я видел от этого? Одежа моя вся латка на латке была, а на ногах постолы! Не считая, что помещику половину должны были отдать, как испольщики, мы пшеницы одной две тысячи пудов получали, а ведь тогда ей какая была цена? Семь рублей четверть – считалось десять пудов! Себе на одиннадцать душ семьи надо оставить? Да на три пары волов оставь, да на две пары лошадей оставь, а там еще мелкая скотина, а там свиньи, куры – все зерном пропитываются, и выходило, что не на что парню сапоги справить – ходи он в постолах!.. Ну, надоело, ушел да в город, на завод. А заводом тогда француз заведовал. Я аж за десять шагов от него фуражку снял свою да к нему: «Барин! На работу меня примите!» Как мне уж пятнадцать лет да росту я был порядочного, то, конечно, он меня принимает. И что же я делаю на заводе три года? Суконкой машины обтираю! Больше ни до чего меня не допускали!.. Аж через три года только стали меня обучать – вот как было.
– Ну, а теперь, как тебе известно, совсем не так, – вставил Митрофан.
– О-бож-ди! – крикнул отец. – И вот я с течением временя вышел помощником машиниста, и вот домок себе нажил, а также сад на участке развел. Ну, однако же, в машинисты я не лезу! А почему я не лезу – вопрос? А потому не лезу я, что на машиниста должен я много еще учиться арифметике, и всю ответственность на себя принимать, а у меня уж сивый волос, вот!
Отец постучал по голове пальцем, а Митрофан улыбнулся криво:
– Так у меня же пока еще до сивых волос далеко.
– О-бо-жди! – еще громче крикнул отец и стал весь красный, и губы его задрожали.
– Дай уж отцу сказать, что же ты это, – вставила мать. Но Митрофан поднялся из-за стола, срыву отставя стул:
– Буду я всякие глупости слушать, очень мне нужно!
– Ка-ак это ты слушать не будешь? – поднялся и отец. – Должен ты слушать, что отец тебе скажет, и будешь ты слушать!
– Очень нужно!.. «Скажет»!.. Замочки чтоб я чинил за двугривенный… Керосинки!
– Да ты ж, собачья ты душа… – двинулся на Митрофана отец.
– На-чи-нается! – брезгливо отошел Митрофан от стола и вышел в дверь.
Однако отец кинулся за ним, и Женя слышала только, как крикнул и Митрофан:
– Что? Драться лезешь? Ты драться?
Тут мать схватила ее в охапку и внесла в спальню и прикрыла там, а сама бросилась разнимать мужа, сцепившегося с сыном.
Должно быть, было что-то еще, что заставило отца так обойтись с Митрофаном, но Женя не знала этого. Когда она выглянула из окна, Митрофан уходил со двора в калитку. Он уходил поспешно, красный, без фуражки, приглаживая на ходу волосы. За ним порывался бежать отец, на котором новая полосатая рубашка была разорвана от ворота до пояса и вбок – треугольником, – но в отца вцепилась сзади мать и не пускала. Это показалось Жене настолько страшным, что она вдруг заплакала навзрыд, и этот плач ее остановил отца. Он постоял на месте, глядя то на нее в окно, то на калитку мутными, красножилыми глазами, потом махнул рукой и повернулся, говоря с чувством:
– Пусть уходит!.. И пусть не приходит, пусть!.. Я его в свой дом… не пущу больше… Это мой дом!.. Это я своим трудом вот все, как есть!.. А оказалось – это не дом, а гнездо воронье!.. Отцу родному смел рубаху разодрать! а?.. Хорош?.. Кра-со-та!.. Так же и Дашка! Почему я с тобой не дрался никогда в жизни, а она должна со своим мужем, хотя он же в очках ходит, – человек приличный, непьющий!.. И даже некурящий совсем. А разве ж малое это дело – непьющий, некурящий?.. Она же с ним дерется, с таким приличным человеком, дура!.. Ма-ать!.. Эх, и будешь же ты плакать горькими слезами с такими детями, когда я только помру!
День был жаркий, в саду же настоящая широкая тень была только от вяза. Там и улегся наконец спать отец, подстелив сена.
Мать ушла в дом убирать со стола после такого неудавшегося обеда, а Женя выбежала из своего заключения на улицу посмотреть, куда мог уйти Митрофан и не стоит ли он где поблизости с какими-нибудь знакомыми парнями.
Но когда она пригляделась к улице, она увидела не Митрофана, а Дашу в голубой блузке: она подходила к их дому с какою-то великаншей.
Женя всегда считала сестру очень высокой, но та, с кем она шла, – чернобровая загорелая дама, широкоплечая и под белым зонтиком, – была чуть не на голову выше Даши… У нее была далеко вперед выдававшаяся грудь; голые выше локтей руки, толстые, длинные, казались Жене непомерной силы. Женя загляделась на нее, открыв изумленно рот, а Даша сказала с подхода весело:
– Вот Александра Васильевна за вороненком пришла!
– За во-ро-нен-ком!
И Жене вдруг стало понятно: и почему вообще не видела она воронят, умеющих говорить, и почему если где-нибудь они есть, то их, конечно, очень мало?.. Почему? Ясно почему: разве много найдешь на свете женщин таких, как эта Серпка? Конечно, такая кого угодно выучит говорить, даже и вороненка, – но разве есть еще где-нибудь подобные!
И вот сразу забыла Женя и о Митрофане и об отце. Она представила, как полезет сейчас Даша на вяз и вынет всех четырех воронят. Какого же из них выберет эта огромнейшая провизорша? И как именно она будет выбирать его? Во всяком случае, их, этих таинственных воронят своих, она сейчас увидит всех четырех!.. От внезапной радости она, робко поглядев на сдвинутые черные брови провизорши, хлопнула в ладоши и вбежала во двор впереди Даши.
Чердачная лестница была не тяжела для Даши, и она, сразу перевернув ее, взяла эту лестницу наперевес одной рукою и пошла в сад.
Она кричала звонко, по-хозяйски:
– Вот на этом дереве гнездо, Александра Васильевна! Видите? Вот!
И Женя увидела, как она остановилась вдруг и опустила лестницу наземь: с сена под вязом недоуменно поднялся разбуженный ее криком отец.
Сено набилось ему в волосы, глаза совсем мутные, губы отвисли, измятое лицо – кроваво-красное, рубаха изорвана… он был даже, пожалуй, страшен. Но, увидя незнакомую и такую величественную, как провизорша, женщину, под белым зонтиком, отец прижал локтем рваную рубашку и спросил хрипло:
– Это… по какому вы делу… ко мне?
– Мы даже совсем и не к тебе, папаша, – в замешательстве сказала Даша. – Ты себе можешь спать, а это мы за вороненком.
– Могу спать себе, значит? – хрипнул отец. – Та-ак!.. Разрешается мне, значит… перед дамой!..
И вдруг с ненавистью взглянув в глаза провизорши, для чего должен был поднять голову, спросил совсем будто и не пьяно, очень отчетливо:
– Это вам зачем же вороненок, мадам? Кушать будете?
– Александра Васильевна хочет выучить одного говорить, папаш! – бойко ответила за провизоршу Даша.
– Го-во-рить? – очень удивился отец и брови поднял. – А что же она сама по-нашему как будто не может? Или не из русских?
– Гово-рить по-вашему я вполне умею, конечно, – с достоинством и глухим басовитым голосом ответила ему провизорша, – но так как я, к сожалению, пришла совсем не вовремя, кажется, то я извиняюсь и сейчас же уйду!
И она повернулась уже величественно, но отец закричал вдруг:
– Зачем же, мадам? Да я с нашим удовольствием!.. Воронят разве нам жалко? Мы их не заводили, и на кой они нам черт? С нашим удовольствием!
И, подтянув брюки, он взял рывком лестницу из рук Даши и тут же приставил к вязу, бормоча при этом:
– Вот! Минутное дело!.. Стоит крепко, и сейчас я вам их достану, мадам, как на мне все равно рубаха порватая!..
– Папаша! Не надо! Я сама! – хотела было отодвинуть его Даша. – А то вы еще с дерева сорветесь!
Но он поднял голос:
– Про-очь!.. Иди прочь до своего братца!.. А я еще в своих полных силах и при своем здравьи, мадам, и сейчас я этих самых вороняток сниму вам для обучения… Если бы вы сказали: для жарковья – это другой вопрос, а насчет обучения – то пожалуйста, с нашим удовольствием!
И, тяжело переступая со ступеньки на ступеньку, полез он на вяз. Вороны, откуда-то взявшись вдруг, кричали как оглашенные. Женя видела, что провизорша совсем не знала, как ей быть. Она сделала нечто среднее между присутствием здесь в саду и уходом: отошла на несколько шагов назад и повернулась в сторону дома, а голову и спину прикрыла зонтиком.
Платье на ней было бледно-палевое в крупную клетку, а зонтик оказался рыжим на прутьях.
На отчаянный крик ворон слетелось, как всегда, еще две, три, четыре…
– Смотри! Глаза выклюют! Па-паш! – звонко закричала Женя, заметив, как кидались на отца вороны.
– Во-от!.. Вот же чертово семя! А?.. Ну, смотри ты! – кричал хрипло отец, свирепея от вороньих наскоков.
Но он был уже вровень с гнездом головою: он карабкался вверх по сучьям неожиданно для Жени умело.
И вдруг раздался изумленно свирепый крик:
– А-ах вы, сволочь проклятая!.. Так вы та-ак!
И потом не менее свирепое:
– Гей, держите, мадам, – кидаю! Подставляйте подол!
И один за другим полетели из гнезда вниз воронята.
Они уже обрастали перьями и падали, криво расставляя крылья, но удержаться на них в воздухе не могли и тяжко шлепались то головою, то грудью об утоптанную землю дорожки.
– А-а-ай! – пронзительно закричала Женя, а оттуда, с вяза, свирепое отцово:
– Мадам! Подымайте подол, – последнего швыряю!
Провизорша решительно пошла из сада оскорбленным тяжелым шагом, а четвертый вороненок, оказавшийся почему-то лучше оперенным, чем первые три, распялив крылья, упал на траву мягко, как на парашюте. И уже кинулась к нему Женя, но где-то вблизи таившийся кот Мордан мелькнул в глаза ей, как рыжая молния, разом схватил этого последнего, благополучно упавшего вороненка и, описав с ним странную дугу между абрикосами, скрылся под крыльцом дома.
Откуда он явился, Женя не могла понять, но трудно ведь было и уследить за всем тут ее восьмилетним глазам.
Еще копошились на земле, вытягивая предсмертно крылья, остервенело сброшенные разбившиеся воронята. Над ними, косо ныряя, летали безумно оравшие вороны. Даша проворно пошла из сада догонять оскорбленную провизоршу… Спускался с вяза отец, имевший теперь окончательно дикий вид.
Вороны долго живут на земле, они очень приметливы и умны, но всех возможных случайностей не могут предвидеть даже и они, вещие.
На другой день, отрыдавшись и закопав в саду трех воронят и отхлестав Мордана хворостиной за четвертого, которого, как самого, несомненно, умного из всех, и научила бы говорить исполинша Серпка, Женя прилежно уселась за чистый лист бумаги.
Она старательно нарисовала карандашом прежде всего кота, как он схватил вороненка, потом лестницу: это было главное в ее новой картине. Рисовать вяз было уж для нее делом привычным. Между лестницей и котом разместила она трех воронят, лежащих на земле с подвернутыми головами и с вытянутым у каждого одним крылом.
Отца она не изобразила, так как его было плохо заметно снизу в густой вязовой листве; Дашу тоже, так как Даша тогда как-то совершенно стушевалась в ее глазах перед великаншей-провизоршей, но зато провизорша с зонтиком заняла всю правую сторону листа и была сделана просто: сверху зонтик, а под ним длинное платье клеточками.
Рисунок этот она надлежаще раскрасила, и получилась самая удачная и самая трагическая из трех ее первых картин. Карандашом же тщательно вывела она под этой картиной и свою подпись: «Женья Прыватов».
1933 г.
Потерянный дневник*
Оля Щербинина, миловидная и бойкая девочка лет двенадцати, идя однажды домой из своей школы первой ступени, заметила в стороне от тропинки в густой траве желтенькую узенькую записную книжечку, и когда взяла ее и прочитала на переплете крупную надпись: «Дневник Юрия Белова», то сказала громко:
– Вот так та-ак! Он и дневники ведет!
Этот небольшой девятилетний мальчуган при встречах с нею почему-то застенчиво улыбался, а когда она проходила, долго глядел ей вслед. И ей нравилось, пройдя этак шагов пятнадцать – двадцать, вдруг обернуться, чтобы узнать, смотрит ли Юра, и убедиться: смотрит! Тогда она вздергивала плечом, поджимала губы и говорила про себя: «То-о-же еще!..» Однако ей это было приятно.
Теперь она шла и с любопытством читала написанное на клетчатых страничках крупными красивыми прямыми буквами чернилами:
«Ура! Я опять начал писать стихи да еще почище старых! „Безумец“, „Призрак“, „Кавказу“, „Крыму“, „Ночь“… Ведь я, конечно, буду поэтом. Какая слава! Какая честь! Я свой талант никогда не заброшу. Ведь быть поэтом, – как это хорошо!.. Непременно буду кончать „Героя“».
Тут же были и четыре карандашные строчки, впрочем тщательно зачеркнутые: очевидно, маленький поэт был ими недоволен.
Все-таки зачеркнутое можно было разобрать, и Оля прочитала:
Исчез Ковальский. Появился
Вверху аэроплан стальной,
Как будто демон он носился,
Влеком безумною рукой.
Потом чернилами и опять тщательно было записано:
«4 апреля. Лежал три дня больной. С одной стороны, приятная, а с другой – неприятная история. Приятная тем, что лежишь и ничего не делаешь; неприятная же тем, что не занимаюсь, а время проходит. Хотел кончать „Героя“ – нет вдохновенья. Вероятно, буду его писать только когда стану взрослым. Папа завтра в четыре утра уезжает. Жаль! Но ведь он едет для радости, для необходимости нашего переезда в Москву. Читать нечего. Завтра непременно начну заниматься.
5 апреля. Папа уехал, а у меня даже легко на душе. Неужели я такой бессердечный? Нет, я готов жизнь отдать за него! Пишу „Рабыню“ – поэму из древнеегипетской жизни. Хорошо удается.
6 апреля. Ну, вот и дописываю! Я вчера говорил, что пишу „Рабыню“, теперь я ее дописываю. Буду ее обрабатывать. Это будет, вероятно, очень долго. Вчера вечером разнервничался, сам не знаю почему. Но то было вчера, а сегодня случилось замечательное событие! Волны моря выбросили на берег золотую цепочку с крестиком. Мама ее нашла. Цепочка стоит червонцев пять, если не больше. Мама подарила ее мне, а крестик бабушке. Но я отказался от цепочки, благо мне она не нужна, а мама мне обещалась подарить что-нибудь еще. Эти два дня море бушует невероятно. Рев его слышен даже у нас на квартире.
14 апреля. Семь дней не писал дневника. Получили письмо от папы. У мамочки на руке сделался нарыв, – ни стать, ни сесть, ни даже духу перевесть. „Рабыню“ обрабатываю. Заделался в художники, благо есть рисовальная тетрадь, и краски, и кисточки. Это очень приятно. Вижу, дневники делаются все лаконичнее. Впрочем, нечем особенно восторгаться, а описывать тоже нечего. Я… (Везде пишу „я“, а кто же такой я? Странно!)
15 апреля. Начал писать новую поэму из жизни волжских разбойников. Между прочим, когда я просматриваю тетрадку моих стихов, то замечаю, что сначала писал только мелкие описательные стихотворения, потом сравнительно с тем, как я развивался, все более и более сложные, и, наконец, имею возможность писать настоящие поэмы. Никто, кроме самых близких мне родных, не будет читать моего дневника никогда, и потому я могу писать здесь, что мне угодно. Пользуясь этим, буду писать здесь все, что я думаю главного. Я почти уверен, что буду вторым Пушкиным. Я думаю, что я буду знаменитый человек своего века и оставлю о себе память будущим поколениям. Я смогу написать о себе стихотворение такого же содержания, как Пушкин: „Я памятник себе воздвиг нерукотворный“ и т. д.
20 апреля. Замечательного много, да толку-то из него никакого. Сегодня должно было быть землетрясение, как почему-то предсказывали (а кто – неизвестно), однако же его нет, а факт тот, что идет несносный дождь. Слякоть и грязь. Запишу следующий случай. В воскресенье мы, то есть я и мама, были у Морозовых. Говорится: мы пришли к Морозовым, но это неверно. Часть дороги в одном месте мы… плыли по… по… грязи! Но весь ужас нашего положения был в том, что у нас на двоих были одни калоши. И при опасной переправе через рекообразную улицу нам приходилось перебрасывать их с одного берега на другой!
29 апреля. Обыденных событий случилось и случится очень много. Во-первых, я сегодня пойду в театр, чему я очень рад; во-вторых, обработка „Рабыни“ подвигается; в-третьих, пишу записки о Крыме; в-четвертых, есть новые темы для стихов; а в-пятых – ура, ура, ура!.. Но здесь я буду писать шифром».
Дальше целая страница была уписана какими-то значками, цифрами и буквами нерусской азбуки, неизвестной Оле Щербининой.
Потом шло четверостишие, нацарапанное кое-как, вкось и вкривь, карандашом:
Керим! Меня убить ты должен?
Нет, пусть уж лучше сам умру!
Гляди, кинжал блестит из ножен!
Смотри, я больше не живу!
Эти строчки были свирепо зачеркнуты прямыми и наклонными чертами. Потом на отдельном листке чернилами:
«Дневник мой!.. Бросил я тебя совсем, и за это ты на меня, конечно, обижен. Принимаюсь снова писать. На этот раз у меня выйдет, кажется, целый рассказ».
Однако дальше шли уже сплошь чистые странички, и Оле стало даже досадно, что этого «рассказа» она так и не прочитает.
Записная книжечка имела новенький вид, хотя Юра писал на ней еще в апреле, а теперь шел май, – средние числа мая, – и прежде всего Оля удивилась тому, как это такой маленький мальчик ее не испачкал, не изорвал! Она бы это сделала непременно. Потом – стихи. Этого уж она никак не могла предположить раньше, чтобы такие маленькие мальчишки писали стихи.
Она видела, как Юра бегал вместе с Фомкой – прачки Татьяны – и другими такими же здесь, по поляне, по которой она шла, где было когда-то – так говорили – татарское кладбище, а теперь паслись коровы, козы, куры. Голос у Юры был звонкий, и он очень увлекался игрой, особенно если играли в прятки. А прятаться здесь было где, так как, кроме кустов шиповника и терновника, тут ближе к дороге стояли штабели дикого камня, привезенного для камнедробилки, и торчала эта самая камнедробилка, которая пока не работала; все это отлично скрывало ребят, и игра выходила веселая. Близко от поляны проходило шоссе, для починки которого и привезли камнедробилку и камень, а за шоссе, шагах в сорока, был спуск к морю.
Отца Юры, юрисконсульта горхоза, Оля видела редко, он постоянно бывал занят или в разъездах, а мать его, женщина еще как будто не старая, но почему-то с седыми волосами, встречалась ей чаще; однако ни ей не было никакой нужды в Оле, ни Оле в ней. Отец же Оли был грузчиком на пристани, а мать – уборщицей в доме отдыха металлистов, и в их квартире не было книг Пушкина. Пушкина Оля знала только по имени, стихотворение «Памятник» было ей незнакомо. Но то, что маленький мальчик, который не начинал еще ходить в школу, пишет так складно, по-книжному, это не только ее удивило, это как-то, – неясно для нее самой, чем именно, – ее оскорбило даже. И когда вот теперь, неожиданно, он встретился ей с небольшой снизкой мелкой рыбешки, раскрасневшийся, счастливый и спешащий домой, она посмотрела на него с любопытством и спросила:
– Где ты взял рыбу?
– Это мне… это мне Фомка дал! – заторопился ответить Юра. – Он на пристани поймал!.. Много!
– Уж этот Фо-омка! – протянула Оля неодобрительно, но Юра вдруг почему-то стыдливо бросился бежать, и белая чистенькая рубашка его (он всегда был одет заботливо и нарядно) вздулась смешным пузырем.
Оля вспомнила, как недели две назад он вздумал ей очень вежливо поклониться, сняв по-взрослому свой белый картузик, а она ему ответила: «Здравствуй, Юрочка!» – и прошла. Потом это случалось несколько раз, что он ей вежливенько кланялся издали, а она слегка кивала головой и улыбалась.
Мать Юры была седоволосая, а бабушка – брюнетка.
Когда Юра захотел выяснить причину такой странности, ему объяснили, что мать его поседела от испуга, а бабушка, которая тоже могла в тот момент испугаться, все-таки не испугалась и потому именно не поседела.
– Значит, ты, мама, трусиха, а бабушка – героиня? – допытывался Юра.
– Глупенький, это я не за себя, а за тебя так тогда испугалась, – отвечала мать и ерошила его темные волосы.
По ее рассказу, когда он был совсем еще крошка и спал в своей коляске, – отца же совсем тогда не было дома, – в лунную ночь она услышала треск в окне.
Они жили в нижнем этаже – не в этом городе, а в другом. Она открыла глаза и увидела в раскрытом уже окне голову и плечи какого-то человека. Она вскрикнула от ужаса и в этот именно момент поседела. А в следующий момент бабушка, которая лежала, но не спала, на своей кушетке, расположенной как раз под окном, толстою палкой (она хромала, ходила с палкой, и палка эта была всегда у ней под руками) ударила грабителя по голове. Он охнул, свалился под окно и потом исчез.
С тех пор как узнал об этом Юра, он стал смотреть на бабушку, как смотрел бы на царицу амазонок, о которых читал в той же книге по истории, из которой черпал сведения о жизни в древнем Египте. Кстати, бабушка была высокая, широкоплечая, с мужскими чертами лица и ногу себе повредила на скачках.
Она учила Юру французскому языку, на котором говорила так же, как и на русском, а мать – немецкому. О том же, что такое шифрованное письмо, он узнал от отца, однако шифр для дневника изобрел сам, и то заветное, что он записал им и чего не должны были и не могли бы прочитать ни отец, ни мать, ни бабушка, было всего несколько слов об Оле Щербининой. Если бы их расшифровать, они читались бы так: «Я влюблен в Олю. Она очень милая. Сегодня она мне сказала: „Здравствуй, Юрочка!“ Какое счастье!..»
Юра очень трудился над тем, чтобы записать это. И немецкие буквы, и римские цифры, и цифры арабские, и два знака – вопросительный и восклицательный – все это, затейливо чередуясь, создавало неодолимое препятствие для всякого, кто захотел бы проникнуть в тайну девятилетнего его сердца.
Отец Юры должен был получить место помощника коммерческого директора на одном из заводов под самой Москвою, и ездил он выяснять условия жизни там, в центре. О самом важном, о квартире, думать не приходилось, – квартира была готовая, при заводе. Нужно было дождаться, когда завод, – а он еще не был вполне закончен, – будет пущен.
Приехал из Москвы отец Юры – звали его Валерьян Николаич – отнюдь не разочарованным. Завод хотя и был в окрестности Москвы, но сообщение с Москвой было и теперь уже налажено вполне сносно. Могла найти себе канцелярскую работу при заводе и мать Юры, а самого Юру можно было устроить учиться в заводской школе. Единственно, что было досадно, – это оставалось ждать еще два, а может быть, и три месяца.
– Да-а, но вот мо-ре! – мечтательно, хотя и басом, говорила бабушка. – Что нам заменит там море?
– Ну, море – это пустяки, конечно! – отзывался Валерьян Николаич. – К тому обстоятельству, что море торчать у нас вечно перед глазами не будет, мы отлично привыкнем через две недели!
– А как же мои «Записки о Крыме»? – спросил Юра. – Я ведь их начал писать… Хотя, разумеется, там я могу писать «Записки о Москве». Это будет даже еще интереснее, я думаю.
– Ну вот, сам видишь, что интереснее! Конечно, интереснее!.. В Москве жизнь кипит, как в котле.
Вальерьян Николаич был коренаст, крепок, большеголов, имел лысый лоб, круглое лицо, носил очки в роговой оправе. По крупным красным губам часто проводил языком – такая была у него привычка. Стихов он никогда в жизни не писал и не понимал, откуда это взялось у Юры. Но Юра вышел в мать, а не в отца: темноволосый, но с голубыми глазами, с удлиненным и женственным лицом и для своих лет довольно все-таки рослый.
Голос у него был, как у девочки, и, когда, раздеваясь, чтобы загореть на солнце, он показывал отцу свои мускулы, пыхтя и надувая щеки, чтобы ярче ударили в глаза отца его пока еще не существующие бицепсы, отец шутя брал его подмышки, подымал над головою и делал вид, что хочет перебросить через каменную стену на соседний двор. Это очень смущало Юру. Это обнаруживало его слабость. Этого он не любил.
Он говорил в таких случаях, отворачиваясь:
– Я скоро вырасту, скоро!.. Пусть папа не думает, что… – и глаза его становились розовые от обиды.
Через неделю-другую опыт с бицепсами повторялся с таким же результатом.
При доме, в котором жил Юра, был небольшой сад со старыми каштанами и двумя тоже старыми мимозами. На крепком суку одной из мимоз устроили для Юры качели. Иногда, крадучись, приходил качаться вместе с Юрой тот самый Фомка, у которого достал бычков и зеленух Юра. Жил он недалеко от Юры по так называемой Сухой Балке – название явно ироническое, так как во время зимних дождей балка эта была почти непроходима от грязи. Фомка был одних лет с Юрой, но мать его ходила на поденку – большей частью стирать белье, – и Фомка пользовался полной свободой.
Дня через два после того, как Юра потерял свой дневник, а Оля Щербинина его нашла, в народном суде здешнем слушалось дело о краже Щербиниными – сыном и отцом (дедом Оли), а также двумя другими грузчиками, товарищами Щербинина, восьми досок со склада горхоза.
Интересы горхоза защищал Валерьян Николаич по обязанности юрисконсульта, а грузчики взяли себе в защитники старого адвоката Пожарова.
Грузчики были оправданы за недостаточностью улик, и на другой день у себя дома, в тесной и дружеской компании двух таких же стариков, как и он сам, плотников, Щербинин рассказывал, а Оля с надворья слышала обо всех обстоятельствах дела.
Дед уже усыхал, – годы брали свое, – шея его была тонкая и вся из жил, морщин, кадыков и мослаков, но деятельно ворочалась эта шея туда и сюда, и таращились из-под нависающих серых бровей и хитровато щурились молочного цвета глаза, и очень широко иногда раскрывался под лохматыми седыми усами начисто беззубый дедов рот.
– Началось, это, – вам известно, с чего началось: ялик я под мотор начал делать, – вот с чего началось! Пускай, ребята, когда работы на пристани нет, приезжих чтоб они катали, – вот! Кажнодневный доход и не то чтоб, а вполне по закону… Потому что грузчики – они кто такие? Называется – артель. А имеет артель полное право ялик иметь моторный? Ишь, имеет, – мы это все узнавали, – не без ума начинали. Раз ежели разговоров с начальством быть не может, вот я и начинаю свою работу… Э-эх, да я, может, при старости свого здоровья дён пять по лесу шарил! А зачем же я шарил? А черноклен подходящий я искал, потому как крепче этого дерева, черноклена, в здешних местах нету… Дуб что-о! Дуб спроти его ни шиша не стоит! А на ялик, что на корму, что на нос – тут дерево крепкое надоть!.. Так его же мало было найтить, черноклен подходявый, его же, дерево это, спилить надо было – pa-аз, а также сюда из лесу доставить – выбрать такое время… Это при моих-то годах, как мне уж семьдесят шестой!.. Э-эх, и помучился я с ним!.. Тащил я его ночью, а по каким я его дорогам тащил, такое тяжельство? Сколько потов я с себя спустил, когда на кажном шагу если тебе не пень, то камень сторчит, а то куст тебе в глаза лезет… Тут тебе справа – овраг, а слева балка, – во-от как я его тащил!.. Э-эх, народ завидущий! То народу было завидно, что вот у Щербининых ялик будет, а у них нет!.. Вот почему сторожу втолковали про доски эти, будто у них со складу украли мы!.. На складе там этих досок сколько! Сот несколько их там… Каким же манером, скажи, мог сторож дознаться за эти восемь штук? Что он их кажень день считает, что ли?.. Он же вышел себе, как стемнело, походил-побродил до двенадцати, пока народ еще шлындает, потом сел где в уголочку, покунял часок, а потом он себе домой спать с женою рядом – вот и все его ремесло!.. А с улицы, например, как балаган этот, где у них доски лежат, он, известно, на улицу глухой стеной смотрит, и сам же он легкой работы, деревянный, – с улицы, скажи, нельзя разве к нему подобраться? Можно даже с целой подводой хорошей подъехать, – доску в стенке глухой приподнять и – и бери себе, дядя, накладывай-грузи на подводу! Весь ихний склад за ночь можно перевезть!.. Клади да ходу давай! Подумаешь, хитрость-мудрость какая!.. Теперь доски кажному требуются, не только что нам для ялика… Это я, конечно, к примеру так говорю. А что касается ялика нашего, то у нас шешнадцать досток было куплено у Кривенки Романа, и сам Роман на суде этому свидетель был. «У вас, гражданин Кривенко, купляли они доски?» – «У нас, говорит, точно, шешнадцать штук». А в очках этот, Белов горхозный, он от себя мне вопрос: «Сколько досток идет на ялик вашего, например, размеру?» Я ему отвечаю, а сам, конечно, вижу, куда он загибает: «Так и так, на наш ялик двадцать четыре пошло, и уж меньше их не идет на ялик, как двадцать четыре», – «Мне, говорит, больше ничего не надоть: шешнадцать если из двадцати четырех отнять, это и будет восемь… Вот эти самые восемь и есть наши, горхозные. Стало быть, для меня вся суть до точки ясна: они украли!» А я говорю ему: «Во-семь? Ты восемь досток считаешь нами краденые, гражданин Белов? А ты спросил меня, кто я такой? Я же есть хозяин и я природный плотник! Может у меня быть в своем сараю спрятано своих восемь досток или этого быть не может? Мы же до своих восьми досток у Романа шешнадцать достали и рады случаю такому были, а ты, гражданин Белов, бессовестно говоришь на нас, будто украли!» А он свое: «Нет, для меня ясно, – ночью вы до романовых шешнадцати наших восемь добавили, – вот и весь разговор!» Ну, тут уж наш Пожаров поднялся, а он же мужчина из себя очень видный, росту большого, голос у него громкий, – и начал он этого Белова крыть! Во-от башка у человека! «Какие такие, – спрашивает, – ваши есть доказательства насчет кражи? Что милиция в дом к Щербинину-гражданину пришла посля уж того, как ялик моторный на море был спущен, окрашен как следует, и имя свое имел „Грузчик“, как есть он артельное законное хозяйство честных трудящих граждан, а не каких лодырей-кулаков, которые кровью людской питаются…» – и поше-ол! Вот говорил-то! Э-эх! Такую бы башку нашему брату! «Одни, говорит, у вас доказательства, что трудящий элемент из досток вещь полезную сделали, которая название свое имеет – транспорт, а те краденые доски, может, они теперь в какую деревню за сто верст у ехали, не могло нешто этого быть? Также и насчет цифры восемь. Почему бы это грузчикам, если уж на то пошло, чтобы непременно украсть, – почему бы им девять штук не уволочь, а?.. Они же, известно, грузчики, одним словом не какие-нибудь, а народ все здоровый, – им лишняя доска что? Пустяк дело ее захватить! А в ра-бо-те, товарищи судьи, доска лишняя не пустяк, нет! Вдруг одна вышла с сучком посередине? Хряснула, поломалась к чертям, – и что же, скажите, плотник ее тестом или же алебастырем клеить должен да таким манером в море на ялике ехать? В этих восьми штуках вся, говорит, и есть загвоздка. Сколько досток на ялик идет? – Самое меньшее шестивершковых двадцать четыре. – А сколько куплено? – Шешнадцать. – Значит, ясно, восемь уворовано. Почему это вам так ясно, гражданин Белов, а мне, напротив того, туманная выходит картина? Где у нас склад горхозный? Тут вот на площади, спроти базара, где и суд народный. А где ялик строился? На Сухой Балке. Каким же это, говорит, образом люди через весь город доски тащили и с ними никому на глаза не попались?» Вот так туману на глаза напустили – дымовой завес! Тут Белов свое: вполне можно, дескать, городом не ходить, а итить с досками только до моря, а там на Сухую Балку на лодке их доставить. А Пожаров свое: «Никаких я доказательств ваших не вижу, а вижу одну клевету на людей рабочих, которые, известно, есть у нас самый высший класс, выше которого быть не может!» Ну, тут уж Белов видит, что его не берет: «Доски, говорит, наши заметные – на них клейма везде и прочее… Прошу осмотреть ялик на месте». Ну, тут уж я не вытерпел, встал: «Обдумайте, что вы сказали! Как это доски вы свои заметите, когда все доски обчищены, сфугованы и краской двойной покрыты?» Ну, конечно, на суде смех… Вышел потом суд в другую комнату, десяти минут не сидели, – выходят, а народ весь подымается навстречь; читает судья: «По суду всех четырех считать оправданы!..» Вот как дело это было! Так считать приходится, – за людскую зависть заплатили. А сын, Николка мой, тот даже Белова увспросил: «А насчет мотора как вы считаете? Тоже мы его где-нибудь сперли?» – «Прошу, говорит, не имеющих касательства не задавать!..» Как же не имеет касательства, когда его, мотор этот, где теперь можно достать? Ну, о моторе им, конечно, вполне известно было, что мы его старый купили, – считался негодный брак и с торгов пошел. Тоже он нам монету стоил – за починку отдали, а как же? Зато же из него вещь получилась, а то бы должен он в железный лом итить.
Рассказывая это, дед сиял, как начищенный, а Оля слушала его и думала: где же были спрятаны в сарае доски так, что она их не замечала? Было неприятно ей, что к ним приходила милиция с обыском, и знала она, что отец и дед собирались идти на суд из-за ялика. Она и сама стала бы говорить дома об этих досках по-пионерски, если бы не верила отцу и семидесятишестилетнему деду. Но теперь она слышала, что отец Юры, Белов, всячески хотел доказать на суде, что они – воры… Это удивило ее, этого она никак не ожидала от отца Юры – это она крепко запомнила.
Вечером в тот же день она шла с красным знаменем впереди здешнего пионеротряда. Они так торжественно встречали другой пионеротряд, приехавший на большом пароходе с Кавказа. То есть она шла не совсем впереди. Впереди всех шел пионервожатый в костюме физкультурника, школьник лет пятнадцати – Казанлы, потом барабанщик, а уж за ними она со знаменем, и по бокам ее две подруги, потом уже вытягивался пионеротряд, в конце которого за совсем маленькими, чтобы они не потерялись в толпе на пристани, следил ученик из школы Белошапка.
И Юра видел, как шел этот отряд, но главное, что в нем его поразило, – это Оля Щербинина, какая она была важная со знаменем, как настоящая героиня, а две с ружьями по сторонам – как ее оруженоски.
Он проводил отряд до пристани, но там, в сутолоке, за спинами взрослых, не мог разглядеть как следует церемонию встречи двух отрядов – крымского и кавказского, а вмешаться самому в отряд как же было возможно? Конечно, сказали бы: «Ты откуда взялся? Разве ты пионер? Иди-ка ты прочь!»
Было очень досадно и то, что его вообще затолкали, оттерли: давка на пристани была страшная, – пришлось уйти, так и не досмотрев до конца, как Оля возвращалась обратно. Его беспокоило даже, не тяжелое ли было для нее знамя, не слишком ли она устала.
Придя домой, он прежде всего хотел записать в дневник, в который так давно уже ничего не записывал, опять своим шифром об Оле, как она была хороша с красным знаменем в руках, хоть картину с нее рисуй, – точно предводительница войска, ведущая в бой. Но сколько ни искал дневника, найти его не мог.
Потом он вспомнил, что как-то на днях брал его с собою, чтобы записать окончание одного стихотворения, если придет что-нибудь в голову. И вот, конечно, где-то он его потерял. Матери он не сказал об этом, – он сказал ей другое:
– Мама, почему это я не пионер, не понимаю!.. Это так замечательно – идти под барабан по улицам!
– Тебе разве хочется быть пионером? – удивилась даже несколько мать, потому что раньше он никогда не выражал такого желания.
– Ко-неч-но же! Это очень красиво, как они шли сегодня!.. Я тоже мог бы быть барабанщиком и идти впереди всех!
Он хотел было добавить, что за ним тогда шла бы Оля Щербинина, но вовремя удержался, а мать ответила:
– Что же, вот папа придет вечером, скажи ему, если тебе так хочется… А лучше всего это начнешь ты на новом месте, в Москве.
– Нет, я хочу здесь, мама! Я хочу именно здесь начать! – с большой горячностью подхватил Юра и даже ногой притопнул.
На другой день уже не то чтобы случайно встретил Олю Щербинину Юра, – нет, он сознательно ждал ее, когда она шла из школы. Он хотел спросить ее, как будто от нее одной только и зависело это, не примет ли она его в отряд пионеров? И когда показались простенькое, с перехватом, белое с красными кружочками платье Оли и такая необыкновенная, такая единственная в мире голова в шапке густых золотящихся волос, Юра жадно следил за каждым шагом девочки, за каждым поворотом ее лица.
Вот она уже близко, и больше нельзя уже, так кажется Юре, стоять и только глядеть на нее, – надо что-нибудь делать, но оторвать от нее глаз он совершенно не в состоянии, и даже руки никак не хотят подняться, чтобы сорвать хотя бы, например, лист с той дикой груши, под которой он стоит.
Она подходит походкою тех, которые знают, что ими любуются. И она смотрит на него пристально, но как-то нельзя сказать, чтобы дружелюбно. И вместо того чтобы сразу спросить о том, что он придумал спросить, он только привычным уже движением руки снимает свой картузик, она не говорит ему: «Здравствуй, Юрочка!» – как он ожидает, нет, – она оглядывает его презрительно с головы до ног и как-то шипит непонятно:
– Ишь ты-ы, второй Пуш-шкин!
И проходит.
Он ошеломлен, он ничего не понимает. Он только глядит ей вслед, стоя с открытым ртом, и вдруг она задерживает немного шаг, оборачивается и несколько театрально, нараспев и в нос почему-то говорит:
– Мы… плыли… по… по… по грязи! – И это «по… по» так уничтожающе у нее выходит.
Тут Юра вспоминает, что это он писал когда-то в потерянном дневнике, описывая путешествие в гости к Морозовым.
Она уходит своей непостижимо легкой, красивой походкой, а он вспоминает и то, что «вторым Пушкиным» он сам себя назвал, – правда, в будущем времени, – все в том же потерянном дневнике. И для него становится ясно, что дневник этот найден не кем-нибудь, а именно ею, Олей, и вот именно потому, что она прочитала его дневник, она его и презирает и над ним смеется.
Он все еще стоит на месте, хотя Оля уже скрывается в переулке. Он усиленно припоминает, что такое было в его дневнике еще, за что вдруг Оле вздумалось отнестись к нему с таким явным презрением.
Если бы это можно было сказать матери, он зарыдал бы и опрометью кинулся бы к ней, но он стоит только ошеломленный, уничтоженный и вспоминает. И вдруг вспомнился ему изобретенный им шифр. Теперь он кажется ему придуманным так непростительно глупо, что всякий разберет его, конечно, с первого взгляда. Она расшифровала его заветную запись, и, разумеется, первая же строка в ней: «Я влюблен в Олю» – должна была ее оскорбить. «Влюблен», – точно он взрослый! Вот за это она его так и осмеяла!.. И Юра с большим усилием сходит, наконец, с места, точно на этом месте он был буквально раздавлен словами Оли.
Он направляется сначала домой, но у самой калитки останавливается в нерешительности. Минуты две крутит он щеколду и тихо звякает ею, потом медленно, глядя в землю, идет обратно.
Он проходит мимо колодца, из которого берут воду все, кто живет поблизости, мимо того же бывшего татарского кладбища, теперь зеленой поляны, на которой две гречанки пасут коров и вяжут чулки. Мимоходом он думает о гречанках, что это вообще существа очень странные: они пасут коров и вяжут чулки, стоят в очередях у лавок и вяжут чулки, несут, пригибаясь до самой земли, тяжеленные вязанки сухого хвороста из леса, километра за три, и все-таки вяжут чулки, цепляя за землю спицами! Должно быть, они вяжут чулки и во сне.
Он думает, что о них можно написать стихи, но к слову «гречанки» попадаются ему все какие-то неподходящие рифмы: обезьянки, самозванки, стеклянки, санки… И снова он думает о дневнике: зачем он взял его тогда? Как будто не мог он запомнить каких-нибудь четырех строчек, если бы они придумались тогда, и записать их после? И вот теперь Оля его презирает!.. Это действует на него так, как будто придавливает к земле, как гречанок их вязанки хвороста. Он даже не пытается идти быстрее, чем идет. Ноги его будто чужие и привязаны кем-то кое-как, наспех, очень недобросовестно: они волочатся, они цепляются как-то сами одна за другую.
От поляны можно идти через мост в город, но ему теперь ни за что не хотелось бы встречаться с кем-нибудь из знакомых людей: он самому себе кажется таким глупым, что даже для каждого встречного это будет очевидно. Глупость его выступает и теперь, должно быть, на его лице, как смола на кипарисах или клей на миндальных деревьях, – так ему кажется, и потому никому не хочет он глядеть в глаза. Он глядит только в землю и изредка вправо или влево, чтобы случайно не встретиться с кем не надо.
И сворачивает он с дороги направо к морю.
На пляже, около самой воды, можно долго сидеть, набирать пригоршнями воду из белой кромки совсем небольшого прибоя и поливать камешки пляжа. Тогда они, бледные и какие-то немые, вдруг принимают совсем неожиданные цвета, оживают, загораются очень затейливыми огоньками, подмигивают и всячески лукавят. Это была всегда очень затейливая игра.
И Юра сидит на пляже долго и вглядывается в оживающие камешки пристально, но думает он все о той же девочке Оле, которая шла такой радостной походкой в перехваченном платье – белом с кружочками – и вдруг так оскорбительно на него зашипела: «Иш-шь, Пуш-шкин», – как змея, поднявшаяся из травы. Был однажды такой случай с Юрой – зашипела на него какая-то змея в кустах, и он тогда бежал от нее позорно, чтобы не ужалила внезапно и смертельно за голую ногу, как вещего Олега.
На пляже было довольно людно, хотя не все еще дома отдыха работали. Но мало кто рисковал купаться, – вода еще была холодна. Сидели, лежали, загорали на пляже, бродили большей частью парочками.
Одну такую парочку, очень звонко хохотавшую, невольно отметил Юра. Может быть, эти двое кого-нибудь ждали здесь на пляже, именно в этом месте, потому что ушли было и снова вернулись. Она была загорелая уже, как гречанка, черноволосая, с облупленным носом, а у него светлые волосы, коротко стриженные, курчавились, как каракуль, и лицо было красненькое, с мелкими крысьими чертами. Оба были в купальных костюмах: он в черном, она в полосатом; у него ноги тонкие, как у полевого кузнечика, у нее – как ступы; он хохотал ей в лицо, а она, хохоча, подымала и запрокидывала голову и так широко разевала рот, что Юре было очень противно смотреть. И когда они близко от него так хохотали, Юра вдруг очень ярко представил Олю, вчерашнюю, знаменщицу пионеротряда, в окружении карабинерок. Какое у нее было значительное, сияющее лицо! Она вся смеялась, совсем не смеясь, от нее шли лучи, – это все должны были видеть.
И оттого, что теперь уже все кончено было с Олей и он не будет уж никогда идти с нею рядом, что ему нельзя уж будет больше даже просто поздороваться с нею, потому что он ею навсегда осмеян, глаза Юры вдруг заволакиваются слезами. Он еще смотрел на этих двух хохотунов, к нему подходивших, а слезы как-то сами собою текли и текли по его щекам и падали на гравий пляжа.
Но вот эти двое подошли к нему совсем вплотную, и толстоногая, похожая на гречанку с чулками, спросила:
– Мальчик, ты о чем это плачешь?
– Я? – удивился Юра. – Разве я плачу?
Он провел рукою по глазам, посмотрел на мокрую руку, пожал плечом, проворно поднялся, отряхнул колени и пошел от моря в горку снова на дорогу, а сзади его – он слышал – той же толстоногой противный голос:
– Какой, однако, странный мальчик!
– Может быть, у него мамаша умерла? – предположил мужчина, голова в природном каракуле, и предположил это так насмешливо, что Юра в недоумении обернулся. Он подумал, что они сейчас снова захохочут, но они только глядели ему вслед, и он сказал вслух, хотя и негромко:
– Какое им до меня дело?
Кроме того, когда его называли мальчиком, просто противным казалось ему и самое слово это, как и другие слова с окончанием на «чик»: пальчик, кончик, пончик, воробейчик. И он насухо вытер рукавом глаза и щеки.
Время было уж идти к бабушке заниматься французским языком, но Юра никак не мог себе представить, как это вдруг вот теперь он будет сидеть у себя там, в саду, где в кресле-качалке полулежит бабушка, и переводить «Малыша» Доде. Кроме того, бабушка может еще заметить, что он плакал, и начать свои расспросы.
Когда же он вышел на ту тропинку, по которой сегодня, как и раньше, шла из школы Оля, он понял вдруг, что ему надо бы сейчас сделать: нужно пойти к Оле и потребовать свой дневник обратно. И даже удивился Юра, как это он не догадался об этом раньше. Ведь всякий, кто нашел чужую вещь, обыкновенно ее возвращает, если известно ему, чья она, а если неизвестно это, он ищет хозяина вещи. Конечно, и мама должна была бы вернуть золотую цепочку с крестиком, если бы знала, чья она. Но ведь совершенно неизвестно, кто мог потерять эту цепочку и когда именно. Очевидно, это было еще до революции, когда было почему-то в обычае носить подобные крестики на цепочках, на шее, чего теперь уж никто не делает.
И вот Юра решительно идет по Сухой Балке к тому самому домику старого плотника Щербинина, где сейчас должна быть Оля.
Он и раньше не один раз заглядывал во двор этого домика, рассматривал с большим любопытством утлое маленькое крылечко и два окошка, и так узенькие и низенькие, однако еще и сплошь заставленные какими-то фуксиями и кактусами. Теперь, подходя, он думал увидеть Олю на дворе – небольшом, косогористом, сплошь заросшем травой, но увидел на нем только поросенка, который, одетый в смешную шлейку и привязанный за эту шлейку к колу, усердно щипал траву. Юра знал, что собаки во дворе не было, и храбро вошел во двор.
Оля, очевидно, увидела его сквозь все фуксии и кактусы. Она появилась на утлом крылечке вдруг, как сияние, и спросила резко и сердито:
– Ты зачем? Тебе чего тут надо?
– Вы… нашли мой дневник, – запинаясь, проговорил Юра. – Я потерял… а вы, кажется, нашли… Желтенькая книжечка…
– Ну, а если нашла, так что? – подбросила голову Оля, и хоть бы тень улыбки.
– Вы… должны мне его вернуть… Ведь это моя вещь, и вы…
– Вер-нуть? Вот еще новости какие, всякую ерунду я буду возвращать! Я им давно уж печку подтопила – дневником твоим!
И тут же ушла с крылечка и где-то там внутри домика хлопнула дверью, а поросенок в шлейке хрюкнул и уставился на Юру неодобрительно.
Фомка, с которым провел остаток этого дня Юра, появился как-то совершенно незаметно, когда Юра сделал всего несколько шагов от щербининского двора.
Теперь, когда Оля сама сказала, что нашла дневник и сожгла его в печке, с нею было уже все кончено. Пожалуй, хорошо, что сожгла всю эту «ерунду», и он уже больше никогда, конечно, никаких этих глупых дневников вести не будет. А если сожгла не весь, если одну страничку, где написано шифром, все-таки оставила и будет всем ее показывать и объяснять, что там написано?
Вот именно среди такого переполоха мыслей Фомка, этот мальчуган с поднятыми плечами и как будто понурой, но на самом деле очень продувной белобрысой, коротко стриженной головой, с бегающими проворно по сторонам, а если смотреть на них спереди, как будто совсем сонными глазами, необыкновенно кстати сказал свое короткое призывное:
– Пойдем?
– Пойдем! – с большой готовностью ответил Юра.
Теперь ему было решительно все равно, куда идти, только бы не домой, где стихи, дневник и бабушка с ее французским, все это потеряло свое значение, все это было теперь «ерунда».
Фомка, бывший целый день на полной свободе, всецело принадлежал пристани, набережной, всяким закоулкам этого небольшого города и его таинственным окраинам и морю, в которое смотрелся город, расположившийся по предгорьям. Однако сам Фомка считал, что и пристань, и набережная, и все таинственности кругом принадлежали ему: до того он тут ко всему приспособился и прекрасно во всем разбирался.
Если бычки и зеленухи возле пристани не имели желания ловиться, если рыбаки не выезжали за рыбой и около них нельзя было обрыбиться, если не случалось поднести какой-нибудь легкой кошелки или саквояжика приезжим и указать им, конечно, в какую сторону им направляться – туда или сюда, куда им там нужно, или надоедало стоять за кого-нибудь в очередях, то можно было до полной одури купаться и обрывать ракушки со свай пристани, можно было искать сердолик на пляже и потом продавать его приезжим, наконец можно было собирать старое железо и продавать его в кузню или разыскивать брошенные консервные банки. Консервных банок, правда, никто не покупал, с этой стороны они были совершенно бесполезны, но Фомка усиленно думал, нельзя ли их так как-нибудь приспособить одну к другой, чтобы получилась какая-нибудь машина. Из плоских круглых банок, обратив их в колеса, он сделал себе три повозки (он их называл линейками), банки же других форм совсем как-то не поддавались обработке. Зато можно было приманить ту или иную собачку куском хлеба и привязать ей подобную коробку на хвост. С кошками такой опыт не удавался: кошки сразу соображали, что за каверзу хотят над ними проделать, жутко мяукали, смотрели дикими глазами, отчаянно царапались и, конечно, вырывались из рук.
Мать о Фомке заботилась очень мало, зная, что, вертясь все время на людях, он будет сыт. В обуви он не нуждался, одной рубашки ему хватало месяца на два; он сам ее стирал в море, а сушил на себе. Когда он бывал совершенно свободен от всяких добычливых и изобретательских дел, он бедокурил. Теперь именно и выдалась у него такая полоса: он был игриво настроен.
Проходя с Юрой мимо колодца на полянке, Фомка заметил ведро на каменном устье, чье-то ведро, оставленное не то заигравшимися где-то ребятишками, не то забежавшей к соседке и там заговорившейся бабой; никого поблизости не было видно. Какой-то не заметный даже для Юры, потому что никак не предвиденный выпад руки Фомки, и вот ведро гулко полетело в колодец.
– За-чем ты это? – остановился было изумленный Юра.
– Идем-идем! – потянул его за рукав Фомка. – Ты не гляди, а иди!
– Оно же теперь пропало, это ведро!
– Чего пропало? Вытащут, там не оставят… Идем!
Впрочем, сам он не очень-то и спешил уходить от содеянного.
– А вдруг это ведро Щер-би-ни-ных? – протянул Юра.
– А хотя бы ж ихнее, так что? – осведомился Фомка.
Конечно, что же теперь были Юре Щербинины, если с Олей уже все, все, решительно все кончено? Он даже поверил почему-то в то именно, что это не чье-нибудь, а их ведро, и сказал повеселев:
– Ну что же, и пусть вытаскивают!
Фомка повел его по шоссе, которое здесь было наасфальтировано до гладкости паркета и еще не успело выщербиться под тяжелыми дилижансами и грузовиками, и мимо нескольких окраинных домов вывел его на пустырь, где тоже стоял недавно, – Юра знал это, – дом, но почему-то теперь он был сломан и разобран, и все уже было куда-то увезено: рамы окон и галереи, железо крыши, балки и доски потолков и полов… Остался только пиленый ракушечный белый керченский камень стен, сложенный кучами как раз над самой балкой, обрывистой и довольно глубокой.
Фомка привел сюда Юру на всякий случай, не попадутся ли здесь железные скобы или вообще какой-нибудь железный хлам, но все тут было подобрано чисто, а камень чрезвычайно соблазнительно улегся над балкой. И вот он кивнул Юре понурой своей головой и сказал командно:
– А ну, берись за этот оттеда, а я отседа! Берись! – и нагнулся над одним камнем.
– Ну? – спросил Юра, покорно взявшись за камень.
– Теперь поверни его… Поворачивай до балки! Вот так!.. Еще трошки!
Повернули. Камень стал на самой бровке обрыва.
– Толкай ногой! – с подъемом скомандовал Фомка, поставив свою замысловато исчерченную голую ногу на камень.
Поставил на камень и Юра свою, в кожаной сандалии.
– А ну, разом! Майна!
Толкнули, и камень шумно запрыгал и улегся на дне балки.
– Зачем? – спросил Юра.
– Чего зачем?.. А ну, давай еще!.. Думаешь, не достанут? До-ста-нут, брат, если захочут… Бери вот этот теперь!
Так они столкнули в балку камней двадцать, пока не вспотели, не исцарапали себе руки до крови, вообще не устали.
– Хватит! – сказал тогда Фомка. – Давай идем теперь кусты жечь! У меня есть спички…
Жечь кусты – это оказалось делом куда более легким и веселым: огонь вообще хотя и озорная, но веселая штука.
Для этой новой игры они не так далеко и отошли от сломанного дома: кусты дубняка и граба начинались здесь же и шли по причудливо изгибистым предгорьям до самых гор, где уже разлеглись настоящие, матерые леса и белели в них лесные сторожки.
Юра узнал в этот день, чего не знал раньше, что кусты, такие зеленые и сочные на вид, могут отлично гореть, стоит только собрать несколько кучек сухих листьев и веток и поджечь их одну за другой при небольшом ветерке.
Фомка истратил все свои четыре спички, но недаром: огонь шипел, трещал, взвивался до верхушек кустов – работал добросовестно. Даже Юра был восхищен этим. Ему только жаль стало такой густой и яркой зелени, и он сказал об этом Фомке.
– Поджигай там вон, иди, – толкнул его деловито Фомка. – Ишь ты, он об чем тоскует. На тот год еще лучшей вырастут!
Кусты пылали. Стелился удушливый дым. Пылали кусты на склоне, в виду города. Из города многим казалось, что тут пожар, что горят какие-нибудь постройки, но какие именно – не видно за сильным дымом.
От ближайших домов кто-то показывал сюда руками и как будто кричал кому-то назад, – должно быть, вызывал охотников сбегать сюда посмотреть. Юра вспомнил – читал он у Майн-Рида или Густава Эмара – пожар в прериях. Возбужденный, говорил он Фомке, подпрыгивая:
– Сейчас мустанги побегут табунами. Бизоны.
– А что пожарная команда прискачет, это да! – восторженно сообщил Фомка свою догадку.
– Ну-у? По-жар-ные?
Юра начал понимать, что, пожалуй, это уж перестало быть невинной забавой: кусты горели на большом пространстве. И кто-то, трое, остановились на видном отсюда повороте шоссе и двинулись вдруг в их сторону.
– Теперь бежать надо, – хладнокровно сказал Фомка. – В эту сторону бежим… Ты пригинайся вот так…
И он первый шмыгнул между кустов в направлении к лесу, за ним изо всех сил бросился бежать Юра.
Ему уже казалось положение их безнадежным. Куда же они могут убежать, если за ними погонятся верховые, например? Тогда их, конечно, настигнут. И, забыв обо всем недавнем, он опередил Фомку, он перескакивал через камни, рытвины, по сухой, точно чугунной земле, по желтым глинистым обрывам, он бежал, часто зажмуривая глаза от хлеставших веток.
Он боялся оглянуться назад, думая, что Фомка отстал, что его уже схватили, и теперь ему надо самому найти удобную и самую близкую тропинку, какая бы вывела его к дому. Но Фомка и не думал отставать, – он только круто взял в сторону и как-то непонятно очутился впереди Юры, указывая ему рукой, куда бежать дальше.
Минут десять они так бежали.
– Пу-скай теперь тушат!.. А то пожарные лодыря гоняют! – сказал Фомка и вдруг совсем не в тон, вдохновенно добавил: – Хочешь, я тебе одну штуку покажу?
Юра был уже так напуган тем, что его могли бы захватить пожарные и отцу его вышла бы из-за него неприятность, что только махнул рукой:
– Не надо больше. Ничего больше не буду. Домой хочу.
– Ты думаешь, дом твой уйдет? – прищурился Фомка. – Не уйдет, брат!.. А штуку эту ты у меня, может, купишь…
– Какую штуку? – насупился Юра.
– Такую… Финку! – весьма таинственно сказал Фомка. – Это такая большая финка, прямо чистый кинжал!
– Кин-жа-ал? – просиял вдруг Юра. – Где он?
– У меня здесь он… Спрятан… Пойдем.
И Фомка проворно пошел к городу, только не на тот конец, откуда они вышли, а гораздо дальше.
Около одного заброшенного, оставленного хозяевами домишка, дожидавшегося, когда его тоже сломают, он остановился, подмигнул, сказал: «Подожди здесь», – зашел за угол и не больше как через две минуты вышел с ярко блеснувшим в глаз Юры большим ножом.
– Вот смотри! – возбужденно, как опытный торговец подобными вещами, говорил Фомка. – Видишь, ручка какая? Это же называется рог олений!.. И колечко вот медное, – на пояс чтобы вешать. Этим же барашков режут, а также свиней им можно колоть, – видал, какой длинный!.. И это ж не какая-нибудь паршивая финка железная, – тут, брат, железа ни капли нет: самесенькая сталь! Смотри хорошо!
Юра смотрел, затаив дыхание.
– Возьми в руку! – скомандовал Фомка. – Видишь?
– Вижу! – прошептал Юра, крепко зажимая в руке этот бесподобный кинжал.
– Этим ты кого угодно убьешь! Покупай!.. Думаешь, дорого спрошу?
– А сколько? – тихо спросил Юра.
– Пятерку дашь?
– Пятер-ку?
– Ну, не хочешь, – давай назад!.. А ты уж думал, что? Десять копеек? Давай!
– Постой! – отвел его руку Юра. – Мне мама должна за цепочку… Она мне должна, понимаешь?.. Она обещалась мне подарить что-нибудь, – и ничего, ничего не подарила!.. Я ее попрошу, маму, она мне даст пятерку! – умоляюще, прерывисто говорил Юра, больше всего теперь боясь одного, как бы Фомка не взял назад кинжала.
А Фомка говорил, как будто жалея, что мало назначил:
– Думаешь, эта финка пятерку стоит? Она, брат, много больше стоит! Даже ее теперь где купить, такую? Теперь таких финок не делают.
– Я куплю! – сказал Юра и обвел кинжалом около себя, не зная, куда же ему спрятать такое чудесное, такое настоящее, первое в его жизни оружие.
– Давай, заверну тебе в тряпку, – заметил его затруднение Фомка.
– Ножны нужно… Ну, ничего, это я сам сделаю… Из картона, – придумал сразу Юра.
Фомка пошарил кругом глазами, нашел какую-то тряпку и протянул Юре:
– Вот, заверни!.. А деньги чтобы сегодня были, смотри!
– Мне мама непременно должна дать, ты насчет денег не бойся! – уговаривал Юра Фомку, все опасаясь, как бы он не потребовал назад кинжала.
Когда они пошли дальше, к городу, Фомка удачно метнул камень в кем-то уже разбитое, но не совсем еще добитое стекло – единственное в трех оконных рамах этого домишка, и сообщил Юре:
– Это мы с Енькой-Качкой повыбивали!
Показав матери нож, Юра сказал умильно-просительно:
– Мама, посмотри, – это я купил!.. Это пять рублей стоит… Я сейчас должен отнести деньги, мама!
– С ума ты сошел! – удивилась и даже испугалась мать. – Что ты? Зачем тебе это?
Тогда Юра закричал с большой горячностью:
– Мама! Это – кинжал!.. Как у кавказских горцев, мама!.. Нет, я с ним ни за что не расстанусь!.. Как ты хочешь, а я… я не расстанусь!
Бабушка, стуча своей палкой, вошла на этот звонкий крик внука и стала величественно, спросив басом:
– Что тут такое происходит?
– Где-то шлялся полдня, весь пришел исцарапанный, рубашку порвал, дымом каким-то весь пропах, – жаловалась ей мать, – и вот еще радость: ножище какой-то купил!.. Что ты делаешь, Юра?
В глазах матери виднелось отчаяние.
– Мама! Ты мне подарила цепочку золотую, я тебе ее отдам назад!.. – торжественно заговорил Юра. – Если б я ее продал за пять рублей, – вот я и заплатил бы за кинжал! Ведь да, мама?.. Пойми, мама, ведь теперь всякого, кто на меня нападет, всякого, всякого…
Тут он со всей остротой боли припоминает обиду сегодняшнего дня, обиду, первую в его жизни, обиду горчайшую, нанесенную любимой, и вот взгляд его загорается, голова подкинута, он выпрямляется весь и становится почему-то гораздо выше, почти до плеча матери, – гораздо старше своих лет, – почти взрослый, – он взмахивает над головой своим кинжалом и заканчивает:
– Всякого могу так! Вот так! Так!..
Раза три он пронизывает перед собою воздух ножом, и губы у него стиснуты, а голубые большие под черными бровями глаза сверкают, как у Галуба*.
Однако кавказский кинжал отобрали у Юры и отдали обратно дожидавшемуся у ворот Фомке. Вынесла его сама бабушка. Опираясь на палку, высокая, с решительным видом, она подошла к воротам, брезгливо держа двумя пальцами финку, увидела там белоголового Фомку и спросила строго:
– Это твое?
– Мое, – сказал Фомка, понимая уже, что дело проиграно.
– Возьми и уйди!
Она бросила финку наземь. Фомка молча поднял ее и пошел.
Потом Юру заставили переменить рубашку, потом он переводил «Малыша» Доде. Правда, он был очень рассеян при этом, он болтал ногой, смотрел исподлобья, часто говорил: «Не хочу!» – перевирал, может быть и намеренно, слова, но бабушка была терпелива: это ей казалось все-таки гораздо лучше, чем какой-то разбойничий нож. Она даже ни одного замечания ему не сделала и отпустила раньше, чем всегда.
Оставалось уже не больше часа до захода солнца, когда Юра с кое-как свернутым листочком бумаги и карандашиком в кармане пошел снова из дому.
– Ты куда? Ты опять к этому своему… к Фомке? Чтобы он тебя ножом пырнул? – испугалась мать.
– Нет!.. Нет, я не к Фомке… – И Юра почти с сожалением поглядел на мать, которая не могла понять, что он не может даже теперь и идти к Фомке: ведь он сказал же ему, что купит финку, а оказалось, что не позволили.
И, выйдя из ворот, он долго оглядывался по сторонам, чтобы не попасться на глаза Фомке. Но его не было поблизости.
Наступал изумительный час дня, который больше всего любил Юра. Солнце спускалось уже к тем горам, за которые привыкло садиться на ночь, море, перед тем как позолотеть, стало неистово синим, запахи кипарисов стали гуще, и вся осыпанная кистями цветов белая акация именно в этот час дня начинала дышать вовсю.
Юра шел было к морю, но запах акации вызвал из той кладовой его памяти, где хранились все запахи цветов, и трав, и листьев, острый всезаглушающий запах каприфолии. Он знал дикий, заброшенный, но очень сильный куст каприфолии на участке татарина Муртазы, где виноградник вырубили в двадцать втором году на топливо (а теперь шел двадцать пятый год), но густая чащоба боярышника и шиповника, колючая и совершенно непролазная, осталась, конечно, нетронутой, – вот там и росла каприфолия, с которой можно было наломать необыкновенно пахучих веток.
У моря к тому же можно было встретить Фомку, которому что же сказать? Как объяснить ему такое обидное, что не позволили мать и бабушка купить финку? Лучше с ним не встречаться даже и там, около моря. И Юра поднялся по тропинке вверх, где не было уже дач, а бывшие татарские сады стояли разгороженные со свежими пеньками вместо деревьев. Кое-где зеленел на них яркой зеленью лопушистый табак.
И в саду Муртазы была небольшая полянка под табаком, около которого Юра пробрался к самой каприфолии и сел под нею. Несколько раз он зажмуривался и втягивал носом и ртом этот густой, как молоко, запах. Юре казалось, что если зажмуриться при этом, то запах каприфолии, такой непередаваемый и ни с чем несравнимый, окружает так, будто в нем плывешь, и это такое счастье было бы, если бы не дневник с шифрованной записью, потерянный так непростительно и найденный Олей. Оля – пионерка, она идет впереди отряда и несет красное знамя, и, конечно, ей стало обидно, что в нее влюблен он, Юра Белов, который даже и не пионер, а так какой-то вообще октябренок.
Сад Муртазы наверху, – город отсюда виден далеко в стороны, так как раскидист он необыкновенно, и только в самой середине его сидят один на другом татарские домишки без крыш. Город раскинулся по долине речки. Эту речку, теперь желтую от недавно бывшего в горах дождя, отлично видно отсюда, правда всего в двух только изгибах. Над нею свесились рыжие, – так они кажутся, – ракиты. Речка отсюда кажется совсем узенькой ленточкой, как ручей; впрочем, она и так неширока и неглубока, купаться в ней нельзя, и никто не купается, кроме уток, но воду из нее отводят канавками на огороды и виноградники.
Очень выделяются среди белых домов огромные темные деревья. Это двухсотлетние орехи и шелковицы, которые Юра видел вблизи: они были в несколько его охватов. С шелковиц в августе – он знал это – будут падать вниз спелые и очень сладкие черные ягоды, хотя татарские ребятишки будут стремиться забираться на самые тонкие ветки, чтобы оборвать все. Орехи же станут обивать длинными палками еще позже, осенью, когда поспеет и винный виноград и его начнут возить в подвалы в широких перерезах.
С горы напротив нестерпимо для глаз сияло, как прожектор: это спускавшееся сзади солнце било там в какой-то многооконный высокий дом.
В море, отсюда сплошь темно-синем, ярко белел косой парус какого-то ялика. Юра знал, что у Щербининых был новый ялик, и от одной возможности когда-нибудь прокатиться по такому морю на этом ялике вместе с Олей, от одной только смелой мысли этой у него прежде туманились глаза. Теперь он видел, что в Олин ялик – он иначе его не называл – уже не сесть никогда.
Была такая досада на самого себя за свою оплошность с этим нелепым шифром в дневнике, что Юра начал бить себя кулаком по коленям, когда вдруг из густой чащи позади его, низом по земле докатился соловьиный рокот, так неожиданно, что Юра вздрогнул и оглянулся.
Юра слышал соловьев раньше, но быть вот так один на один с соловьем в запущенном уединенном саду, этого ему не приходилось. Это его как-то встряхнуло сразу. Он весь стал слух. А соловей, начавший раскатом, продолжал петь, истово соблюдая все правила своей сложной, но будто рассчитанной на наибольшее впечатление песни, и когда он чокал отрывисто и очень звонко, точно бил в литавры, Юра припадал как можно ближе к земле, боясь, что соловей его заметит и замолчит.
Так, лежа на земле боком, он вытащил из кармана захваченную бумагу и карандашик. Он и сам не знал сначала, зачем их вытащил, и только когда они появились перед глазами, он понял, что хотел записать две строчки, завертевшиеся в мозгу:
Над малютками-цветами
Льется песня соловья.
Две первые строчки к этим двум появились как-то сами собою, без всяких усилий, и первая строфа стихотворения о соловье приняла такой вид:
Пред вечерними лучами
У зеркального ручья
Над малютками-цветами
Льется песня соловья.
У Юры как-то небывало расширилась грудь от чувства восторга перед тем неповторяемым, единственным, что он слышал, уединенный и укрытый непроницаемым кустом каприфолии, и от гордости этими строчками, которые казались ему настоящими стихами, такими, которые можно напечатать в журнале.
Изумительно чистые трели там, в гущине кустов, сменились непостижимыми по силе для такой небольшой птички раскатами, и, замирая, волнуясь, спеша поймать нужные слова, Юра писал дальше на измятом клочке бумаги:
Льется трелью серебристой
И раскатами гремит
Над фиалкою душистой,
Над листочками ракит.
Правда, здесь не было зеркального ручья, давно уже отцвели фиалки, рыжие ракиты были видны только там, далеко над речкой, все это была поэтическая вольность, но Юре казалось, что было бы нехорошо, если бы он вместил в свои строки каприфолию, например, или ярко-зеленый лопушистый табак-дюбек. Ему хотелось высказаться в этих стихах и о себе самом, намекнуть хотя бы на то, как он измучен был в этот день насмешкою над ним Оли Щербининой и как теперь, вот именно здесь и теперь, когда слышит он соловьиную песню, в нем зарождается надежда на то, что Оля простит его и позволит говорить с собою… Может быть, возьмет когда-нибудь и на свой ялик… И Юра писал, почти без помарок:
Ей природа отвечает,
Ароматами дыша,
В буре звуков утопает
И уносится душа.
И надеждой новой, чудной
И забытьем полон я.
Меж листвою изумрудной
Льется песня соловья!
Из сада Муртазы Юра не шел, а бежал вприпрыжку, придерживая рукою карман с этим измятым, исписанным торопливыми каракулями листком серой линованной бумаги. Этот листок казался ему какою-то драгоценной находкой, величайшей его удачей, куда большей, чем подаренная ему удача – найти на берегу моря золотой крестик с цепочкой.
В комнату матери, которая что-то шила на машинке, он вошел торжественный, неулыбающийся, даже бледный немного от волнения и какой-то еще не испытанной им гордости и сказал неторопливо:
– А знаешь ли, что я тебе скажу, мама? Я теперь стал самый настоящий поэт! – И так же неторопливо вытащил он драгоценный листок с настоящими стихами о соловье.
Вечером за ужином отец сказал между прочим:
– До чего глупы бывают люди! Пожаров, – так мне передавали, – вздумал хвастать, что он меня «перешиб», как он выражается, и благодаря его защите, видите ли, оправдали Щербининых… До чего глуп! Дело же с самого начала было сочтено ничтожным… оправдание выяснилось с того же момента, как закончился допрос обвиняемых. Если я и говорил, то по обязанности юрисконсульта горсовета, а я же первый и предложил судье вынести оправдательный вердикт.
– Значит, Щербинины досок не крали – ни сын, ни старик? – спросила бабушка. – Почему же тогда их привлекали?
Отец ответил с некоторой заминкой:
– Не доказано с очевидностью! Обвинение с некоторой долей вероятности – этак процентов на сорок, на пятьдесят… Были, конечно, показания свидетелей, но в их быту это материал ненадежный. Он сейчас показал против, а завтра обвиняемые ему бутылку вина поставили, – он берет показание обратно. Такой и на суде этом свидетель оказался. Но суть была даже и не в том, а в то-ом, что-о (Юра особенно отметил, как отец растянул эти два слова) ялик моторный – это транспортное средство. Моторных яликов у рыбаков наших всего только три и было. Щербинины вздумали увеличить эту цифру еще одной единицей, – отлично… Ведь в конце-то концов они будут обслуживать своим яликом неотложные нужды города, – будут ли рыбалить, будут ли возить кладь или людей, – от этого польза городу.
– Ну, конечно, – сказала мать. – Тем более что восемь досок этих, сколько же они стоили, если взять по старым ценам?
– По старорежимным ценам? Я думаю, не больше восьми рублей, – и отец пожал плечами так и склонил голову на левый бок так, как делал это при виде чьей-нибудь явной глупости.
Юра понял, наконец, то, о чем говорили отец, мать и бабушка: судили за кражу досок не каких-то там вообще Щербининых, а отца и деда Оли. Он покраснел сразу, потому что понял еще и другое: вот за что обиделась на него Оля! Ясно для него стало вдруг, что дело было не в шифре его дневника, шифре, который будто бы она разгадала, а вот в этом: его, Юры, отец судил ее, Оли, отца и деда и обвинял их в воровстве. Выходило как-то так, что и Оля – воровка! Если отец ее вор и дед – вор, значит, и она тоже… Значит, это воровку он любил?
– Значит, это… значит, все-таки они воры? – спросил он отца, делая страшное усилие, чтобы не допустить на глаза слезы от последней, самой черной обиды.
– Они оправданы, – уклончиво ответил отец, даже не поглядев на него.
А для него это был совсем не ответ: мало ли что они оправданы! Ему хотелось точно узнать, украли они доски или нет.
– А все-таки они украли, украли? – спросил он настойчиво.
– Тебе-то какое дело, украли или нет? – усмехнулась мать, а Юра сидел, все порываясь вскочить и закричать во весь голос. Но он сдержался, он пробормотал еле внятно:
– Почему же мне нет дела?.. Мне есть дело… украли или не украли? Если они украли, то, значит, они воры!..
Даже пот выступил у него на висках.
Отец промолчал.
– Почему? – почти прошептал Юра.
– Почему, – этого ты сейчас не поймешь, а значит, тебе и объяснять нечего… Ты поужинал – и иди спать.
И отец погладил его по голове, а он поглядел было в глаза отца, но, представив рядом с ними сегодняшние глаза Оли, опустил свои.
Он долго не спал в эту ночь: ему все представлялись не оскорбляющие его, а оскорбленные им, хотя и не им лично, – его отцом, но это было будто бы все равно, – глаза Оли. Ему все представлялось, что отец и дед Оли осуждены за воровство, которое совсем и не воровство даже, и их увезли в другой город в дом заключения, а Оля осталась одна с матерью, и все бы говорили о ней: «А-а, это вот какая!..» А между тем она совсем не «вот какая!» «А между тем, как бы она тогда стала жить?» – он даже прошептал это, а ему казалось, что только подумал.
Во сне он метался, иногда вскрикивал глухо, чем обеспокоил бабушку, в комнате которой спал. Та подошла к нему, пощупала его голову, нашла ее очень горячей и заботливо укутала его одеялом.
На другой день Юра знал уже, что ему надо было сказать Оле; он придумал даже речь к ней, горячую, но связную.
Был день, был ослепляющий свет, было жарко даже в тени высокого старого тополя, под которым стоял он и ждал, когда пройдет мимо Оля.
Он ждал ее теперь не как автор потерянного дневника, который пусть даже и брошен ею в печку, – все равно он ему больше не нужен; он ждал ее как поэт, написавший вполне удачное стихотворение, о котором даже отец его сказал: «Для мальчугана десяти лет это вполне прилично!» Так сказал отец, который говорил всегда, что в стихах он ровно ничего не понимает, и зачем их люди пишут, ему решительно неизвестно. После этих слов отца и после вчерашнего разговора его о суде над Щербиниными он чувствовал себя как будто гораздо более взрослым – пожалуй, тех же самых лет, что и Оля.
Он стоял под тополем долго, прислонясь к его шершавой коре и ломая на мелкие части сухую длинную былинку овсюга, сорванную под ним. Та речь, которую он приготовил, снова бурлила в его мозгу, то вырастая, то сжимаясь и становясь сильнее и выразительней.
Он ждал терпеливо и дождался. Ослепляющий свет стал совершенно нестерпимым для глаз, потому что в нем сверкнула вдруг Оля. Именно так и показалось Юре в первый момент, и только потом различил он ее белое, какого-то очень простого покроя, короткое платье и вырвавшиеся из него вверх – упругие, волнистые раззолоченные волосы, в стороны – загорелые голые до плеч руки, вниз – тоже голые и загорелые ноги, будто и не касавшиеся земли, а летевшие над нею.
Юра смотрел на нее со сладкой болью, разом забыв всю приготовленную речь. Она должна была непременно пройти в город по этой именно дороге, где он стоял. Обойти его она не могла бы, если бы и захотела обойти; уйти от нее он ни за что не хотел, хотя и мог бы еще уйти.
И когда она была уже в трех шагах, наплывая на него, как белое облако с раззолоченными краями и с двумя голубыми прозорами в небо, отчего сердце у него неправильно и сильно забилось, он по-взрослому снял картузик левой рукой и сказал не громко, однако и не застенчиво:
– Здравствуйте, Оля!
Он держал свой картузик не надевая, и Оля, поглядев на него вбок, вдруг улыбнулась неудержимо, видимо совсем не желая улыбаться, изо всех сил втягивая губы. Однако губы ее улыбались помимо ее приказа им, и улыбались голубые глаза, и сами собой, тоже вполне своевольно, остановились летучие голые ноги.
Был один момент, когда Юре показалось, что не только свою речь, а все решительно слова он забыл – стал немой и расплачется сейчас от стыда, если не бросится бежать. Но этот момент прошел, и Юра никуда не бросился, а совсем по-взрослому протянул Оле руку и поглядел на нее при этом серьезным взглядом тринадцатилетнего.
Оля не то чтобы пожала протянутую ей руку, но все-таки она шаловливо взяла ее крепко в запястье своей левой рукой, подтянула к себе, потом отбросила, нахмурилась лукаво и проговорила с растяжкой:
– Мы плыли по… по… по… по грязи!
То же самое она сказала и вчера, однако теперь это было дружелюбие, а не вражда, глаза ее продолжали сверкающе улыбаться, и, улыбаясь ее глазам, отозвался Юра:
– Мне этот мой дневник больше не нужен!.. Там ничего и не было такого… Конечно, его можно было бы давным-давно уж бросить в печку!
– А я его не бросила в печку! А что? не бросила! – вдруг вздумала поддразнить Юру Оля.
– Ну-у… тогда я могу вам его подарить на память! – по-тринадцатилетнему сказал Юра.
– Ох, очень он мне нужен! Тоже дневник называется! Там и разобрать ничего нельзя! – покачала головой пренебрежительно Оля.
– Да-а, конечно! Это потому, что я ведь тогда не старался! – ничуть не обиделся Юра. – А вот зато вчера…
Тут он хотел было прочитать ей свое вчерашнее стихотворение, но вспомнил вдруг восемь досок, покраснел и замолчал.
Та речь, которую он придумал, именно и была об этих досках, и он хотел сказать Оле, что знает, как обвиняли ее отца и деда, и знает, за что она обиделась вчера, но это только недоразумение.
Юра покраснел густо от одной только мысли, что он придумал такую речь и готовился сказать ее Оле, которой это совсем не нужно!
– Что ты «зато вчера»? – полюбопытствовала Оля, видя, как он покраснел и смешался.
– Вчера…
Были мучительные моменты поисков нескольких нужных слов, и, наконец, нашел их Юра и сказал тринадцатилетним голосом:
– Вчера я хотел записаться в пионеры, только не знал, как это и у кого это можно записаться…
– То-оже пи-о-нер! – вся утонула вдруг в разлетевшемся кругом, как искры, но не обидном, а милом смехе Оля, и голову откинула назад, и показала весь свой круглый ласковый подбородок и нежную, тонкую кожу под ним, не поддававшуюся загару.
– А почему я не могу быть пионером? – встревожился Юра.
– А зачем же ты хотел записаться? Ведь ты не школьник, ты – дошкольник!
– Я хотел записаться, чтобы… когда ты понесешь знамя…
Тут Юра окончательно запнулся, но не докончил он потому, что Оля вдруг завертела его, обхватив голыми, золотистыми с чуть заметным пушком руками, отчего у Юры потемнело в глазах, и только через минуту прошептал он около ее губ:
– Дошкольник?.. А разве я не могу записаться в школу?.. Пойду и запишусь сам!
В город пошли они вместе, а не больше чем через час шившая на машинке около окна мать Юры почувствовала что-то красное перед глазами, хотя шила она из белого с крапинками ситца.
Она откинула голову и увидела тихо, на цыпочках входившего в комнату Юру с ярким пионерским галстуком на шее.
Мать даже потерла глаза сначала, ахнула потом. А Юра, светя и лучась радостью, заговорил поспешно, не давая ей ничего спросить:
– Мама! Ты знаешь, что значит вот этот короткий конец галстука? Это значит: пионер!.. А длинный конец – комсомолец!.. А узел значит связь их между собой и партией! А партия…
Он повернулся, указал на треугольник галстука пальцем и добавил:
– Вот это значит – партия… И, кроме того, я записался в первую ступень!..
1933 г.
Воспоминания*
Живописец вывесок и маляр Аполлон Хахалев, рыбак и грузчик Николай Курутин и письмоносец Ефим Панасюк сошлись на пристани в день отдыха в половине мая, когда море согревалось, потело и во всю видимую ширь отдыхало от зимних штормов.
Курутин, белесый, средних лет, низенький, смирного вида, присмотревшись к мреющей линии горизонта, сказал хриповато:
– Три миноносца идут… в кильватерной.
На это отозвался Панасюк, к глазам приставя ладонь:
– Что значит – матрос бывший! То он видит, чего духу-звания нет!
Но Аполлон, вытянув вперед голову и прищурясь, чуть не пропел торжественным тенором:
– Посто-ой! Три, говоришь? Вижу! Действительно, три! Учебное плавание совершают?
– А разумеется, учебное, как пока что ни с кем не воюем.
И Курутин все еще глядел в сторону миноносцев, а уж вертлявого, подбористого Аполлона занимал общий вопрос о действиях черноморского флота во время войны. Он спросил, важно оттопыривая губы:
– Да никак, черноморский флот этот – он и во время войны не очень много сражений имел?
Курутин подумал, слегка кашлянул:
– При Эбергарде, правду сказать, много по морю не ходили, а больше на рейде стояли, – это верно. А вот как адмирал Колчак его место заступил, тот довольно был беспокойный и так что гонку судам и людям задавал большую.
– Так что Колчака, значит, ты видал, а? Разглядел его, как следует быть?
– Ну вот! А как же иначе? Командующий эскадрой был, да чтобы я, матрос, его не разглядел? Я тогда на «Георгии Победоносце» служил. Отлично я его мог разглядеть. Сказать тебе могу, о-очень сурьезный был человек. Росту, правда, не то чтоб великого, ну, собою крепкий. Рыжеватый, носастый, с проседью. Вот уж кто отдыху никакого не знал. Днем ли, ночью ли, – всегда он на ногах, и когда он спал, никому неизвестно. И страсть он на руку был легкий: чуть что, счас, кому ни попало, р-раз в морду! Все равно ему решительно, кто: матрос ли простой, боцман ли, офицер ли, – раз в морду, и никаких. Это, конечно, все за счастье считали: ударил, злость сорвал и, может, потом забудет. А то раз, помню, мы к Трапезунду шли. Команда была контрминоносцам: «Давай полный ход». А один, – «Бойкий» назывался, – отзывается: «Больше тринадцати узлов не могу». Это значит, как старые броненосцы. Колчак командует тогда: «Контрминоносцы – налево, в кильватерную колонну стройся!» Значит, и «Бойкий» тоже должен поэтому вместе со всеми. Выходит, и он налево, сирота! Опять команда: «Развивай ход!» Это, конечно, по секрету, головному судну была команда. Развили до восемнадцати узлов. Хорошо! Глядит Колчак – и «Бойкий» не отстает: и у него, как у людей, восемнадцать. Опять он, Колчак, головному команду секретную, чтобы жарил, одним словом, сколько есть возможности. Так что до двадцати трех узлов довел головной контрминоносец. А «Бойкий» того не знает, конечно, а что касается ходу, то идет себе он так, как и все идут. У-ух, тут Колчак в ярость большую взошел. Кричит несудом: «Командира „Бойкого“ ко мне. Сейчас середь моря ко мне доставить!» Вот озверел! Орет, ногами топает. Ну, кое-как его уверили, что в море открытом уйти тому несчастному некуда, а пускай просто команду сдаст старшему лейтенанту. Забыл я, как фамилия была капитану тому, ну, только больше уж мы, матросы, его не видали. Говорили потом, какие сами при этой картине находились: как только капитана того доставили, Колчак в него четыре пули всадил, как за измену. Вот он чем матросов тогда взял, – строгостью! Кабы не такой он был зверь, ему бы матросы из Севастополя не дали уехать, а то он уехал, – только шашку свою наградную в море кинул, да всю Сибирь против Советской власти разбунтовал!
Аполлон сказал на это:
– Не он, так другой бы нашелся.
– Нет, не-ет, брат! – покрутил головой Курутин. – Чтобы Сибирь, – тогда это большую отчаянность надо было иметь. Э-эх, время это я помню, когда самый разрух начался. Кто тогда только животом вперед не лез? Однако мало кто из них удержался. Ну, какая такая особая должность артельщика, ну, одним словом, который баталеру помощник, продукты покупает? Так, – ничтожная. Однако деньги, конечно, всегда на руках. Показывалось это многим тоже лестно. Вот был у нас такой один матрос, Ратушкин его фамилия была, и тоже речи мог говорить. Все об чем же? Об тех, какие продовольствием заведуют, что все они шкуры и, понятно, сукины дети, матросов грабили, а сами жирели-наживались на народных деньгах, а между прочим в каждой копейке должны давать товарищам отчет, прочее, подобное. Ну, раз так говорил, другой, третий, – мы промеж себя выносим решение: «Давай Ратушкина к этому делу приставим: этот, видать, не подкачает». Вот, стало быть, Ратушкину препоручили. И что же ты думаешь? Человек даже двух дней на должности не продержался, – в первый же день своровал и попал на тайные глаза. Известно, борщ матросский – он катыком тогда заправлялся, – чем сейчас, не знаю. Вот Ратушкин пошел катык для борща покупать. Надо было двадцать фунтов, а он десять купил. А матрос тогда один наш в лавочке был, в темном уголышке за другими стоял и всю эту картину видел. Кушают матросы борщ, – что-то им показывается он безовкусный. А тот самый матрос, какого Ратушкин не доглядел в лавочке, взял да и поднялся: «Так было дело, товарищи: десять фунтов катыку было куплено, вот почему борщ безовкусный». Сейчас к Ратушкину все. Тот божится-клянется: «Полпуда взял. Хотите в лавочке справиться, поедем!» Ну, правду сказать, матросы тогда очень любили на берег ездить. Взяли катер, поехали и Ратушкина взяли, конечно. И этот матрос, какой на него показание свое, – он тоже. Приходят в лавку. «Сколько этот вот товарищ катыку тут у вас покупал?» – «Десять фунтов». – «Ага! та-ак! А нам же двадцать надо было, – так вот давайте еще десять». Грек еще десять фунтов отвесил. Тут матросы Ратушкина схватили. Руки ему назад закрутили, завязали, и давай его катыком с самой головы до ног мазать! Прямо, как ощекатурили малого.
Панасюк отозвался густо:
– Так и надо! Не воруй! Вот!
– Кар-ти-на для детского возраста! – заулыбался Аполлон.
– Намазали его таким манером, а потом по улицам повели, по самым в Севастополе главным: по Нахимовской, по Екатерининской, по Офицерской. А Ратушкин – он уже пять лет в Севастополе служил. Сколько барышень знакомых за пять лет матрос приобресть в состоянии! Прямо полгорода! То одна встренется, руками плеснет, то другая встренется, – шарахнется. А с Ратушкина катык аж капает отовсюду, а на груди у него табличка такая: «Вор!». Вот мне бы узнать, отучился он после этого от воровства или же еще пуще начал? Только я уж его больше что-то не видал: конечно, после срамоты такой он, не иначе, из Севастополя куда подальше подался. Да ведь и меня тоже выбрали раз, только меня уж по другой части, не по денежной. И разве же я сам набивался, как этот Ратушкин? Я всегда за других ховался, а наперед никогда не лез. А только действительно: случай один такой был, что я на учении раз вызвался сам, – это еще при старом режиме было. Людей расставить надо было округ судна. Все запутались, как бараны, а я выскочил: «Господин боцман! Дозвольте, я расставлю». И, конечно, расставил всех в лучшем виде. Вахтенный начальник, лейтенант, зовет меня: «Ты что, Курутин, видать, раньше матросом речным на пароходе служил?» – «Никак нет, – говорю, – рыбальством с детства занимался». – «Ну, – говорит, – молодец! Учи их, дураков, говорит!» С этого и пошло потом: чуть что, сейчас: «Курутин, иди сюда!» А как свобода вышла, меня на паровой катер старшиною выбирают, – ведь это что! Я это слышу – кричат по судну: «Курутин, Курутин!» А сам себе думаю: «Это опять, должно, чтоб я за других что-нибудь делал, что мне уж надоело даже. Дай-ка сховаюсь в трюм». Ушел в трюм, ан не унимаются – кричат, свистят: «Эй, Курутин!» Ничего не поделаешь, когда такое дело: надо вылезать. А сам весь, как сатана, углем выпачкался. Вылезаю на палубу, а там: «Куды тебя черти девали, что цельный час тебя ищем? Иди, тебя судовой комитет старшиной выбрал на катер паровой». Я иду, какой есть. Прихожу. «Товарищи, – говорю, – я этому делу не обучался, как катером паровым управлять. Тут, в бухте, судов всяких мало ли, и стоят и ходят! Смело могу несчастье большое сделать: возьму на катер пятьдесят-шестьдесят человек, наткнусь на такой же катер или даже на пароход напорюсь, вот и конец; и сам пропаду и людей загублю совсем безвинных». А мичман был председатель. «Ничего, – говорит, – товарищ! Научитесь!» Одним словом, и все тут кричат: «Выбрали тебя – и шабаш! Отказываться не смеешь!» А нужно было трех старшин на катер. Еще, слышу, выбрали Рябко, из Очакова он родом был, тоже смолоду рыбалил, потом еще одного, того не помню, кто именно. Вот хорошо. Я говорю всем: «Когда такое дело, то я согласен, если только старый старшина меня обучать будет». Тот, конечно, говорит: «С моим удовольствием! Так что даже две недели обучать могу». И что же ты скажешь? На другой же день, смотрю, одевается наш старшина – и на берег. Только мы его и видели! Вот тебе, думаю, «обучил»! А не больше прошло часу после этого, слышу по судну крики: «Старшину на катер! Кто старшиной выбран? На катер!» Куда, к черту! Как кинусь я в трюм, за бочки там сховался, в уголышке, сижу. Сначала, конечно, ничего там не видно было, потом глаза привыкли, кое-что разбирать стали. Ну, только, там слышу, все кричат наверху и ногами топочут-бегают. И уж явственно слышно мне стало: «Ку-ру-тин! Ку-ру-тин так и так и этак…» Думаю: «Ничего! Пускай Рябко за меня». Гляжу, кто-то еще в трюм лезет, – значит, меня ищут. А у меня уж глаза привыкши. Смотрю, – это Рябко. Крадется-крадется, как все одно кошка до птички, и в другой угол сел. Ох, и зло же меня на него взяло! А почему зло? Я-то хоть отказывался, а он с первого слова согласие свое дал. Подполз я к нему, – хлоп его по шее! Он вскочил: «Ой! Кто такой тут?» – «Как же это ты, – говорю, – сволочь такая, прячешься теперь?» – «Это ты, Курутин?» – «А то, – говорю, – кто же?» – «А ты чего же дерешься, так и так и этак!..» Ну, одним словом, поругались. А там, наверху, шум поднялся несудом. Давай выходить оба, потому, видим, и третьего нашего старшины нет, должно быть. Вышли. Ну, нас, конечно, обоих заматюкали со всех сторон и в морды кулаками тычут: «Садись на руль, черти!» Я говорю: «Не сяду! Я людей топить не хочу». Ну, тут мичман один: «Ничего! Я с вами сяду». – «Ну, – говорю, – тогда вы и отвечайте в случае чего, как я сроду веков катером не правил». Вот поехали. А в бухте – прямо сущая каша в котле кипит: катера кругом, миноноски, моторы, а я к барже одной приставать должен. Смотрю на нее – вот сейчас ее видел, а вот сейчас ее нет, до того у меня в глазах туман, и дрожь меня бьет во всем теле. Потом гляжу; вот она, проклятая, баржа-то эта, на которой нам надо, – кажись, так было, – амуницию получать. Хорошо, думаю, доехал без авариев. Сейчас я машину остановлю и руль поставлю. Командую: «Стоп, машина!» Машина стала, а катер руля не слушается и прямо на баржу прет. Спасибо, я все-таки далеко машину остановил, а то бы конец сущий! Все-таки он ее, баржу, катер мой ударил носом в борт, и все ребята мои, кто стоял, хлоп с ног, и с меня фуражка слетела, а оттуда, с баржи, человек в испуге: «Товарищи, что же вы так сурьезно? Как теперь все народное, пожалеть и баржу требуется». Прямо, смех и грех! А я говорю: «Вот видели, товарищи, кого вы старшиной выбрали!» Ну, конечно, слова нет, были и из матросов которые в лучшем виде командовать стали, – вот хотя бы того Мокроусова взять, какой у нас тут в лесах с зелеными спротив Врангеля сражался. А так я что-то много не помню кроме. Упустили мы тогда Колчака одного, а этот Колчак, оказалось, зла все-таки много наделал.
Аполлон, который был постарше Курутина лет на пятнадцать, побелесее его, покурносее и с совершенно лысой головою, хитро прищурился и заговорил:
– Я, когда пить начинаю, то так я и говорю откровенно: пью. Встречается со мной кто, спрашивает: «Как, Аполлон, поживаешь?» – «Пью! – говорю. – Деньги у тебя если есть, давай за компанию вместе, а нет, – проваливай». Своих денег на чужих людей пропивать не желаю. У меня семейство есть и тоже в голодный год двадцать первый страдал. А когда работаю, то я уж работаю, вам все это, конечно, известно. Я с мальства пошел по живописной части, а на военной службе служить не приходилось, и Колчаков я никаких не видал, а только, как ты сказал, что на руку он был скорый и шибко дрался, то я тебе скажу про Айвазовского, – тоже человек был знаменитый, не хуже Колчака, только его больше в Феодосии знают, где он жительство имел, ну и, конечно, на весь свет он гремел через свои картины морские. Вот, например, море такое – это ему ничего не стоило срисовать, и получается у него картина, а Америка за нее ему кучу деньжищ дает. А как я в молодых годах в Феодосию попал на работу на малярную, то уж я про него наслышался. Огромный был, как битюг воронежский, рабочих бил – несудом. Жаловаться на него? И думать никто об этом не смей! Как же можно на него жаловаться было, когда он самому Николаю Романову, царю, крестным отцом приходился?! Так что к нему от подрядчика рабочие, что полы красить, что белить стены, потолки, даже и итить боялись. Мыслимое дело было к Айвазовскому итить? Да он в кровь морды разбивал, чуть что не так, не по его вышло. У него ученик был один, тоже живописец, кажись Пикшич фамилия была или же Пишкич, армянин, должно быть, был тоже, а может, караим, и вот – как у него море зачало выходить не хуже самого Айвазовского, тот видит такое дело, подходит к нему: «Ты-ы, сукин сын, что же это со мной делаешь, а? Т-ты-ы лучше меня, что ли, хочешь картины делать?» Ды кэ-эк звизданет ему в ухо, тот парень упал на пол, весь кровью залился. Оглох потом на это ухо совсем. И так что даже живопись с того самого момента бросил. Теперь, говорили мне, так себе по Феодосии ходит, – больше по бухгалтерской части… ну, прошенье кому написать. А как бы он, Айвазовский, по уху его не съездил, из него бы, небось, вон бы какой художник знаменитый вышел. Так и пропал человек зря… от чужой зависти. Ну меня хоть и жучили хозяева и порядочно я тоже бою вынес, все же до дела меня довели. И, конечно ж, мы свое дело знали несравненно с теперешними, например. Встречаю тут раз на бережку – сидит, малюет, один. Говорю: «Где же вы, товарищ, учились, у кого именно?» – «Хутемас, – говорит, – окончил». А, «Хутемас»! Вон как теперь это называется, «Хутемас». Ну, спрашиваю, конечно: «А как, вывески если, можете?» – «Отчего же, – говорит, – вывески, плакаты – это наш первый хлеб». – «Ага, – говорю, – хлеб! Очень приятно слышать от вас, что хлеб. А сколько, хотится мне знать, есть всех шрифтов буквенных?» – «Шрифтов?» – «Ну да, шрифтов буквенных?» – «Да их, – говорит, – до черта, всяких!» – «До черта?! До черта – это вы знаете, а вот вы до точки скажите, сколько их именно?» – «А черт их считал!» – говорит. – «Не знаете? Та-ак, – говорю. – А отчего же я маляр считаюсь, в вашем, извините, Хутемасе этом не обучался, а я знаю?» – «Сколько же их, если знаете?» – «Пятьдесят два шрифта, вот их сколько будет, если до точки!» – «Быть, – говорит, – этого не может!» – «Быть не может! Ага!» Да как зачал я ему считать, какие шрифты есть: и рондо, и готический, и славянский, и прочие, – у него, вижу, прямо глаза на лоб лезут. «Как же вы все это, – говорит, – запомнили?» Вон ему что удивительно даже, хутемасу этому: как я запомнить названия мог, а об том уж не думает, как с одного шрифта на другой не сбиться. Об этом уж он молчит. Да его если как следует в работу взять, он, небось, кисти новой подвязать не умеет. А у хозяев малярам, бывало, как. Придешь наниматься к подрядчику: «Дай, дядя, работу». – «А ну-ка, – скажет, – племянничек, кисть подвяжи попробуй, а я погляжу». И чуть что ты не коротко подвязал, он тебе: «Лети, таких нам не надо! Материал только чтобы зря портить!» Вот я в Феодосии тогда у одного такого подрядчика и работал, и уж он мне цену настоящую знал, только что ее не давал, разумеется. А знать – знал. Вот один раз посылает меня к Айвазовскому: «Аполлон, поди ему две шифоньерки под красное дерево разделай». Я это в дыбошки: «Да ни в жизть! – говорю. – Да боже збави! Я ще калекой не хочу ходить». По-ка-тывается мой хозяин. «Иди, ничего!..» – «Вам-то, – говорю, – конечно, а у меня уж жена приобретена, первого ребенка от меня носит. Разве я с ним, с таким чертом, справлюсь? Дарма что он старик!» – «Да это же, – говорит, – не в комнатах шифоньерки, это ж совсем на кухне!.. Станет он в комнатах у себя фальшивого зайца держать. Иди знай, ничего!» Ну, одним словом, и места мне не хотелось терять, – пошел на отчай души. Шифоньерки действительно на кухне были. Ну, я их еще тут от кухни в бочок, в коридорчик такой выставил, а сам думаю: чуть он ко мне с рукой своею, я тогда за шифоньерки да в дверь – и драла! Кончил я свое дело, разделал под красное дерево. Докладывают ему, а я жду, холодаю. Смотрю, – идет. Здоро-вен-ный! Я это, конечно, как по приличному требуется. «Вот, – говорю, – ваше превосходительство» – а сам пячусь все, пячусь и во все глаза на его правую руку смотрю. Поглядел он мою работу, говорит, – грубо так, как все равно протодьякон: «Ага! Та-ак! Ничего!.. Хорошо!» – а сам правую руку поднял. Я думаю: «Ну, сейчас удружит по уху». Подался от него к двери, а он это кошелек из кармана вынимает, полтинник в нем достает, мне протягивает: «На! На чай!» Смотрю я на тот полтинник новенький, а сам думаю: «Брать или не надо? Как бы не приманил полтинником этим да не звякнул!» Ну, однако осмелился, руку свою за полтинником протянул, зажал его в кулак, да как шаркнул в дверь! И даже «покорнейше благодарим» забыл сказать. Вот до чего он мог робость нагнать на человека! Оч-чень дерзкий был на руку старик. И вот так до самой смерти своей держал, а искусства свово никому, однако, не передал, шалишь! Чтоб выше его никого не было, – вот до чего вредный был, – у-ух, и вредный!
Панасюк, худощавый, скуластый, черный от загара и с явно больными, красными как у кролика глазами, подхватил с задором:
– А вот же хотя бы взять и Лев Толстой. Как он, известно, писал, что война – это есть зло и убийство и совсем ее не надо чтобы, то я нахожу в этом фальшь вот какую, что и сам мог бы ему об этом написать, когда бы он живой был. Он же, я ведь читал это, охоту очень любил, а кто же такой охотник, как не убийца тот же самый? Я когда по крестьянству занимался, сколько разов на своем поле зайцев застигал, однако ж у меня того не было в мыслях, чтобы их из ружья убить. Свой паек зайцы скушают, а сколько мне полагается, я получу… Он же, Толстой этот Лев, писал, что война – зло! А Севастополь кто же, как не он, защищал? Вот через что я считаю, что он лицемер был, и напрасно ему народ славу такую сделал: Толстой! Толстой! Зря это! Не надо было ему! А вот когда он землю сам начал пахать, вот тогда только понял он, что человеку надо. Надо ему сала шматок, для которого свинья существует, буряк, капуста, морковь, картофеля, – вот. И хлеб само собой, – вот что ему надо. Только это он к старости аж до такого понятия дошел – и в скорости помер. А то вот я тоже одного ученого человека знал, профессора, и книжки он сочинял тоже, не хуже Толстого. Знал я его в Старом Крыму, где я прежде на почте служил, – Ключевский он был, профессор, тайный советник. Конечно, с Толстым, как его весь свет знал, не сравняю, а только, как я ему каждый день почту носил, – по-ря-доч-но ему писем отовсюду писали, – никому столько не писали во всем Старом Крыму, как этому Ключевскому, хотя он уже в отставке считался. Журналы разные получал, а газету только одну – «Новое время». Газета же эта считалась по тем временам – самая черная сотня. А он из себя был еще такой старик, – ну, не хуже, ты вот говорил, Айвазовский, высокий и из себя полный, борода белая, и ходил не спеша и с палкой толстой. Э-эх, как я ему почту носил, то я всю эту историю помню. А вот вопрос: почему же я почтальоном стал, когда я сюда по бондарству, в Крым, приехал? Это тоже надо сказать сначала. На Пасху шел по улице до своего земляка Онищенко. Встречаю его в полной форме, – он почтальоном там был. Ну, то-се, как земляки обыкновенно, – кто живой, кто померший, кто погорел, – а потом он мне: «Заходи ради праздника». Ну, я и зашел. А у него же там – и жареное, и пареное, и ветчина, и колбаска всякая: и копченая, и языковая, и толстая такая была… с этими, с зелеными… как они назывались, запомнил я…
– Фисташки, что ли? – подсказал Аполлон. – Помню! Была такая раньше, толстая, с фисташками. Помню!
– Во-во! Фисташки… Ну, разумеется, малороссийская тоже была. Поросенок жареный, поросенок холодный, заливной – все как полагается. И куличи, само собой. А жена же его, вижу – она так рябоватая была, из горничных, – в платье полушелковом, и часики на грудях приколотые золотые. И в комнате, смотрю я, зеркала и стулья венские, новые, желтые. Вот, черт, думаю, это почтальон так живет! Ну, дурак же я буду, как сам в почтальоны не попаду. Потому я тоже грамотный и тогда еще был и читать и писать и так чего счесть – все я мог. Чиновник же прежде почтовый, какой он доход мог иметь, исключая жалования? Он только свое жалование и знал, и кокарду на фуражке, и чтобы шпага у него в царский день сбоку была нацеплена, а почтальону вместо того шашка фельдфебельская полагалась да револьвер на синем шнуру, и то – это все когда он с почтой ехал, как бы кто не ограбил. Ну, зато же, когда ты в разноску идешь, тому письмо принесешь, а он его, как награды, ждет, тому, тем более, телеграмму, – это мы тогда тоже разносили, – вот он и дает. А магазины тем более: как почтальон в каждый магазин письма носил, и всякий хозяин это знал, и нам уважение: покупателю и прочему – одна цена на все, а нам, почтальонам, большая была уступка. Вот откуда у Онищенко и зеркала взялись, и стулья новые, венские, а также на грудях жениных часики дамские, золотые, с цепочкой. Тут как раз почтальон в другой город перевелся, – мне место вышло. Онищенко меня туда и устроил. Эх, это ж было место! Холостой я тогда ходил. При почтовой конторе мне комнатенку дали, и во-одка у меня там – прямо непереводная была. Так под кроватью четвертная бутыль и стояла.
– Четвертная?! – передернул ноздрями Аполлон, чмыхнул, крякнул, крутнул головой и потер руку об руку.
– Четвертная! На теперешнее перевесть, почитай, три литровки. А также колбаска… маслице свежее. И так что королевскую селедку, – рваные шейки, – эту я цельными бочонками покупал, тоже у меня не переводилась. Так что Онищенко за свои личные деньги мог даже вполне ничего этого не покупать, а я его все угощал, как он же мой земляк, это раз, а второе – на такое место меня поставил. Ну, а он мужик оказался такой, что до всего чужого очень ласый и остановиться никак он не мог: я – рюмку, он норовит две. Дальше – больше; так у нас пошло, что мы, как воскресенье, так обои пьяные, и у нас разный калабалык начинается. А раз помощник начальника почты, Куценко, шпагу свою прицепил да на нас с криком. Тогда я, значит, свой револьвер да к нему, а за мной Онищенко тоже. Ну, он, спасибо, ногами тогда был, как человек тверезый, нас обоих крепче, чем он и сам спасся и меня во грех не ввел. Ничего, конечно: нам прошло это, как у нас же чиновники, и тот же Куценко первый, деньги мелкие занимали, або трояк, або пятерку. Ну, все-таки дошло до нехорошего, так что раз мой Онищенко пьян напился в отделку, другой раз тоже, третий, а в четвертый до того уж, что и письма все из сумки растерял: лежал, спал прямо на улице, а ребята письма повытащили да из них бумажных змеев наклеили. Конечно, адресаты называемые начальнику почты претензию свою. Тот видит, скандал большой, – Онищенко с почты уволил, стал тогда Онищенко на поденку ходить. Ну, поденкой много не заработаешь. Так он даже и то все пропивал, потому что привычка. А жена его, рябоватая, она тогда часики свои спрятала подальше, также и платье полушелковое и с другим спуталась. Хотя же он тоже был не то, что почтальон, а просто поденный, и звали его Ванька Каин, потому что из себя был рыжий, ну зато она мне так говорила: «Что ни получит, то мне принесет, а кроме того, полбутылки водки раз принес, – вот с этого дня у нас с ним любовь и началась». Онищенко же, он, правда, писать лучше меня мог, почерк имел красивше, а я зато разборку писем прямо в два счета мог, и ни одного письма я не пропускал, такой у меня глаз оказался вострый, и также руки швидкие, что я в пять минут, бывало, все разберу. Онищенко же этот потом ко мне часто приходил насчет четверти, какая под кроватью стояла. Пьет, а сам плачет, что я его будто бы и от места отставил, и от жены также. А я ему говорю, конечно: «Дурак ты, хотя ты меня и старше! Женщине разве не знаешь ты, что нужно? Какой ей мужчина требуется? Который бы в дом нес, а не в чужие люди, – вот какой». Ну, спустя время, Онищенко по пьяной лавочке повесился, а у Ваньки Каина рак в желудке оказался, тоже помер. А между прочим в Старом Крыму воздух легкий считается, вот почему и советник этот тайный, Ключевский, жизнь свою продолжал, чтобы прожить на свете больше. Дом себе там завел, а также сад большой, – фрукта разная. Жена же у него была тоже довольно уж старая и дочь невыданная, тоже лет не молодых, и лицо с желтизной, и все будто ей спать хотелось: сама с тобой, как почту ты принесешь, говорит, а сама все зевает стоит, и так что без зеванья мне ее и видеть не пришлось ни разу. Старый же Крым – это он городок небольшой: нас с Онищенко только двое почтальонов было, и вполне мы справлялись, бывало, за пять минут: почту всю разберем, я ее по местам раскидаю, он почерк имел быстрый, – запишет, и все. По такому городу советник тайный – это же считался чин самый большой, выше которого быть не могло, – Ключевский этот у всех на виду, и ему почет: идет по улице, все перед ним шапки скидают. А вот, кроме «Нового времени», не признавал! Сын к нему приехал раз, тоже ученый человек, а только ему я «Русское слово» носил. Неделю так носил, – ничего, или не замечал отец, а то раз две газеты принес – «Новое время» и «Русское слово», а старик сам на улице прогулку делал. Берет у меня, смотрит, и гляжу – «Русское слово» мне назад отдает. «Ты-ы что это тут путаешь?» – говорит. – «Это ж, говорю, ваше превосходительство, вам тоже ношу». Как крикнет он прямо на улице: «Мне-е?! Как это, чтобы мне?» – «Сыну вашему», – говорю. «Сыну?!» Как закричит, брат: «Такую сволочную газетчонку левую, чтобы сыну? Ты что это врешь, подлец! А? Что врешь?!» Ну, я ему: «Посмотрите, говорю, на бандероль», а сам, конечно, пячусь. Он сейчас в карман, за очками, глянул на бандероль, и прямо с этой газетой в дом. И такой начался там крик несусветный, что я уж пошел от страму. А на другой день, хотя «Русское слово» пришло, я уже его не понес, бо сын снова в Москву уехал, где он и жил. И вот пришло то время, когда царя свергли. А ведь я же отлично мог знать, потому что почта. Кто же поперед почты что может узнать? И вот я, стало быть, иду с разносной сумкой, дохожу до профессора Ключевского и этак в дверь голову всунул, газету «Новое время» ему подаю, а сам говорю это! «Знаете, новость какая? Царь наш от престола отрекся». Он, как это в комнате стоял, повернулся ко мне лицом, очень страшным, и прямо как лев зарычал или вот бывают собаки-овчарки, которые на волка сходственны, как заревет: «Что-о-о?» – да за палку, а она у него в углу стояла. И в одну минуту весь красный стал, только борода белая. Я уж, конечно, бежать хотел, а он в дверь за мной, за рукав левой рукой схватил, а в правой палку свою толстую прямо надо мной держит. Жена же его, старуха, а также дочь, которая все зевающая, они тут же были и слышали, и с обеих сторон к нему. Я же стою и про себя думаю: «Ну, если он меня палкой ударит, я тогда или погибну, или же я тогда на него должен кинуться». Ну тут, спасибо, жена его с дочерью меня спасли от греха: кричат с обеих сторон ему в уши: «Ты бы сначала узнал, а не палкой! Он, может, и не врет, а правду говорит». Старик же этот, Ключевский профессор, как визгнет: «Бы-ыть этого не может! Врет он, мерзавец такой!» – и тут левой рукой взмах сделал, а я, конечно, в дверь – и ходу. Пришел я потом на почту, разноска тогда уж небольшая была, а мой Ключевский, профессор, там. Да не так, как всегда ходил, – в штатском, а при мундире, и орденов на себе нацеплял столько, сукна не видать, и еще не все, так начальник почты говорил: половину все-таки дома оставил. Начальник же почты наш, Приходько, он тоже уж пожилой был, хотя все с барышнями на улицах провожал по вечерам, он перед ним вытянулся, а тот, Ключевский, от сильной злости своей так что даже и слова сказать не может, а только рот раскрывает, как сом на берегу. Я же из дверей высовываюсь, все равно наподобие чертика, каких в прежнее время на иконах в церквах рисовали, – с хвостом, с рожками, – высовываюсь, смотрю, что будет. Он меня и заметил, да как крикнет: «Вот он! Держите его! Этот вот! Паршивец этот мне… осмелился… сказать сейчас, что царь наш батюшка…» – и опять остановился и только рот открывает. А я со своего места говорю: «Отрекся», – и опять за дверь. Приходько на меня оглянулся, – ему: «Так и так, ваше превосходительство, сообщение такое действительно у нас на почте получено». Ну раз уж сам начальник почты говорит, тут уж он меня оставил, этот старик страшный, да и к нему. Как завизжит: «Не сметь, пакостник! Не сметь такое говорить! Не сметь!» Ухватил его за грудки и визжит. Ну, одним словом, стал он совсем не в себе, и водой мы его потом отпаивали, и домой его повели под руки, а дома он не больше недели пролежал, – помер. Вот как на такого человека повлияло, а назывался «тайный советник». Что же он такое «тайное» царю мог советовать, что и царь через такие советы погиб и сам он должен был погибнуть?!
И, говоря это, почтальон Панасюк кругло и выразительно поглядел на старичка в очках с короткой седенькой бородкой, который подошел еще к самому началу его рассказа, опершись на перила пристани около их скамьи, внимательно глядел в воду и, казалось бы, не слушал совсем, о чем они там говорили, но теперь повернул к ним красненькое, шелушащееся и явно изумленное личико.
– Это вы… о профессоре Ключевском, гражданин? – спросил он Панасюка голосом тихим, но как будто несколько возмущенным.
– Эге ж. По фамилии он Ключевский, который в Старом Крыму помер.
– Разве ж их два было, профессоров Ключевских? – с прежним недоумением спросил старичок. – Ведь профессор Ключевский – он московский был, историк, на Малой Полянке жил, дом номер семь, и я сам в его доме квартировал, – только уж после его смерти, тогда сын его оставался хозяином, брюнет, все на автомобиле своем ездил и только об одних карбюраторах да карбидах мог говорить. Год я у них в доме прожил, а потом на Садовую перешел, – тогда квартир было много, а мне на службу тогда с Садовой было ближе. Я бухгалтером служил, и теперь я бухгалтер. Так что Ключевский профессор не только до революции не дожил, а даже, кажется, не то в десятом, не то в одиннадцатом году его Москва хоронила*. Василий Осипыч… а сын – Василий Васильевич… Куда тот делся, не знаю, не могу вам сказать, а этого, отца его, про-фес-сора, вся Москва хоронила, как же!
И старичок даже потряс немного лысоватой, открытой головой на тонкой сухой шее.
– Лапчинский… Лапчинский была этого фамилия, какой в Старом Крыму! – радостно вскрикнул Панасюк и даже приподнялся немного. – И то на «че» ударяет, и это на «че» ударяет, вот почему могла такая путаница получиться. А фамилий через мои руки, если хотите, гражданин, знать, тыща каждый день проходит: что ни письмо, то своя фамилия, также много и татарских всяких, и греческих, и даже, я вам скажу, и армянских, и польских, разных народов. А тот был Лапчинский, тайный советник, что я теперь даже очень хорошо помню, и как я его видел в церкви на царский день, во всем он был своем параде, при всех орденах, и так что, извиняйте, как я стоял сзади его, так я мог видеть это: и сзади у него тоже нацеплен был крест бурдовый, а лента розовая, – вот это место, где самый разрез и полы вправо-влево расходятся.
Тут Панасюк проворно вскочил, полунагнувшись стал к старичку задом и показал корявым пальцем немного пониже поясницы.
Крым, Алушта,
август, 1933 г.
Маяк в тумане*
Это о годе двадцать восьмом: случайно застряло в старой моей записной тетради.
Да, приходится оговаривать это, – слишком стремительна стала жизнь, и сегодняшний день уже очень мало похож на день вчерашний.
Когда над морем, очень цепко присосавшись к воде, залегает плотный, волнистый, голубоватый, издали нехолодный даже, похожий на сбитое стадо белых овец туман, тогда отсюда, с горы, виден – и до чего же отчетливо! – весь изрезанный изгиб берега, и даже тот, самый дальний, похожий на голову нильского крокодила мыс, на котором по ночам сверкает маяк: три часа езды пароходом отсюда до этого маяка.
Мыс с маяком – он существует всегда, он каменный, вечный, и по ночам он подмигивает таинственно, но даже его съедает испарина моря, он расплывается в ней, зыблется, растворяется, перестает быть. И только туман над самой водою очерчивает вдруг его так ярко, только благодаря туману вдруг начинает он и днем глядеть в глаза всеми изломами своих базальтовых скал, откуда-то озаренных желтым, розовым, ультрамариновым.
Отхлынет от берега туман, унеся с собой очарование, и Пантелеймон Дрок, – весь голый, только ниже живота черный с красным горошком платок в обвязку, – весь медно-красный, весь состоящий из мускулов, пота и мозолей, перебивающий цапкой землю между своими кустами помидоров, баклажан, зеленого перца, посмотрит, бывало, на море и облегченно скажет:
– Ну, слава богу, черти его унесли!
На далекий, таинственный мыс он не посмотрит даже: ему не нужны ни мыс, ни маяк на нем. Он очень упористо стоит на своем куске земли босыми ногами, на которых большие пальцы величины чрезвычайной и даже отставлены от других пальцев на целый палец.
Земля его в уютной котловине и глядит на юг. Где она выше – там чистая рыжая глина, где ниже – там наносный черный шифер, и Дрок заставляет ее на рыжем выгонять лопушистый табак, на черном – пшеницу и кукурузу, а где шифер лежит глубоко, на целую лопату, – там у него огород. Для поливки в разных местах у него копанки с желтой дождевой водой, и в одной, самой большой, купаются его ребятишки, когда пасут корову.
Направо, внизу – город, налево, вверху – несколько домишек. В одном, ближнем, живет слабоумный, разбитый параличом старик, сорок лет прослуживший здесь в таможне. Теперь он получает пенсию. Когда уходит в город его жена, тоже старуха, Настасья Трофимовна, – ему уже через полчаса становится страшно одному сидеть в комнате; ступая правой ногой и подтягивая левую, опираясь на палку и держась за косяки дверей и выступы стен, он выволакивает себя наружу и, помещаясь между кустов так, чтобы виден был город, начинает кричать:
– На-а-стя!.. На-стя-а!..
Потом чаще, чаще, и совсем непрерывно, и очень долго:
– На-асть, насть-насть-насть… На-а-астя!..
Волосы у него длинные, белые, тонкие, как у детей, белая длинная борода, белое незагорающее лицо, и неизменная на нем черная тужурка, вся закапанная спереди. Голос у него был еще очень громкий. Фамилия его была Недопёкин.
Когда он видел Дрока, то кричал ему, но Дрок уже привык к этому и не отзывался. Жалости к старику у него не было, презрения тоже, – просто он был ему не нужен. Но рядом с Недопёкиным жил человек, которого он не любил: это был учитель пения – Венедикт Митрофаныч, человек уже пожилой тоже, но ученики звали его Веней. Дрок знал, что в школе он получал всего только сорок рублей, но проводил там не только целые дни, иногда и ночи, – это когда надо было готовиться к школьному спектаклю, шить и замазывать декорации: «Днем когда же?.. Ребята – разве они дадут?..» Или: «Ребята – они на тебе повиснут, разве от них уйдешь?»
Роста он был небольшого, с виду щуплый и хрупкий, но даже и ребята, которые целыми днями на нем висли, не могли его утомить.
Была одна ночь в марте, когда Веня подымался к себе из школы часа в два, но светила ущербная луна, роились звезды, кричали дикие гуси, пролетая на север, и тянуло тихим теплом с юга, а Дрок на своей земле равномерно звякал железом лопаты о камень, спеша закончить перекопку. Он копал недалеко от дороги, и Веня разглядел, что он до пояса гол, как и летом.
– Что это вы, Дрок, себя надрываете так? – остановился Веня.
– Никакого надрывания тут нет, – отвечал Дрок недовольно. – А если я должен всю эту землю перевернуть, то… как по-вашему?
– По-моему?.. Большой у вас кусок земли, Дрок!
– Ага!.. Большой, находите?.. Так что вас завидки берут?.. А я же по копейке с метра в горхоз плачу!.. Ну, бегите теперь вы, давайте им по две або полторы, – вот и ваша будет!
– Мне не надо, на что она мне?
– Вам не надо, а сами говорите: большой кусок!.. Кому не надо, тот безо внимания, и даже он слова не знает, большой или маленький… Я с воза наземь дванадцать пудов сымаю, а недавно, года три назад, – я с земи на воз дванадцать ложил… Ну, мне уж сорок второй, я уж не молодых годов считаюсь… И должон бы я силу больше иметь, кабы руку себе не сломал…
– Что вы?.. Давно это? Не слыхал я что-то…
– Где же вам и слыхать, когда это ж в селе я тогда жил, – ну, одним словом, дома, в отца з матерью… Семнадцать годов мне тогда было, – на лошади я верхом, – и на всем скаку – туда к черту!.. Называется наше село Звенячка… Это… может, когда слыхали, – Ново-Ушицкий был уезд Подольской губернии. У меня же там брат живет, – как же!.. Как землетрясенье было в прошлом годе, говорили тогда все: «Вот Крым провалится!.. Вот провалится!..» И как все отсюдова тикали, то была и у меня думка домой отсюда ехать… Я брату пишу: чи ты примешь, чи ты не примешь, бо я вже сам-сем: такой урожай от меня… Он пишет мне по-своему, по-украинскому, – давал людям читать, как я уж того языка не понимаю: приезжай, пише, кусок хлеба знайдем… Ну, а тут успокоилось, я и раздумал тикать… А не так давно он уж мне пише: «Разоренный я совсем: хочу к тебе ехать… Може, где себе место знайду…» Я ему, конечно, ответ: «Раз ты теперь стал разоренный, то это ж нема чего лучше, – как ты теперь, стало быть, бедняцкого элементу…» Не знаю уж, как он теперь… Руку же я себе сломал правую… Ну, спасибо, у нас в селе костоправ был, Гордей его звали, старик хотя, ну, такой вредный, что как ему горилки пивкварты не поставлят, то он и лечить не буде… Выпил он, обрызгал меня из последнего, что в рюмке осталось. «Держите его, говорит, дужче, хай не копошится!» Пощупал он. «На четыре части, говорит, и то хорошо, что поперек, а не вдоль…» В полотно такое домашнее – непокупное – забинтовал, потом в лубок всю руку. «Так, говорит, и держи ее палкой и спать не спи…» Пришел на другой день к вечеру, пощупал: «Ну, кажи: боже, поможи». Я кажу: «Боже, поможи!..» А он мне как надавит вот это место пальцем, так я и зашелся весь… Это он мне еще одну косточку вправил… Потом даже три дня не являлся, а как явился, прощупал: «Ну, кажи, хлопче: „Славу богу!“» – «Славу богу!» – «Ну вот за то же я тебе руку до шеи привьяжу!» А уж так недели через три: «А ну, хлопче, крестись», – говорит. Стал я руку подымать и, значит, на лоб не могу и на правое плечо не могу, только на левое. «Ну, ничего, кажет, и сам бог с тебя кращего креста спросить не может, как он же тебе сам руку зломав…» Видали теперь, через что я силы настоящей не имею?
– Да уж больше, чем у вас, Дрок, сила, – куда же она еще?.. В цирке себя показывать? Вы как будто на меня серчаете, – смущенно говорил Веня, но Дрок кричал еще азартней:
– А кто теперь друг на дружку не серчает?.. Все не только даже серчают, а с лица земли готовы стереть!.. А мне то на вас досадно, что пению вы, извиняйте, учите, а ребята мои вот христославить не умеют… Также и на Пасху… Могли бы они заробить какую-нибудь копейку, а то они воют, как те коты, какие на крышах, а что они воют такое, этого у них даже в понятии нет…
– Христославить!.. Этого от нас не дождетесь, – улыбался Веня, – этому учить мы, конечно, не будем…
– А не будете, то зачем вы и учите?.. Ну, с тем до свидания, когда такое дело, – мне копать надо, а вам итить спать… И холодно начинает, как я раздевши…
Веня отошел, но, вспомнив, крикнул назад:
– Вы бы их в кино когда-нибудь повели, ребят ваших!..
– В ки-но-о?.. Это для пристрастия?.. – на всю тихую весеннюю ночь кричал Дрок. – Да я в газете читал, как один мальчишка завел другого в сарай дровяной, там его удушил, пальтишко снял с него, за трешницу продал да в ки-но-о!.. И почему же это он осмелился так?.. А это он до кина пристрастия имел, а денег не было!.. Ки-но-о!.. Это же для ребят все равно как для нас водка!.. Вон вы советы какие даете, а еще у-чи-тель!..
Веня отходил от Дрока поспешно и, отходя, долго еще слышал яростный звяк его лопаты о камешки и какое-то бормотанье, так как остановиться сразу и замолчать, как отрезать, Дрок не мог: он очень разжигался, говоря что бы ни было, в нем очень много подымалось, и, зная это, Веня боялся, не сломает ли он держак лопаты, слишком глубоко засаживая ее в тяжелую глину, и не будет ли потом ругательски ругать его во весь голос, свирепо доламывая буковый держак ногами.
И только добравшись до своего склона горы, откуда Дрока уже не могло быть слышно, Веня с радостью различал громкие крики весенних диких гусей в небе, посвистывание куличков над морским берегом и брачное хрюканье дельфинов, которые оглашенно ныряли и подскакивали теперь в лунном столбе, поднявшемся черт знает как высоко: если бы не лунная дорога в море, никак нельзя было бы поверить, что в такую дальнюю даль ушла линия горизонта.
Очень трудно было, особенно при плохом зрении, определить точно: что же это такое двигалось в гору медленно и цепко, похожее на огромную черепаху с четырехугольным черным блестящим панцирем, на вид очень тяжелым и прочным. И только когда черепаха эта проползала вблизи, совсем близко, в двух-трех шагах, можно было разглядеть, что это Пантелеймон Дрок тащил связанные проволокой листы старого кровельного железа – тыльной, промасленной, стороной кверху, покрашенной – вниз. Железо было десятифунтовое, и тащил он кипу в двадцать листов, и щедро капал пот с его весьма неправильной формы носа и широкого бритого подбородка.
Так, разобравши, наконец, что это за черепаха, Настасья Трофимовна, крупная старуха с высосанным мучнистым лицом, всплеснула руками и сказала испуганно:
– Разве можно так, Пантелей Прокофьич?! Ведь у вас сердце этак лопнет!
И выпуклые, зелено-мутные глаза ее мигали часто.
Но, грохочуще проползая мимо нее, Дрок ожег ее выпадом злых багровых маленьких глазок и прохрипел:
– Покупайте мне лошадь, от тогда на лошади буду возить!
И только к вечеру этого дня, когда еще таким же образом два раза проволок он свои панцири из листового железа по пяти пудов каждый, узнала Настасья Трофимовна, что внизу, у моря, в доме отдыха металлистов, где был ремонт осенью, продают старое железо с крыши, и Дрок закупил его тридцать пудов, имея в виду скорую постройку своего дома.
Еще раз всплеснула руками Настасья Трофимовна и сказала шепотом:
– Кто же теперь строится? Какой кобель?
– Ну, значит, я и есть этот самый кобель, когда такое дело! – осерчал Дрок и добавил уже наставительно: – Мне з моим семейством жить негде, если вы хочете знать!.. У меня пьятеро, да шестое, извиняйте, в утробе матери!
– А разве ж вас с квартиры гонят?
– А какая у меня квартира? – кричал Дрок, потный, красный, размахивая проволокой, скрученной в тугой бунт. – Моя квартира – одна комната, и она холодная, что касаемо зимнего времени!.. А мне не меньше две комнаты надо, вот!.. И корове сарай, поняли?.. И курям опять же абы что… И табак на суруках было чтобы где сушить!.. И хлеб чтобы куда ссыпать!.. А также картошку, капусту складать… кабачки, кукурузу… Вот!.. Мне для всего помещение надобно, а не одна комната!.. Я пенсии не получаю, как старик ваш живущий!..
Дрок упорно таскал к месту, облюбованному им для своей постройки, то старые балки, то стропила, то доски… Наконец, завел тачку и начал издалека привозить дикий камень для стен и старый кирпич для печки.
С огромной яростью орудуя киркой, принялся он рыть канавы для фундамента и потом закладывать их бутом… Это было осенью, когда с поля и огорода все уже было снято, а если табак еще зеленел густо, то листья его шли уже от боковых побегов: такие листья не собираются, они красуются только до первого мороза, который одним ударом превращает их в бессильные кофейно-рыжие тряпки.
Дрок клал фундамент на извести, как заправский каменщик, сделавши себе из дырявой ряднины фартук, но все не хватало у него песку, и он говорил удивленно: «На ж тебе, как эта звестка песок жрет!.. Все одно, как свинья полову!..»
И шел с мешком на пляж, а когда тащил оттуда полный мешок мокрого песку, то шея его багровела, вздувалась и пульсировала звучно, а в голову снизу било жаркими железными обручами и бухало там, как в пустой бочке.
Должно быть, здешние горы строили свои крутобокие массивы с таким же напряжением, с таким же остервенением, с такою же злостью силы… И только время пригладило их, взъерошенных, только воды и ветры обрушили вниз все их колючее, острое, непримиримое и укрыло их дикие известняки и граниты однообразно-ласковым буковым лесом.
Класть прогоны на фундамент и устанавливать на них балки в отвес помогала Дроку жена Фрося.
Она не хотела, она ворчала, она говорила:
– Нанял бы ты лучше плотников на день!
Но кричал, свирепея, Дрок:
– Ка-ак это «нанял бы»?!. Это чтобы они с меня по пьятерке содрали?.. И чтобы всеми считалось это наемный труд?.. Нехай они з меня заработают, как я подохну!.. А как я себе зараньше, перед смертью, гроб сделаю, то вот они с меня что заработают!
И перед самыми глазами Фроси (зеленоватыми, с золотыми блестками) тряс очень жестким кулаком, заляпанным сосновой смолой.
Смолоду Фрося, должно быть, была и весела, и беззаботна, и миловидна, потому что и теперь еще осталась, хоть и слабая, игривость в глазах и розовели иногда тонкокожие щеки. Но подобрались уже щеки, втянулись, губы подсохли, шея пошла складками, светлые волосы потемнели, поредели.
– Держи стояк, иди! – командовал Дрок. – Потрафляй, абы шпенек в гнездо вошел!
И Фрося, взглянув на него исподлобья, обхватывала столб огрубелыми, хотя и тонкими в запястьях, шелушащимися руками.
Дом себе ставил Дрок не в котловине на горе, где было его поле, а гораздо ниже, в балке, где прежний владелец этого участка выкопал колодец. О бывшем владельце здесь не осталось памяти, даже и смутной, а колодец Дрок сам вычистил и огородил. И теперь, когда, отдыхая, пил взятую оттуда воду, он говорил вполголоса, оглядываясь кругом, Фросе:
– Ну, ты где еще такую воду пила, а?.. Я все здесь колодцы и фонтаны перепробовал, также и казенный водопровод, – не-ет, брат!.. Ты только языком своим бабским дзвону об этом не давай!.. После такой воды и зельтерской пить не захочешь…
Все было податливо и укладисто: земля, камень и дерево, но оказался очень коварен один продольный верхний прогон. Гнезда в нем выдолбил Дрок по нижним концам столбов, но разошлись немного верхние, и когда Фрося, стоя на лестнице, помогала его укладывать и приподняла его над собою, он вырвался у нее из рук. Он оцарапал ей плечо, чуть не выбив глаз другим концом стоявшему на другой лесенке Дроку и, описав мгновенную прихотливую дугу, звонко брякнулся о другие прогоны и кроквы.
Фрося зажала плечо рукой и спустилась молча, только поглядев в желтые глаза мужа своими зелеными, с искрой, и, усевшись поодаль от бревен на сухую щепу, спустив синий платок до переносья, плакала, всхлипывая, больше от испуга, чем от боли, а Дрок сел с нею рядом, чувствуя тоже какую-то оторопь и бормоча вполголоса:
– Могло бы и в голову вдарить – тогда крышка!.. Однако горобец и тот гнездо себе вьет… ворона даже – и она прутья до горы на деревья таскает… Обязан и человек хату себе сам своими руками делать.
И когда отплакалась Фрося, он сказал ей, поплевав на руки:
– Ну-ка, фатайся за тот теперь конец, а я уж за этот…
Тяжелый прогон снова пополз кверху, и на этот раз шипы столбов покорно вошли в гнездовья.
Однажды, лузгая семечки, подошли к Дроку два плотника, братья Подскрёбовы, Никита и Денис, молодые еще, но хлипкие, оба рыжие, с землистыми лицами, и Никита, старший, сказал, расставив ноги:
– Вот так столбы поставил!.. Да как же ты, дупло, без ватерпаса столбы поставил!.. Ведь они у тебя завалятся к черту при первой возможности!..
А Денис добавил:
– И план ты должен был представить на утверждение, то есть план своего дома. А то вполне мы можем эту твою халупу обраковать к чертям и совсем воспретить…
Но Дрок, медно-красный, вдруг поднял над головой топор, как томагаук, и двинулся на них, ворочая медвежьими глазками и рыча, так что Никита отошел поспешно и, отзывая Дениса, говорил:
– Ведь он шутоломный, черт!.. От него можешь трудоспособности лишиться на все сто процентов!..
А Дрок кричал им вдогонку:
– Учить меня явились!.. А того и не знают, что я смальства по бондарной части работал… Также и по колесной тоже… Ва-тер-па-сы!..
Когда же и стропила он утвердил на два ската и запалубил под железо, откуда-то взялся печник Заворотько, семидесятилетний, полуслепой уже, но старавшийся держать серую кудрявую голову как можно прямее и делать вид, что он только что хорошо выпил, очень потому весел и весь свет ему любезен и мил.
Высокий, длинноногий, он подошел медленно, но уверенно, кашлянул браво и сказал вкрадчиво:
– Боже, поможи!.. А я смотрю иду, что ж воно такое?.. Чи воно завод, чи воно хвабрика… Аж воно ни завод, ни хвабрика, а то самое, до чего плиту треба… Та-ак!.. Ну, это тебе Заворотько, – печник есть такой, – сделает в лучшем виде… А уж гроши з тебе сдерет, как все равно святой с бабы!
– Про-валивай, куда шел! – отвернулся Дрок.
– Как это «проваливай»?.. А кто ж тебе делать будет? – спустился с веселого тона Заворотько.
– А сам я на что?.. Сам я делать буду, – вот он кто!.. Видал такого? – выставил перед ним кулак Дрок.
– Таких я, друг, видал многих, – только глину они зря портили да кирпич губили… И меня же сами звали они поправлять, – это чтобы бабы на ихних головах горшков дуже много не били, как и горшки тоже грошей стоют!..
– Да понимаешь ты, – кричал ему прямо в уши, подскакивая вплотную, Дрок, – что тут все должна быть моя собственная работа, чтобы никто отнять моей хаты не мог?
– А на черта кому твоя хата, чтоб ее отнимать?
– Все встать могут в свидетели, как оно не купленное, а сделанное моим чисто трудом!.. Вот!.. Все видали кругом и сейчас видят! – кричал Дрок.
– Ну, погоди, – останавливал его рукою Заворотько. – На стены ты камень припас, значит, видать, фафарку хочешь делать?
– А, разумеется, фафарку!.. Что, мы вместе с бабой фафарки не слепим?
– Хитрости никакой нет!.. Только крестовины вставить…
– И вставлю!.. И окна-двери навешу!.. И железом накрою!.. Все сам!
– Ну, то уж дело твое… Хочешь, чтоб на голову тебе капало, тоди крой сам… А плиту тебе Заворотько-печник зложит… Думаешь, много он возьмет?.. Не-ет, он теперь много не берет, как он уж не союзный… И даже так я тебе скажу (тут Заворотько понизил голос до шепота), что даже он никому и ни-ни об этом! Придет он к тебе до сход солнца, а уйдет, как фонари зажгут… Так, чтоб его никто и не бачив!
К новому году Дрок перешел в свой новый дом, в котором было только две комнаты, и, хотя железо на крыше на виду у всех укладывал сам Дрок и сам его красил, крыша все-таки не текла, а заворотькиной плитой Фрося осталась довольна.
По стенам снаружи дома развесила она под самой полкой крыши пучки золотистых кукурузных початков, на крыше разложила оранжевые пузатые бородавчатые тыквы, – это было в теплый солнечный день, – и то и дело выбегала любоваться этим украшением и только вечером, когда натянуло с моря дождевые тучи, сняла.
А Дрок, водворивший уже в новом сарае корову, спешно сооружал другой сарай для сена. Он стучал бы и по ночам, если бы ночи не настали темные, хоть глаз коли.
В той же комнате, которую занимал он раньше, поселился какой-то приезжий по фамилии Дудич.
Упал в колодец средний сынишка Дрока – Егорка, лет восьми. Как он очутился там, на той самой, дубовой почерневшей и скользкой балке, которую Дрок все собирался вырубить, этого Егорка не мог объяснить отцу потом, когда его вытащили.
Он стоял перед отцом круглоголовый, плотный, очень спокойный, даже пожимающий плечами, всем своим видом дававший понять, что иначе и быть не могло, что вообще всякий, кому случится упасть в колодец, должен стать там на поперечную дубовую балку и время от времени не спеша кричать, чтобы его вытащили, – не спеша потому, что попадать в колодец не всякий день удается, а любопытного там очень много, и когда от стенки колодца там отрываешь маленькие камешки и бросаешь в воду, то они булькают совсем иначе, чем ежели бросаешь их сверху.
Побледневший, оторопевший, спрашивал сына Дрок:
– Стервец ты этакий, как же ты туда упал, скажи?
А Егорка, сморщив безволосые брови и глядя в землю, отвечал густо, однако немногословно:
– Упал, и все.
– А на перекладину же ногами ты как попал? – хотел допытаться Дрок, но Егорка отвечал так же густо:
– Попал, и все.
– Ну, мерзавец же ты этакий, как же ты летел туда, скажи: чи ты вниз головою, чи ты ногами вперед? – допытывался отец.
– А я же почем знаю? – светло глядел на него Егорка и пожимал не узкими для восьмилетнего плечами.
Лицо у него было щедро усеяно конопушками, левый глаз с маленькой косиной, заметной только тогда, когда он поворачивал голову направо.
Он непритворно был удивлен, почему это так в голос заплакала мать, когда его вытащили, а отец, заделывая брусьями устье колодца, кричал ей:
– Ты зря не реви, а кругом его щупай: чи не оборваны ль у него все печенки, или его в больницу сейчас вести надо!
Все у Егорки оказалось в целости, и вечером в этот день Дрок жестоко отхлестал его ремнем, больше имея в виду полную для себя непостижимость этого случая, чем со злости.
Зато вскоре после того сломал себе руку семилетний Митька. Он подставил с земли на крышу дома тонкую легкую доску и подпрыгивал на середине ее, пока она не переломилась пополам. Упасть ему пришлось о камень рукою, и то, что этот сынишка его так же, как и он когда-то, сломал не левую, а именно правую руку, и не в локте, а около плеча, очень поразило Дрока, так что пальцы его, привычно потянувшиеся было к уху Митьки, сами остановились на полдороге.
В больнице с Митькой проделали почти то же, что когда-то старый костоправ Гордей из села Звенячки проделал с самим Дроком, и руку подвязали ему марлевой повязкой к шее, но ровно через четыре дня он, цепляясь за сучья одной левой рукой, полез на грушу следом за Егоркой, и вот тут-то уж жесткие пальцы Дрока дотянулись до маленького, прижатого Митькина уха.
– Соба-чонок скверный! – кричал Дрок. – Я тебе доску простил, поганец, а вона ж вещь хозяйственна, а ты, калечь убогая, еще и грушу зломить хочешь?.. По-до-жди!.. – и тащил его к дому.
Митька был очень вертлявый и визгливый, и, вертясь и визжа, он всячески старался вырваться, даже пробовал кусаться, а когда оставил его отец, пообещал, хныча:
– Хорошо-хорошо… Вот я… еще одну руку сломаю!..
Но Дрок знал, что он, хотя и сердит, отходчив, однако говорил о нем Фросе:
– Убери от него все доски в сарай, абы на дворе не валялись!
На старшего, Ванятку, лет уже десяти, пожаловались Дроку, что он, такой же спокойный по натуре, как и Егорка, и такой же круглоголовый и плотный, когда пас корову около одного временно оставленного под присмотр Настасьи Трофимовны дома, обдуманно и метко швыряя с разных расстояний камнями, выбил все до единого стекла в окнах.
Настасья Трофимовна обычно несколько побаивалась крикливого Дрока, но теперь она кричала сама, часто нагибаясь в поясе:
– Что я теперь скажу хозяину?.. У-сте-рег-ла!.. И от кого же вред такой страшный? От мальчишки! От мальчишки! От хулигана! За которым отец-мать не смотрят!..
Все, что у нее накопилось против Дрока за несколько лет, выложила крикливо и сбивчиво эта старуха с мучнисто-белым иссосанным лицом, на котором и нос, и губы, и выпуклые глаза – все было громоздко; но чаще всего и язвительней всего повторялось ею:
– Извольте сейчас же вставить, гражданин Дрок!
И это больше, чем все другие ее слова, раскаляло Дрока.
Он начинал чаще и слышнее дышать, багроветь от шеи к вискам, и, может быть, он изувечил бы старуху, если бы Фрося не поспешила увести ее, как будто затем, чтобы посмотреть на битые стекла, но больше затем, чтобы спрятать от мужа своего старшего.
Прятать его пришлось ей дня три, пока не отошел Дрок. Он мерил стекла старым аршином, рассчитывал, насчитал на двадцать с лишком рублей, думал мучительно и успокоился только тогда, когда пришел к твердому решению ни одного стекла не вставлять.
Тогда появился Ванятка, и между отошедшим отцом и провинившимся сыном произошел такой разговор:
– Теперь ты растолкуй мне, бо я не тямлю, зачем ты з этими чертовыми стеклами связался и что у тебя в башке было? – сдержанно, и нарочно сидя при этом и положив нога на ногу, начал Дрок.
– Ничего, – ответил на последнее Ванятка, упорно глядя на необычайно большие пальцы босых отцовских ног.
– Но ты же, олух, ты знаешь, что за те стекла два червонца я отдать должен? – повысил голос Дрок.
– Зачем? – как Егорка, пожал плечами Ванятка, несколько удивившись, и посмотрел отцу прямо в глаза.
Глаза Ванятки были, как у матери, зеленоватые, с золотыми жилками, и Дрок, подняв шершавые брови до середины лба, закричал, размахивая руками:
– Как же я матери твоей повсегда говорю, чтобы меньше как восемнадцать человек ребят у меня и не было, это знай!.. Потому, я говорю, хо-зяйст-во – оно требует!.. Одно чтоб курей пасло, друге чтоб гусенят пасло, третье чтоб телят пасло, а то чтоб отцу помогало, а та чтоб матери, – от когда хозяйство может итить!.. Ну, когда же вас у меня до осемнадцати ще богацко работы, ще только пьятеро, и то я з вами, з шибаями, не знаю, что делать, а когда вас осемнадцать будет?
– Тю-ю! – спокойно отозвался Ванятка.
– А что же ты тюкаешь на свово батьку? – снял ногу с ноги опешивший Дрок.
– Во-сем-на-дцать! – протянул явно презрительно Ванятка, но, увидя, что отец уже разгибает спину, вот-вот подымется, он опрометью кинулся между кустов к морю, и, наблюдая этот неистовый бег, сказал Дрок жене:
– Шо я тебе часто говорил: смотри, абы восемнадцать, как у моей матери было, то я уж теперь раздумал…
Сарай для табаку приделал Дрок из фанеры непосредственно к одной из стен своего нового дома, и густо один к другому висели там суруки с сухими листьями бродящего и удушливо пахнущего табаку. Зимою при небольшой лампочке каждый вечер допоздна делали папуши, и трое ребят Дрока, как бы они ни набегались за день, должны были папушевать табак, пока не засыпали сидя.
Дрок никогда не курил сам и не понимал, зачем курят, но из всего, что он сеял и сажал на своем поле, только табак давал ему возможность существовать. Он заготовлял его плохо, понаслышке. Здесь много осело мелитопольских баб-табачниц, когда-то работавших на больших плантациях у татар и греков, но Дрок упорно никого не брал себе в помощь.
Спокойные Ванятка и Егорка были именно настолько медлительны, как того требовала кропотливая работа над папушами, и Дрок видел, что года через два, через три они уж научатся делать это не хуже матери. Сам же он был слишком нетерпелив, и грубые пальцы его иногда не могли разобраться как следует в нежных овальных листах и рвали их. Плохим помощником был и Митька, но уже совершенно мешали работе младшие.
Дрок немало гордился тем, что пока ни одной девочки не было у него в семье. Та жизнь, которую он вел теперь и которая рисовалась ему далеко впереди, требовала силы прежде всего. Даже и ум этой жизни был только сила. Земля здесь была, как дикий конь, а объезжать, обуздывать диких коней – не женское дело. Загадочная плодовитость земли, на которой прочно стоял Дрок узловатыми ногами, требовала ответной плодовитости Фроси, но из тех восемнадцати детей, которые представлялись его воображению, по крайней мере вся первая дюжина должна была бы быть мужскою, и пока Фрося не обманула его надежд и ожиданий в первом пятке.
Двое младших ребят Дрока (Колька, лет четырех, и Алешка, еще ползунок) характеры имели разные. Колька все плакал. Просил ли о чем, выходил ли из дому на двор, шел ли со двора в комнату, даже копался ли один в песочке около дома, этот приземистый большеголовый крепыш всегда сипло хныкал, точно хотел отхныкаться сразу за короткое время на всю остальную жизнь. Алешке же, наоборот, очень большого труда стоило заставить себя плакать.
Когда его оставляли дома одного, а он хотел ползать по двору, он подползал к двери и стукался в нее несильно лбом; так же несильно, исподволь, для начала заводил он рев:
– Хы… хы… хы-хы-ы…
Если никто не отзывался на это и не отворял двери, он стукался с большим размахом и от боли начинал реветь сильнее:
– Э-а-э… Э-э-э… Э-э-э!..
Когда же и это не помогало и никто не приходил к нему, он стучал лбом без останову и от все растущей боли ревел все громче, все неистовей:
– А-а-а!.. А-а-а!.. А-а-а-а-а!..
Пока не прибегала, запыхавшись, мать, тоже с криком:
– Алеша! Алешечка!.. Что ты, Алешечка?
Но Алешечка с красной шишкой на лбу, задрав ноги, закатывался неуемно, время от времени пробуя крепость пола затылком.
О нем говорил вдумчиво Дрок:
– Кто же это растет, такой упорный?.. Сказать бы, что на меня он схожий, – волос у него показался темный, – так я же разве головою об дверя бил?.. Никогда я этим не занимался!
– А ты разве помнишь, бил или нет? – спрашивала Фрося, усмехаясь, но Дрок кричал, блестя белками, зубами и каплями пота на носу:
– Все об себе человек должен помнить от самой даже утробы матери!
Фрося была в это время уже на сносях и вскоре родила девочку.
Был июнь в начале.
Белобородый Недопёкин выволок свое очужелое тело в дубовые кусты, откуда был виден город, и кричал:
– Отра-ви-те меня!.. Яду мне дайте!.. Розалия Марковна!.. Отравите меня!.. Ведь вы меня слышите!.. Розалия Марков-на!..
Розалия Марковна была когда-то здесь зубным врачом, но уехала отсюда уже лет восемь назад. Старик забыл об этом. Он помнил только, что ушла, как всегда, на базар в город его жена, оставила его одного. Ужас его перед одиночеством был безмерен.
Небольшая собачонка Сильва, которую взяла щеночком и вырастила Настасья Трофимовна, тоже заболела уже в этом домике скулящей терпкой тоской. Как только показывался около кто-нибудь чужой, она – черненькая, лохматенькая, с белым воротничком – подбегала к нему со всех ног, ложилась на его дороге, изгибалась заискивающе, спрашивала тоскливыми глазами: «Может быть, ты меня возьмешь к себе? Может быть, тебе нужна такая маленькая собачка?..» А когда равнодушные ноги переступали через нее и шагали дальше, она забегала снова вперед, ложилась и умоляла тоскливыми глазами.
– На-астя!.. На-стя-а!.. – кричал старик. – Насть-насть-насть-насть! Нас-тя-а!..
Сильва тоже, хотя и в стороне, смотрела на пестрый город внизу, и, заметив ее, старик подзывал собачку, подсвистывая:
– Сильва-сильва-сильва-силь-ва-а!
Сильва виляла хвостиком, но не шла, и, подымая в ее сторону палку с половинками, с остатками многочисленных монограмм, старик жаловался ей плаксиво:
– Вот… с этой палочкой… я гулял там… там!..
Указывал набалдашником на город и плакал.
Когда он увидел Дрока в праздничной белой рубахе, подпоясанной ремешком, как он пробирался в кустах ниже и левее его, он закричал было ему радостно:
– А-а!.. Гражда-нину Дроку!.. – и даже сделал в его сторону два-три ковыляющих шага.
Но Дрок согнулся, чтобы не так заметно было его в кустах, и ярко замелькал своей праздничной рубахой по направлению к домику, где жил и – он знал – теперь был дома Веня.
Дроку также хотелось теперь кому-то рассказать о своем новом, и некому было здесь, кроме Вени. Он рассказал бы и старику, если бы тот способен был что-нибудь понимать.
Веня занят был тем, что, усевшись на табурете посреди двора, ставил аккуратные заплаты на свои летние брюки.
– Ага!.. Здравствуйте вам!.. С праздником! – протянул ему желтую, как репа, ладонь Дрок. – Или у вас нет праздника, тогда извиняйте… А у меня же прямо в кругу!.. Такой я сейчас довольный, во! (Чиркнул себя по литой медной шее пальцем.)
Посмотрел на него Веня удивленно: лучился Дрок. Он даже как будто моложе стал; он был без фуражки – волосы низко острижены, густые, черные, только на висках проседь; четырехугольный лоб без морщин; нижняя челюсть мощная; зубы все на месте и белые и завидно сверкают сплошь, когда кричит он:
– Такой я довольный, как все одно дождь на мою пшеничку линул, а на соседову – нехай когда-сь после!.. Я же работаю, как скаженный, – вам известно!.. И так что бывает, встану ночью, сижу на кровати, а сам себя ругаю: и ноги у меня больные, и руки болят, и спину мою ломит, и цапать идти надо, и до того даже, что я уже с вечера ищу-хожу, как бы мне с женой поругаться!.. Она же, баба, вы знаете, работница, она же называется друг мой!.. Я же с ней должен, как другие, в обнимку! (Тут Дрок обхватил тонкую шею Вени и губами – широкими, влажными – потянулся к его губам, чтобы показать, как именно должен бы он был обнимать ночью свою жену.) А я ей с вечера что?.. «Хворобы на тебя, на суку, нету!..» И дальше подобное… Это чтобы она заплакала, а я чтобы ведро с водой шваркнул или что еще и вещь эту изуродовал всю… Ну, вот… В три часа ночи я встал сегодня цапать и уж детей не будил, как жена говорит, что я их работой замучил, – может, и вправду замучил, – а день сегодня воскресный… Им же нужно корову пасти, – ну, а я: «Ничего, говорю, нехай уж я сам попасу и корову ту и телку… Я себе поцапаю, а они там в низочку хай походят, попасутся, ничего…» И вот я их выгнал, и черна моя корова, – ей абы б возле нее шо-сь краснело, а то скучать будет… Была ж у меня и красна корова, – ну, ту я продал… В резню продал и дешево продал, – ну, так я ж никого не обманувал, не сказал, шо така корова, така корова, – три ведра надоишь!.. И она, как погода плохая, так она валяется и не встает… Ревматизмы или что у ней, быть может, что она и день валяется, и два, и даже три, бывало… И жрать не жрет… Какое от нее молоко?.. И мяса того ежели мясник наскребет с нее десять пудов, – его счастье!.. Ну, привязал я туго телку за веревку до кустика, – а там трава такая, что вырывал я ее, вырывал и никак вырвать не мог. Ну, пусть же, думаю, скотиной своей попасу… Корова, та умная, та понимает, что на табак ей идти нельзя, та пасется, а эта, стерва, маленькая, а хи-итрость в ней: оглянется на меня, видит – цапаю, а сама надуется загривком, веревку чтоб от кустика оторвать… Я вижу это, а сам думаю: «Куда уж тебе! Ты же паршивая!..» И что же она все-таки? Оторвала ветку и так это швидко-швидко, как у нас говорится, идет-идет, и куда же? Прямо в табак!.. Я ей кричу: «Ты-ы!.. Куда?» А она оглянется, видит, что я далеко, думает: «Ни-че-го! Ты меня не догонишь!..» А сама дальше!.. А там же шпорыш промежду табаку, а он же сладкий!.. Ну, ты же, стерва, табак мой топчешь ногами, хоть ты его и не ешь, а это же чистый вред называется!.. Я грудку взял, в нее бросаю: «Куда, стерва?» А она себе дальше… Я цапкой в нее кидаю, ну, конечно, далеко, не докинул, а ей вроде бы игра: посмотрит, а сама дальше! И веревка та, ведь она за нею же волочится, а табак еще маленький, она же его, веревка та, душит… Не иначе – бежать мне туда к ней… Бегу, а она еще дальше… И хвост задрала, бегает по табаку… Игра тебе, стерва? Тебе игра?.. Вот же я распалился!.. До того я распалился, думаю: «Ну, догоню, убью!..» Я ведь ночей не спал, руки-ноги мне ломят, и пальцы все у меня потрескавши, болят… Из-за чего же все это? Из-за табаку. А она, стерва, по этому табаку, хвост задравши!.. Бегу я к ней, а сердце у меня: бух! бух!.. Как все равно кузня там… и в глазах у меня пот красный… И уж даже телку ту насилу разобрать могу от того поту… Бегу, – конец ей; убью!.. А она (хи-итрость в ней!) крик мой поняла и домой норовит через овраг… А веревка, конечно, за ней… А тут куст один колючий, – боярышник у нас зовут, не знаю, как по-вашему… Она мимо того куста, а веревка же само собой узел на конце имеет, и в том кусту застряла… Телка моя с размаху, как бежала, хлоп!.. (Тут Дрок проворно присел на землю показать, как именно хлопнулась телка.) Так что передние ноги под нее, а задние в обе стороны (это он тоже показал). Называется по-нашему «расшагнулась»… Если б старая корова так, ту бы означало резать, та бы уж встать не должна… Ну, а у телки кости еще мягкие, хрящик… Лежит она, бедная, а я к ней добегаю: «Ага, сволочь!.. Ты от меня бегать?!» Да грудкой ее в спину!.. Да еще грудкой!.. А веревка же ей глотку затянула, язык она вывалила, и глаза у нее даже закоченели. Я же внимания на то не обращаю, я знай ее колочу. «Ну, думаю, сейчас ей живой уж не быть!» А сам думаю: «Вот так и людей убивают…» И жалости у меня к ней ни вот такой капли (Дрок показал кулак)… Не жалость, а стремление одно, как ее половчей ударить… Ногой я ее поддел, она кувырк с бугорка… Ну, думаю, подыхает… И откровенно сознаюсь вам, ничуть мне мою телку не жалко, а только у меня одна радость: «Не ушла же ты от меня, стерва!» А она, вижу, дернулась и стала, под бугор она уж упор своим коленям имела, веревка ей отпустила… Стала и на меня глядит и дышит… А я… тут колючий куст такой, будяк по-нашему, – он цветами красными цветет и много от себя веток пускает… Сорвал я его, бью ее будяком по морде: «Ты будешь? Ты будешь? Будешь по табаку скакать?» И такая у меня радость, поверите, что не по ее вышло, а я ее настигнул… А корова моя, как я думал, она умная, посмотрела – меня близко нет, – дай, думает, и я пшенички попробую… Залезла так, где погуще (Дрок чиркнул себя по животу), тут спешит, рвет… Я ей: «Манька! Манька, черт!» Безо внимания!.. Я телку бросил, как она уж все равно уйти не могла, бежу к ней… А та, все же она умнее телки, повернула на прежнее, щипет, а сама на меня смотрит… Добежал я до ней, как хватил вот так, извиняюсь, за роги (тут Дрок очень крепко схватил Веню за обе руки и выкатил страшно глаза): «Ты-ы что это, а?..» Ведь это уж целая животная, а не то что телка… Роги у ней вострые, а я к ним животом пришелся, к рогам… Держу ее, а у самого думка: «Двинет меня сейчас, ведь это животная, я и полечу!..» Думка есть, а руки знять я уж не могу, а только давлю крепче… (Тут Дрок сдавил руки Вени, как клешнями, и нижняя челюсть у него задрожала.) И так я минуты три стоял, и корова стояла… «Почему же она стоит? – так я себе думаю. – Потому не иначе, что вошла она в понятие, и мне она стала покорная… Ведь я же работаю, разве она не видит? Ведь я же всю эту землю расковырял на ее почти глазах, а она корова уж немолодая…» – «Ты ж понимаешь, тварь ты?!.» Вот так ее за роги трясу (он показал и это на руках Вени). Она стоит вкопанно… И до того мне была тогда радость… Вот, думаю, стою, и Петр Великий также… сына родного убил!.. За что же он его убил? «Я город на болотной местности строю, а ты моей смерти только ждешь, чтобы всю мою работу к свиньям!..» Я извиняюсь. «Так я ж тебя уддушу, сволочь ты этакая!.. Потому что ты мой кровный сын, и должен ты меня пуще всех чужих слушать: я тебе отец, а не что!.. А ты против свово отца идешь, ты его смерти ждешь, так вот же тебе смерть за это!..» Правильно!.. И я бы так само сделал… И вот тут думка моя на вас… (Он отпустил, наконец, руки Вени.) Говорил же, думаю, мне человек этот как-то: «Подчиняться надо, а что из того выйдет, потом уж смотреть!..» А я осерчал тогда на вас, извиняйте… Вот корова моя мне подчинилась, и большой шкоды она мне не сделала, и она послушная в моих руках… Може, думаю, она поняла своего хозяина, что нельзя ему вред приносить… «Тебе сейчас есть что кушать, а зимой из этой пшеницы отруби тебе будут, а год плохой будет, и солому пожрешь, все ж таки ты жива будешь, а вот пущу я тебя зимой на снег, ты и сдохнешь…» И так я, за роги взявши, минут, должно, не три, а десять стоял… Я об своем думаю, она, животная, об своем, и только ноздрями дышит… А только вижу я так, стали мы оба с нею согласные… «Ну, говорю, теперь иди, и бить тебя не стану…» Она два шага прошла, головой поболтала и опять себе траву щипать, а я за цапку… А довольный я от этого утра вот до чего! (Он опять чиркнул по шее.) Ну, с тем до свиданья!..
И Дрок снова протянул Вене желтую ладонь.
Ванька пас корову и насмотрел в канаве среди давнего мусора что-то позеленевшее, медное.
Ковырнул ногой, – оказалась небольшая граната.
В апреле восемнадцатого года штук двадцать таких гранат было послано с советского истребителя в город, занятый тогда отрядом контрреволюционных повстанцев – татар, и этого было достаточно, чтобы отряд кинулся в беспорядке в горы.
Граната, найденная Ванькой, должно быть, была кем-то потеряна, и никто не заметил ее целых десять лет. Таинственная, прильнула она теперь к рукам Ваньки, и он зажал ее крепко, по-воровски оглядевшись кругом.
Тут же в канаве он обтер с нее приставшую землю, потом куском кирпича старательно очищал с нее зелень, пока не заблестела, как новенькая. Теперь она стала похожа на большой ружейный патрон, и только теперь догадался Ванька, что именно он нашел.
Когда подошли к нему двое других пастушат, ребятишки счетовода Штукаренки, он сказал им важно, показав гранату:
– Это, вы думаете, что, а?.. Это, брат, такое, что стреляет!
И Ванька поднял гранату, как револьвер, и прищурил глаз. Штукарята отбежали с визгом. И так пугал их Ванька несколько раз, пока не надоело. Потом положил гранату на землю и стал швырять в нее камнями.
– Сейчас выстрелит! – предупреждал он Штукарят торжественно.
Нацеливался, иногда попадал и даже сбрасывал ее с места камнями, и она откатывалась, поблескивая начищенными пятнами, но не стреляла.
Даже и Штукарята осмелели. Одного из них звали Олег, другого Игорь, оба они страдали полипами и держали рты, как голодные галчата. Старший, Олег, счел даже своим долгом осмелеть гораздо больше, чем брат.
Он подошел к самой гранате, подбросил ее ногой, отбежал и засмеялся игриво:
– Вот это так стрельнула!
Ванька в досаде на это крикнул запальчиво:
– Не трожь!.. По морде получишь!
Однако граната стрелять не хотела, – это была обидная правда. И разыскав в той же канаве среди мусора толстый гвоздь и зажав в руке камень-голыш, Ванька взялся за свою находку насупленный и сердитый.
У Штукарят тоже была корова и телка, как и у Ваньки, и теперь четверо четвероногих, дружелюбно обнюхавшись и закинув на спину хвосты, разноцветно мелькая между кустами, бодро уходили от своих пастухов, склонившихся над своенравным медным цилиндром.
Очень много было солнца, и застоялся около воздух до большой густоты. В стороне от ребят домик с двумя старыми кипарисами явно спал, разомлев; синие тени от кипарисов на белой стене тоже спали; смолою пахло удушливо…
Ванька сидел, вытянув ноги и между ног положив гранату, по которой то здесь, то там с размаху рассерженно бил камнем. Надорванный козырек его кепки болтался отчаянно, так что Олег, сидевший на корточках около, следил за этим козырьком, разинув рот, а Игорь стоял на коленях и очень внимательно смотрел на медную штуку, дыша с прищелками и сипом.
Камень, которым орудовал Ванька, был тонкий, и разбился, наконец, надвое, а медная штука только непобедимо поблескивала.
Игорь решил презрительно:
– Она не будет стрелять! – и поднялся с колен.
Но Ванька тут же скомандовал ему:
– Поди камень-дикарь найди, какой побольше!.. Ступай, тебе говорят!..
И ворчал ему вслед:
– Тоже знает один такой: «Не бу-дет»!..
А когда Олег хотел взять в руки гранату, Ванька ревниво толкнул его в бок:
– Не трожь! – и глаза сделались разбойничьи.
Тоненький девятилетний Олег только наполовину закрыл рот, но обида Ваньки была ему понятна, а Игорь уже тащил преданно порядочный кусок серого гранита.
– Ага!.. Есть такое дело! – важно сказал Ванька, принимая камень. – Вот теперь она у нас стрельнет!
Он поковырял гвоздем в одном замеченном им месте, – оказалась забитая сухой землей впадина. Сюда вставил он кончик гвоздя, подмигнул обоим Штукарятам, плюнул на камень, точно колдовал, плотно установил в земле снаряд «на попа», еще раз примерил гвоздь, еще раз подмигнул весело и ударил по гвоздю изо всей силы.
Десять лет дожидавшийся такого именно случая маленький снаряд оглушительно разорвался.
Игорь был убит наповал: осколок попал ему в любопытно раскрытый рот и развалил череп. Олегу раздробило ногу. Ванька же отделался дешевле: ему только оторвало прочь левое ухо и сорвало небольшой клок кожи с головы.
Первой обратила на это внимание пестрая корова Штукаренки. Она присмотрелась издали к лежащим ребятам и замычала протяжно. Потом из того сонного домика с двумя кипарисами неторопливо вышел старичок, сделал из обеих рук козырек над глазами и долго глядел, почему так странно лежат и как будто стонут даже после какого-то грома трое ребятишек?
В больнице койки их были рядом: Ваньки с забинтованной головой и Олега, которому в лубок заделали ногу. Жена счетовода Штукаренки тоже лежала в женской палате, самому же счетоводу было не до больницы: предстояла ревизия отчетности в Горпо.
Босоногий Дрок сидел на табурете около койки своего старшего и глядел на его обмотанную голову остолбенело.
Сжимая на обеих ногах одни только далеко от других отставленные большие пальцы (он мог это делать), Дрок говорил придушенным голосом:
– Ты оказался всему этому делу зачинщик, и вот бог тебя перед неповинными спас… Они же молодше тебя и должны быть тебя глупее, а наказаны они дужче… И даже так (и тут он совсем понизил голос), что одного и на свете уж нет больше… Ты об этом что-нибудь думаешь дурацкой своей башкой? Думаешь или же нет?
Ванька отозвался угрюмо:
– А чего мне думать?
– Как это чего думать? Как чего?.. Ты, выходит, для неповинных убийца и враг, – вот ты кто!
Глаз Ваньки сквозь бинты глядел дремуче и невозмутимо.
Дрок снова понижал голос до шепота:
– Этот мальчик – он безногий калека теперь будет, и разве же он тебе простит?.. Никто свое уродство прощать не должон!.. Вот!.. И он так же само…
– А мне что? – спросил Ванька.
– Как это что? (Дрок разжал пальцы ног и сжал кулак.) Ты зачинщик этому делу, и бог тебя помиловал перед другими… Должон ты каждый день все молитвы читать утром и вечером…
Ванька молчал и глядел таинственно.
– Понял? – наклонился к Ваньке отец.
– Нет, – твердо ответил Ванька.
– Как это так «нет»? – отшатнулся Дрок, подняв брови.
– Зачем? – очень серьезно спросил Ванька.
– Молиться, что от смерти спас, зачем? – испугался Дрок.
– Кому это? – чуть насмешливо спросил Ванька.
– Богу, вот кому! – сказал Дрок громко на всю палату.
– А бога и вовсе никакого нет! – серьезнейше отозвался из-под бинтов Ванька.
Несколько длинных моментов Дрок сидел отшатнувшись и глядел только на белую, в тряпье, пухлую голову десятилетнего сына, потом он исподлобья оглянулся туда-сюда, не слышал ли кто ответа Ваньки, когда же убедился, что Олег Штукаренко спал (а соседняя койка в другую сторону от Ваньки была пустая), он просипел хрипло:
– Ты-ы… как это… смеешь так, подлец!
Ванька немного подождал с ответом, потом сказал просто:
– Так и смею.
– Кто же тебя наказал… и меня в том числе?
– Никто, – ответил Ванька.
– Ну, после этого издыхай! – бурно поднялся Дрок. – Издыхай, когда такая ты стерва!
И вышел из палаты торопливо и испуганно, ни на кого не оглянувшись кругом.
От ворот больницы Дрок, сам не зная зачем, но очень убористо шагая, пошел на квартиру к Штукаренке. Он не знал даже, о чем будет говорить с ним, только непременно хотелось ему узнать, есть ли в квартире его иконы.
Дрок был так растревожен, что даже не замечал, как он бормочет, глядя вниз на мелькающие свои пыльные босые ноги: «Кто больше наказан, тот больше и виноват!.. А Штукаренко же – он ведь член союза безбожников!..»
Наполовину ему казалось ясным это смутное дело, но если сам Штукаренко служил счетоводом и ему, может быть, иначе было нельзя, как сказаться безбожником, то жена его ведь просто была домашняя хозяйка, и на ее попечении росли дети.
Штукаренко от больницы жил далеко – в том же конце города, где и Дрок. Квартира его оказалась запертой, однако насчет икон Дрок справился у соседей. Икон не было.
– Та-ак! – понимающе качнул головою Дрок. Для него теперь совершенно ясной стала вся эта история с гранатой.
Чтобы попасть к себе, он должен был взять подъем и выйти как раз на свой участок. Подъем он сделал, не заметив его, – так он был поглощен загадкой, которую задала ему жизнь. Когда же он стал на перевале, то увидел в недоумении: по земле его ходил Дудич, длинный, жилистый рыжеусый человек, поселившийся с женою в той самой комнате, которая ему, Дроку, показалась так несчастно мала. Дрок нарочно присел за куст и видел, как Дудич растирает на ладони колосья его пшеницы, как рассматривает он початки кукурузы, как ковыряет землю в тех местах, где у него бураки, и морковь, и пастернак.
– Эгей!.. Товарищ Дудич! – заорал, вставая и стервенея, Дрок. – Вы что там у меня хозяйнуете?
И прыжками, не предвещавшими для Дудича спокойного разговора, он ринулся вниз. Дудич посмотрел на него, пожал плечами и, так как стоял он около ограды, то, спустив колючую проволоку с кола, перешагнул, высоко занося длинные ноги.
Даже и еще шага на четыре отступил от ограды Дудич: очень зло полыхали черные глаза Дрока, когда подбегал он к ограде, крича:
– Вам это чего у меня… надо было?
Дудич покачал головою:
– Вот же человек вздорный, ай-яй-яй!.. Ну что же, я у вас украл что или как?.. Не украл же, нет, глядите! – и показал руки не менее дюжие, чем у Дрока.
– То я хорошо и сам видал, что не украл, а чего бы я ходил-топтал по чужому участку, раз он есть чужой? – кричал Дрок.
Дудич расправил рыжие усы, покивал головою, громко плюнул вбок, не спеша повернулся и пошел, чуть согнув широкую спину, из тех спин, которые любят землю и которые любит земля.
Не совсем безразлично относился Дрок к Недопёкину: пожалуй, он его даже побаивался немного.
Было однажды с ним такое, что, вполне доверчивый к своей земле, он выкопал из нее фалангу, которой никогда не случалось ему видеть раньше. Ядовитое паукообразное поднялось на задние ноги и кинулось на лопату Дрока. Ему даже показалось, что оно пискнуло при этом, и он отступил в недоумении шага на два и потом целый день был в раздумье.
– Ну, уж ежели пауки стали пищать и на людей кидаться, так это что же? – говорил он Фросе, и в этот день все ему казалось подозрительно преображенным.
Так же пугающе на его глазах – правда, не в один день – преобразился Недопёкин, и если он не мог бояться старика, совершенно бессильного, конечно, то зато он начал бояться старости, которая всесильна, и когда-нибудь с ним, Дроком, сделает то же, что с Недопёкиным. Теперь и старость Дрок представлял именно такою: она белая, она колченогая, она глупая, она сама не знает, зачем бременит землю, она просит, чтобы ее отравили, только потому, что отлично знает – никто не будет ее отравлять, так что и в глупости ее есть какая-то хитрость, а зачем эта хитрость? Между тем несколько лет назад Пантелеймон любил говорить с Недопёкиным, потому что тот, тогда еще не разбитый параличом, говорил очень складно: Дрок даже почтительно его слушал, как ученик учителя.
Когда простые, кряжистые землеробы, родились ли они в Звенячке или другом селе, подходили к сорока годам, они начинали прислушиваться к белобородым.
Сорокалетние сами подходили к завалинкам, искали мудрости шестидесятилетних: так строилась неторопливая прежняя жизнь во всех Звенячках, и Дрок подходил к Недопёкину, будто повинуясь инстинкту.
Они оба были крикливы, но здесь, на пустынной горе, они иногда понижали голос, как заговорщики, и часто оглядывались в стороны и назад.
Но было одно, о чем они говорили громко, – это о боге. Дрок верил в то, что одна белобородая старость только и может знать об этом как следует, и видел, что Недопёкин знал. И, поговоривши с ним так час и более, Дрок начинал сверкать глазами, краснеть от шеи к ушам, и, вытянув пальцы к самым глазам старика, он кричал, сгибаясь в поясе:
– Там за другое что нехай они говорят, что им завгодно!.. Но уж что касается за бо-ога, то уж за это любо-ому я выдеру очи!
Однако оглупел Недопёкин на его глазах: стал косноязычен богопознавший, неподвижен, неопрятен, даже и страшен чем-то нелюдским; и еще заметил Дрок, как другие исконные хранители мудрости старики или глохли, или слепли, или совсем обрушивала их жизнь, как хлам, как ветошь; прежде их было куда больше, прежде они были гораздо заметнее.
По воскресеньям Дрок неизменно ходил в церковь. Он делал это торжественно. Он брал за руку кого-нибудь из своих мальчуганов и медленно шел по набережной к церкви. На голове его важно чернела фетровая шляпа. Она чернела так не только зимою или осенью, даже и летом; просто шляпа эта была то самое, в чем он, Дрок, должен был идти к обедне. Очень угловатое лицо Дрока под этой шляпой казалось каменно-величавым.
Когда его выбрали председателем церковного совета, он не только не удивился этому, но сказал серьезно и с достоинством:
– А кому же еще больше и быть председателем? А вже ж больше и некому, как мне!
И если прежде он был в церкви только очень показательно богомолен, то теперь, входя в церковь, он становился даже, пожалуй, высокомерен, как всякий, облеченный властью.
Землетрясение сильно повредило церковное здание, и это было первое, что поразило Дрока. Можно сказать, что трещины, засквозившие под куполом, в нем самом засквозили. Он и бежать хотел из Крыма больше поэтому: стало ясно вдруг, что действительно должен провалиться Крым, если даже церковь лопнула вкруг всего купола и накренилась колокольня. Он подходил теперь к церкви, не надевая шляпы, а подходить нужно было часто: в церкви запретили службы, даже хотели закрыть ее совсем как опасную для населения. Когда толчки прекратились и перебрались люди из легких фанерочных палаток в свои дома, заметались по прихожанам поп, древний уже, в линючей лиловой рясе, и дьякон – помоложе, похитрее, в рясе из темно-синего репса. Поп выписывал даже «Вестник знания» и пытался вчитываться в статьи о морской капусте, о путешествиях угрей, об электронах и протонах, всячески пытаясь для самого себя согласить старую религию с новой наукой, но дьякон давно уже махнул на все рукою и шил на продажу мишек из бежевого кретона; он делал бы их из плюша, но где же было взять плюш?
По склонности к некоторому озорству и по насмешливости своей натуры он придавал мишкам из кретона весьма плутоватый вид, а так как ценой на них не дорожился, то шли они довольно бойко, и не только местные гречата, даже и гораздо более косные татарчата увлекались мишками дьяконовского изделия. Беда была только в том, что трудно было доставать подходящий кретон, поэтому на всех торгах можно было увидеть дьякона: жадно следил, не появится ли какая-нибудь старая, но пригодная рухлядь.
Кроме того, он очень искусно делал чучела из птиц, но это уменье приносило ему гораздо меньше пользы: на чучела меньше находилось охотников.
Так как Дрок ни одному из своих ребят никогда не покупал никаких игрушек, считая это баловством, то не уважал он и дьякона, но попа он спросил шепотом, кивая на треснувший купол:
– Как понимать это, батюшка?
Древний поп, кутаясь в лиловую ряску, сидел около окна и читал в это время в «Вестнике знания» статью под ошеломляющим заглавием: «Действительно ли шаровидна земля, или она – многогранник?» – и, с оторопью сквозь круглые очки глядя на Дрока, он ответил ему также шепотом:
– Испытание!
Этот ответ был как раз тот самый, которого желал Дрок, поэтому рабочим-строителям он всячески силился внушить, что ремонт церкви они должны сделать бесплатно.
Деньги на ремонт собрали, церковь поправили, опять зазвонила колокольня, но беспечный церковный совет не застраховал рабочих. Он не страховал их и раньше, когда приходилось делать покраску крыши, побелку стен. Наросла большая пеня.
Между тем зажиточные раньше и богомольные греки, бывшие лавочники и табаководы, теперь обеднели. Зашушукались русские старушки и начали было ходить по дворам, кланяясь низко и жалобно выводя:
– Пожертвуйте, что в силах ваших, на церковь божию!..
Но очерствели людские сердца.
Собрали так мало, а срок уплаты по суду в страхкассу был уже так близок, что дьякон забрал все, что было собрано, сказал совершенно убитому и растерявшемуся попу, что поедет жаловаться куда-то в центр и на суд и на страхкассу, и действительно уехал, и прошла неделя, две, шла третья, а он не возвращался.
Для Дрока настали дни настоящего испытания: теперь он должен был спасать церковь, он один. Последнее, что прочитал ветхий поп в «Вестнике знания», было: «Фотографирование желудка». Это новое изобретение какого-то американца было для него каплей, переполнившей чашу всяческих бед: он слег, укрылся лиловой ряской, и, когда к нему приходили старушки справиться, как же быть с деньгами, он тянул жалобно:
– Что же я-я?.. Отхожу уж я!.. Идите к председателю совета… Он это должен…
И отворачивался лицом к стенке.
Дрок взялся было за дело яростно, как за всякое дело. Так как шел уже октябрь, то земля отдыхала от него, он от земли, и в маленьком городке на узеньких улочках он метался в волнении чрезвычайном. Он обходил прихожан уже не вымаливая, как старушки, а требуя. Он кричал и ругался. Из двух квартир его выгнали. Одна скромная женщина на всю улицу кричала ему вслед:
– Вымогатель!.. В милицию сейчас пойду!.. Вымогатель!..
К концу третьего дня метанья по городу Дрок чувствовал себя куда более усталым, чем это было при его обычной работе: как будто бы церковь падала, а он вздумал ее поддерживать, упершись ногами и подставив плечи – ноги у него начали дрожать, спина ныла. Даже и Фрося решилась сказать ему:
– И будто бы церковь, что же она, – ребят, что ли, наших будет кормить?
Сказала между делом и пошла доить корову, но Дрок ничего не нашел, чтобы ей ответить: подходил уже срок взноса денег, и грозили описать его имущество.
– Как это вы говорите: описать? – яростно спрашивал Дрок.
Ему ответили:
– Очень просто: описать имущество и продать с торгов.
– То есть, это значит и мою хату тоже?
– Раз вы председатель, то значит с вас первого и начнем.
В страхкассе сидели серьезные люди, Дрок это видел. Ему начало казаться, что делатель детских мишек и птичьих чучел просто ограбил церковь, весь приход, ограбил и его, Дрока, тоже, потому и бежал.
Однажды он встал в три часа ночи, зажег лампочку и на клочке линованной бумаги дрожащими неуклюжими буквами написал объявление в газету:
«Я, Пантелеймон Дрок, совершенно от леригии отказуюсь!»
Ему казалось, что написать надо было гораздо больше и объяснить все, но сведущие люди, с которыми он толковал в этот день, сказали ему, что чем объявление длиннее, тем дороже.
Утром он послал это объявление, положив в конверт рублевую бумажку.
Объявление напечатано не было; рублевая бумажка пропала так же, как пропал без вести и дьякон, но Дрок больше уже не хлопотал о церкви.
Кстати, ветхий поп отошел, и церковь отдали под клуб пионеров.
Давно мешал Дроку большой камень на его земле – кусок серого гранита, и когда вырыл он ниже камня копанку для дождевой воды, явилась дельная мысль спустить камень в копанку: пусть там и лежит.
Но, заложив лом под камень и понатужась поднять его, почувствовал Дрок, что хряснуло у него в пояснице, и руки сразу стали бессильны, и обмякли ноги. Лом он оставил под камнем, а сам, звериным инстинктом почуяв, что надо скорее домой, смурыгая ногами, согнувшись, опираясь на держак цапки, кое-как добрался к себе и лег на кровать в сапогах, как был, а когда хотел подняться и снять сапоги, не мог уже этого сделать.
Фрося, придя с базару, спросила крикливо:
– Ты что же это – с грязными чоботами на одеяло?
Дрок поглядел на нее кротко и ответил вполголоса:
– Вступило.
Он слышал, рассказывали старики, что иногда что-то такое «вступает» в поясницу, и уж не сомневался в том, что это оно самое и есть. В небольших лесовых глазках его была теперь не только кротость, еще и недоумение, и даже испуг, и тоска, пожалуй.
Когда Фрося принялась стаскивать с него сапоги, он вскрикивал и стонал от боли.
– Что же это такое обозначает? – робко спрашивал он жену.
– А по-чем же я зна-аю?.. – кричала Фрося, и зеленоватые ее глаза с золотыми искорками выражали не сожаление к нему, а в них была – он это видел – явная злость.
Только теперь, лежа бездельно на спине весь день, он замечал, как нет у нее ни минуты времени для жалости к нему. То она готовит у плиты, то рубит дрова, то идет кормить и доить корову, то бежит отбивать курицу у ястреба, и визжит при этом пронзительно, чтобы его напугать, то укачивает маленькую, то оттаскивает от дверей Алешку, обдуманно набивающего себе шишку на лоб, то утешает плакучего Кольку, то чинит рубаху Митьке, то разнимает Ваньку с Егоркой, которые вцепились друг другу в волосы, сосредоточенно колотят друг друга ногами и сопят… А вечером, при лампе, он знал, ей надо еще сидеть допоздна, за папушами.
– Может, ты бы в больницу меня? – робко сказал ей Дрок на другой день утром, увидя, что ему не лучше.
Но она ответила сурово:
– Куда это в больницу?.. Лежи уж! – и растерла ему поясницу скипидаром. Она помнила, что во время голода, когда у соседей валялась и била ногами лошадь, растерли ей крестец скипидаром, и она вскочила как встрепанная. Она думала, что так же вскочит и Пантелеймон, но он не поднялся.
На ночь она растирала его камфарным маслом, утром – горчичным спиртом; однако и это не помогло.
Как-то летом, когда здесь были приезжие, привлекаемые широким пляжем, и поселялись они не в одних только домах отдыха, Фрося носила молоко на одну небольшую дачку, и ребята из того времени запомнили такую сцену:
– Кому молоко раздала? – спросил отец.
– Денег не получала, бо такие, шо постоянно брать будут, – ответила мать.
– Значит, их записывать же надо или как?
– Вот и записуй: тому, что бородка рыжая, – этому две кружки, – бойко стала перечислять мать.
– Как это бородка?.. Какая бородка рыжая?.. Фамилие его как? – крикнул отец.
– Даже фамилии я не спросила!.. А тому еще, дверь у него тугая, он сам из себя бритый, худой, – так тот полторы кружки взял…
– Как же это я его должен записывать?.. Дверь тугая?.. – кричал отец.
– Ну, а что такого?.. Ну и «дверь тугая»!.. – кричала и мать. – Он рукастый такой, я его помню… А женщина еще одна взяла, – она стриженая под бобрик и так что юбка до колен… Этой кружку одну…
– Черт тебе пусть записывает!.. «Юбка до колен»!.. У всех теперь юбки до колен! – и отец разорвал бумажку и бросил на пол, туда же и карандаш швырнул, дверью хлопнул и на дворе потом долго еще ругался.
На другой день мать пришла уже довольная и сказала отцу:
– Ну вот, узнала, как ихние фамилии, а ты уже думал: они с нашим молоком куды-сь забежать должны!.. Этот, шо бородка рыжая, – он опять две кружки взял, и молоко ему понравилось, – так этого звать Зайчик…
– Зайчик? – переспросил отец.
– Зайчик… А тот, бритый, рукастый, так тот Мейчик…
– Как это Мейчик?
– Ну, а черт его знает!.. Мейчик… Так мне сказал и даже на записочку записал, – там, в бетоне, записка… Он по одной кружке брать будет, больше ему не нужно… А женщина, юбка короткая, та – фамилие Тонконог.
– Тонконогова?
– Сказала так, явственно: Тонко-ног!
– Почему же они такие подобрались?
– А я знаю? – ответила мать и пошла мыть бидон.
Они же, ребята, старшие трое, переглянулись, и Ванька густо сказал Егорке:
– Зайчик!
– Мейчик! – тут же отозвался Егорка.
– Тонконог! – подхватил бойкий Митька.
И через минуту они уже кружились по комнате, приплясывая, притопывая, подпевая:
– Зайчик, Мейчик, Тонконог!.. Зайчик, Мейчик, Тонконог!.. Зайчик, Мейчик, Тонконог!..
– За-мол-чать, гадюки! – крикнул на них отец. – Песня вам это, что ли?.. За-мол-чать, босявки!..
Но так просто взять и замолчать, когда такое подвернулось, не могли, конечно, ребята, и стоило только одному сказать: «Зайчик!» – как другой подхватывал: «Мейчик!» – и ими овладевал бес крайней веселости, и не добавить еще и «Тонконог!» было совершенно невозможно.
Тогда отец избил их.
Но вот теперь он лежал днем на кровати – широкой, желтой, деревянной, кровати – непривычно неподвижный, и глаза у него ввалились. И именно теперь, когда матери не было дома, маленькая спала в люльке, а Колька с Алешкой возились где-то на дворе, около коровьего сарая, когда только они, трое старших, расположась около плиты, азартно играли в перышки, Митька сказал вдруг радостно и звонко, точно его осенило что-то необычайное:
– Зайчик!
– Мейчик! – глухо подхватил Егорка.
– Тонконог! – припомнил Ванька.
Они перебросились этими подмывающими словами, как боевыми сигналами, несколько раз и вдруг закружились по комнате неудержимо.
– Зай-чи-и-ик, Мейчик, Зайчик-Мейчик-Тонконог!.. Зай-чи-ик, Зайчик, Зайчик-Мейчик-Тонконог! – в упоении визжали они по-поросячьи.
– За-мол-чать, вы! – крикнул было Дрок, подняв голову, всклокоченную и в пуху.
Они видели, что теперь отец не погонится за ними, не вскочит даже, что он будто связан веревками, а они – вот они, возьми их теперь за уши! – им хочется визжать, и они визжат, и топают, и пляшут, и кувыркаются… «Зай-чи-ик-Мейчик, Зайчик-Мейчик-Тонконог!»
Разбуженная, залилась звончайшим плачем маленькая в люльке. На пение и крик пришли Колька с Алешкой и, сразу поняв, что надо делать, тоже начали подвизгивать и подтопывать, и вот уж пятеро закружились около неподвижного Дрока, голося разноголосо:
– Зай-чи-ик-Мейчик, Зайчик-Мейчик-Тонконог!
Дроку стало, наконец, страшно.
– Я же вас породил, босявки, и вы же меня так, гадюки! – пытался он кричать, протягивая к ним руки с разжатыми пальцами.
Но они пятеро заглушали его, а маленькая шестая будто вторила им пронзительным плачем.
– Фро-ося!.. Да куды же тебя черти унесли! – старался перекричать их Дрок.
А старшие трое, точно входя в больший и больший задор, стали подскакивать к нему. Он размахивал руками, стараясь напугать их. Но они увертывались от рук, ноги же его были беззащитны, ногами он не мог двигать от боли.
Дрок начал шарить кругом себя глазами, чем бы в них бросить, но, кроме подушки, нечего было захватить руками. Бросил подушкой, стараясь попасть в наиболее верткого и горластого Митьку, но попал в Алешку и сбил его с ног. Алешка стал очень часто и деловито стукаться об пол затылком, чтобы зареветь в голос.
К маленькой, все продолжавшей брать самые высокие ноты в своей люльке, пристал Алешка, набивший, наконец, порядочную шишку на затылок.
Проходивший мимо старый печник Заворотько услышал визг и плач и завыванье и зашел в раскрытую дверь. Он думал, что в домишке Дрока покойник. Стаскивая картуз левой рукой, он уже приготовился креститься правой, и когда ребята замолчали и отодвинулись, увидел, подслеповатый, что лежит на кровати длинное тело.
– Вот тебе на! – сказал он оторопело и горестно и закрестился частыми крестиками.
– Держи их! – закричал вдруг ему вне себя Дрок.
Заворотько, как ни был слеп, разглядел перекосившееся яростное лицо Дрока, перестал креститься и спросил недоумело:
– А чего ж ты их сам не фатаешь?
Между тем ребята брызнули на двор, только Алешка остался сидеть на полу, но уже отхныкивал и глядел на высокого старика с любопытством.
– Я их воспитую, я их кормлю-пою, а они – вон как они! – жаловался Дрок Заворотько.
Заворотько пощупал плиту, нет ли где трещин, нашел табуретку, сел в головах у Дрока и слушал его долго и участливо. Даже встал и покачал люльку, чтобы заснула маленькая. Он любил заходить туда, где клал печи, потому что часто угощали его вином. Для поясницы посоветовал свиного сала пополам с керосином. О ребятах сказал:
– А какие теперь ребята?.. Так, абы что… Они теперь, чуть отец их за вухи, в милицию заявляют, – вот как!..
И, слушая жалобы Дрока и думая о вине, часто вставлял:
– Вот же пропала твоя хозяйка, ну и пропала ж!.. Чи не забегла до какого-сь суседа дальнего?.. Вот так про-па-ла!
А когда пришла, наконец, Фрося, запыхавшись и кинувшись от дверей к люльке, Дрок только приподнял голову ей навстречу, покачал головой и отвернулся к стене.
Ветеринар Обернихин, тощий, задумчивый человек в бурке, на которую садились ленивые пухлые снежинки, и в рыжей кубанке с белым верхом, стоял в дверях коровьего сарая Дрока и говорил медленно и важно:
– Да-а… Случай из рук вон замечательный…
Он появился в городе не так давно, – раньше был другой, очень речистый, толстый, хороший охотник на зайцев, но его перевели в Вятку, а об этом говорили, что он не то из Томска, не то из Омска, вставая по утрам, поет тягучие сибирские песни и едва ли даже ветеринар.
Пахом Безклубов, извозчик, – Дрок знал это, – привел к нему недавно свою серую кобылу, которая перестала есть, и обстоятельно объяснял:
– Зуб у нее, понимаете, сломался кутний, и тычет он ей, понимаете, в самую мякоть востряком… Разумеется, по причине такого востряка кушать она отказывается совсем… Желаете посмотреть? Сейчас я ей рот раззявлю…
– Нет, зачем это? – сказал ветеринар. – Не видал я зубов кобыльих?.. Зуб, он и есть зуб… Чем я могу ей помочь, ежели он сломался?
– А как же, товарищ? – удивлялся Пахом. – Тут дело сущий пустяк… Машинка такая есть зубная… Ее, машинку, к зубу приставить, посля того толконуть, – он и долой…
– Машинка такая есть… Угу… А хотя бы ж машинка была, – как же ей зубы разжать, твоей кобыле?.. Ты ей разожмешь, а она тебе палец оттяпает…
– Зачем же, товарищ, своими пальцами действовать? – удивлялся Пахом. – Для этого ж растопырка такая есть, она и действует…
– Ага, растопырка… Растопырка – это другое дело… Это, конечно, можно представить…
– Так, стало быть, выбьете, товарищ?
– Что выбью?
– Да зуб этот…
– Ни-ка-кой рас-то-пыр-ки у нас тут не-ет!.. Ни-ка-кой ма-шин-ки не-ет!.. Понял?
– А как же быть теперь?
– А так же… Написать можно в центр, может, там имеются… растопырки эти всякие… Бумагу написать об этом…
– Так это же сколько времени ей, бедной, ждать придется? – испугался Пахом.
– Сколько?.. Может, неделю, а может, весь месяц…
– Так она же околеть через это должна, кобыла моя! – ударил горестно ее по крупу Пахом.
– Небось!.. Захочет жить – не околеет…
– Пойдем, Дунька, к кузнецу, когда такое дело!
И повел Пахом свою серую Дуньку в кузню, и кузнец Гаврила, запойный пьяница, с раздутым синим лицом, выбил ей зуб без растопырки и без машинки, действуя только молотком и пробоем.
Рыжую телочку выгнали из сарая, чтобы не мешала, и она жевала в стороне сухое, колючее перекати-поле, всячески изловчаясь забрать его в рот целиком, а Манька лежала, не подымая головы на Обернихина, как будто думая про себя, что он ей все равно не поможет. Дрок же так не думал, он боялся так думать, он надеялся тем более, что и сам он лежал пластом четыре дня, а вот встал же, встал, как только услышал от Фроси, что Манька отелила бычка такого же черного, как сама, только лоб белый. Это было рано утром, и он просто спустил ноги и пошел смотреть бычка: в ногах оставалась только слабость, но можно было держать при ходьбе тело так, что боль в пояснице отдавалась тупо и не при каждом шаге.
– Вот же я поднялся, – так говорил Обернихину Дрок, – человек один – ну, может, вы его и знаете, – Заворотько печник совет дал, чем помазать… Ну, неуж-ли ж для коровы какого средства нет?
– Подоила ее я утром, полную доенку дала, ну, правду сказать, шумы много было, – объясняла Фрося торопясь, а ветеринар перебивал вдумчиво:
– Какой же это такой «шумы»?
– Ну, по-русскому называется «пена»…
– Ага!.. Та-ак…
– А потом еще в кастрюлю бутылок пять дала… И ничего, на пойло кинулась с жадностью… Я ей и то молозиво ее отдала всю доенку, бычку и в кастрюле довольно, – и молозиво она выдула.
– Зачем давала? – строго сказал Обернихин. – Не нужно было давать…
– Ну, у нас же все бабы так привыкли, – и ничего…
– Глупо!.. Очень глупо…
– И сено потом трескала… А в обед пришла доить, тут уж она только три бутылки дала, и смотрю – на носу у ней пот холодный… Потом к вечеру уж легла вот…
– Помещение у вас для коровы скверное, – важно сказал Обернихин. – Хлева должны быть утепленные, отчего скотина прибавляет молока вдвое…
– У нас зима теплая и так, – и оглядел Дрок весь сарай, который он делал так старательно, одна на одну внаполз набивая доски.
– А это что такое: кровь у нее под хвостом? – вдруг спросил Обернихин, тыкая носком сапога в податливое вымя Маньки.
– Да ведь после стелу же! – удивилась Фрося и добавила с опасением: – Мне то страшно, а вдруг это стельная горячка у нее?
Она просительно посмотрела на впалый мутный глаз ветеринара, глубоко ушедший под выпуклую надбровную дугу, и глаз этот прошелся безразлично по ней, смерив ее от головного старого линялого платка до щедро унавоженных калош на босу ногу, а потом тонкие, плоские, как блинцы, не моложе как сорокапятилетние губы чуть шевельнулись:
– Все может быть… Может, и горячка стельная…
– Так ведь если ж горячка родильная, прививку скорей нужно делать! – весь так и подался к нему скрюченный в пояснице Дрок, который почувствовал, что от этих слов ветеринара опять «вступило».
– Выдумывают тоже! – отвернулся Обернихин. – Каки-е тут прививки?..
И в полутемном уже вечернем сарае около самой его двери, двигавшейся не на петлях, а на скрученной втрое жженой проволоке, скрестились четыре пары глаз: две пары острых, пронизанных и просветленных смертельным испугом, – глаза Дрока и Фроси, и две пары тусклых и равнодушных, безучастных к тому, что было около, – глаза поднявшей голову Маньки и ветеринара Обернихина, который услышал слабое призывное мычанье рыжей телушки и, еще раз пнув Маньку в вымя, спросил:
– А это взревело там – тоже от нее приплод?
Потом он поправил кубанку, запахнул бурку и медленно двинулся от сарая.
– Средство же какое-нибудь пропишите, – старался поспеть за ним, держась левой рукой за поясницу, Дрок.
– Завтра будет видно, какое ей средство, завтра об это время, – отозвался Обернихин и пошел неожиданно очень подбористо, делая широкие шаги, и бурка его развевалась при этом торжественно и неумолимо.
Дрок спросил Фросю:
– Что же он признал в ней?
Фрося ответила оторопело:
– Да ведь ты слыхал сам иль нет?.. Горячка стельная!..
И оба пошли снова в сарай, сели на корточках около Манькиной головы и поочередно щупали ей рога, насколько горячи, и ноздри, насколько они холодны и сухи.
– Мань!.. Мань, а Мань!.. – с расстановкой, искательно, с боязливой лаской в голосе сказала Фрося. – Или ж это тебе в голову вдарило, что я тебе, злодейка, доенку молозива дала?..
– Ма-анька! – закричал вдруг Дрок, схвативши ее за оба рога, как он это сделал раз, когда залезла она по брюхо в зеленую пшеницу. – Мань-ка, че-ерт!.. Ты что же это с нами делаешь?.. Вставай, стерва!.. Вставай, ну, вставай, черт!.. Вставай!..
И, сидя на корточках и не зная еще, сможет ли разогнуться и подняться сам, он тряс за рога корову, однако корова только вздохнула шумно и перебрала медленно лопушистыми ушами.
– А может, у нее тоже ревматизм? – попробовала утешиться Фрося, но Дрок, заметив подошедшего в это время Кольку, крикнул ему ожесточась:
– Гляди!.. Иди гляди, как корова наша подыхает!
Колька привычно поспешно спрятал в щелки глаза, открыл мелкозубый слюнявый рот и залился плачем.
К утру Манька действительно издохла. Войдя к ней часов в пять с фонарем (еще было темно), Дрок услышал, как выдохнула она с жужжащим глухим звуком, как из пустой бочки, последний воздух, уже вытянув ноги прямо и уложив голову покорно и покойно.
Рыжая телочка стояла, испуганно вдавившись боком в стенку сарая, и широкие глаза ее показались Дроку прозрачно-голубого цвета.
Проходивший часа через три в школу мимо хаты Дрока тщедушный, но неутомимый Веня крикнул Егорке и Ваньке, своим ученикам:
– Ребята, кирку и лопату бери!.. Вчера клыки мамонта нашли, пойдем откапывать!
Дрок спросил глухо и строго:
– Это какого такого мамонта?
– А это… вроде слона лохматого, – беспечно ответил Веня.
– Сло-на-а?.. Коровы бы дохли, а слоны бы водились?..
Дрок стоял скорченный, но, не вступись Фрося, он много мог бы наговорить ничего не понявшему Вене: глядеть на людей ему было трудно теперь: рябило в глазах.
Дул норд-ост.
На пристань шли и шли шальным пьяным приступом кипящие трехметровые волны; двухтавровые балки раскачивались, пристань скрипела.
Около, через речку, которая заметна была только зимою, когда шли ливни в горах, перекидывали новый железобетонный мост, хотя вполне исправен был деревянный старый, стоявший рядом, шагах в двадцати от впадения речки в море. Кучи пустых цементных бочонков нагромоздились тут же, и ветер стремился вырвать из них серую бумагу. В косматом от туч сизом небе сверкали крыльями и визжали голодные чайки. Вразнобой стучали обухами топоров плотники, делая настил для бетонной массы.
На толстом, сыром, краснокором сосновом бревне сидел Дрок рядом с татарином Сеит Халилем. Халиль был дрогаль, старик с очень морщинистым лицом, но с дюжими еще плечами. Глаза слабо были заметны, и Дрок не мог разглядеть и теперь, как никогда раньше, карие они или серые, но загнутый нос его был огромен.
– Ишь, рвет, черт губастый! – говорил о ветре Дрок, со злостью следя, как нагибались напротив, во дворе грека Гелиади, средних лет кипарисы.
– Тепер да меньше стал!.. А вчерась – ай-ай-ай, что он делал!
Сеит Халиль совсем сморщился, остались только нос да шишка подбородка.
– Я об этом и говорю, что овчора ночью он сарай мне раскрыл! – блеснул глазами Дрок. – Пьять пудов табаку загубил! Понял?.. Как линул дожж, так и… туда к черту!
– Це-це-це!.. Гм… Пять пуд!.. Табаксоюз тепер что давать будешь?
Шапка Халиля была дырявая; от зеленоватой, вытертой добела, лопнувшей подмышками теплой куртки пахло топленым бараньим салом. Он стал вдруг очень таинственным, когда подвинул свою голову к голове Дрока и сказал тихо:
– У меня лошадь купи, а?.. Тыридцать урублей дашь, айда, бери! Сто десят сам платил, правду тебе говорим…
– На черта мне лошадь зимой? – отвернулся от него Дрок.
– Как это, на черт, на черт?.. Тебе карова здох, сена остался!
– Ну?.. А твоя лошадь чтоб мое сено сожрала?
– Када купишь, не мой лошадь будет, твой лошадь будет: он мерин…
Мерин этот, белый, шершавый, с подстриженной гривой и куцым хвостом, запряженный в старые дроги, стоял тут же и оглядывался на Халиля, точно подозревал его в какой-то гнусности, а между тем Халиль его расхваливал, как умел:
– На гора куды хочешь, – айда!.. Он такой, кнут ему не надо, сам да идет!
– Что, другого одра приглядел, – купить хочешь? – спросил Дрок, зная, что лошади у Халиля долго не держались.
– Верна! – радостно ударил его Халиль по колену, и тут он поднял редковолосые брови, весь просияв, и в первый раз заметил Дрок, что глаза у него серые, даже совсем белесые, что редко встречается у татар.
– Не купишь ты, другой человек не купит, никто не купит, айда гоню его на яйла, нехай там пасется…
И Халиль сунул грязную старую руку Дроку, сел на дроги, крикнул, подобрав вожжи, и вот белый шершавый мерин, точно желая показать Дроку, что он совсем не такой одер, как тот думал, с места пустился скакать, как оглашенный.
Лошадей все продавали за бесценок, это знал уже Дрок; он думал раньше, не купить ли лошадь, теперь он видел, что не стоит, но почему не стоит, было не совсем ясно.
Два брата, плотники Денис и Никита Подскребовы, тоже стучали тут топорами, а техник, со значком на фуражке, считал толстые вершковые доски, в стороне лежавшие штабелем. Дрок прошел по старому мосту, серчая на этот крепкий новый лес, и думал о своем сарае, раскрытом бурей.
– Что лодыря гоняешь? – крикнул ему Денис.
Боль в пояснице прошла у Дрока, но осталась какая-то недоверчивость к ногам, и неуверенно поворачивалось тело, поэтому Дрок только повернул голову к Денису и перебрал нижней челюстью раза два, но ничего не ответил, прошел.
Он вышел узнать, нельзя ли получить страховые за корову. От ветра надвинул он старый суконный картуз на самые уши, а руки держал спереди, засунув их в рукава, как в муфту.
На своем месте, как всегда, сидела Степочкина Аксинья, пирожница. Раньше у нее была палатка на берегу, как раз около автомобильной конторы, и все, кто ехал дальше на Южный берег, покупали у нее яблоки, орехи, булки, копченую кефаль и мало ли что еще. Но палатку закрыли; теперь ее переделали, покрасили охрой, поместили в ней отделение кооператива, а Степочкина неизменно каждый день приходила сюда, садилась рядом на складном стульчике и устанавливала перед собой железный ящик, в котором горел примус: пирожки всегда были горячие.
Закутанная в теплый коричневый платок, с обычным обветренным багровым тяжелым лицом, она смотрела на всех с вызовом и упорством. Как будто все виноваты были в том, что прикрыли ее палатку, и надменные глаза ее говорили всем: «Хоть потоп, хоть издохну, а торговать буду!..»
Толстый отправитель автомобилей, стоя около конторы, покупал у охотника, цыгана Велиша, ободранного, ярко-красного, со страшными глазами зайца. Но два рубля за зайца ему казалось очень дорого; он повторял задумчиво:
– Гм, Велиша, Велиша!.. Чи ты сдурел?
– На вот, птица бери, полтинник дашь! – говорил Велиша. – Это, Исак, птица, ах! Чего-нибудь стоит!.. Называется баложник…
И он вытянул из своей сетки вальдшнепа за самый кончик носа, чтобы дичь казалась длиннее, больше… Пока проходил Дрок, они все никак не могли сойтись в цене, оба очень черные, только цыган выше и тоньше.
Два крепких хозяина, греки-виноградари, встретились Дроку дальше – Канаки и Кумурджи; глаза их были горячие.
– Тебе восемьдесят рублей нет позычить? – загородил ему дорогу Канаки, но Кумурджи насунулся на него сбоку и сказал тише, но внушительней:
– Я тебе, слушай, процент больше дам! Мне дай восемьдесят рублей!
Оказалось, оба получили повестки на уплату немедленно по восемьдесят пять рублей на землеустройство и вот ходят-ищут, у кого бы занять…
Направо от почты, на пустыре, где разобрали в двадцать первом году на дрова большой деревянный дом Пушкарева, увидел Дрок человек пять пожилых татар, а между ними письмоносца Желоманова. Желоманов, костлявый парень, низенький и с бельмом на одном глазу, но звонкоголосый, выкрикивал отчетливо:
– И еще надо вам то знать, товарищи, что уж не копать тогда вы будете под табак, которое, известно, работа вполне адская, а пришлют нам трактор сюда, и он враз все ваши земли перепашет на сто процентов!
А Мустафа Умеров (борода уже с большой проседью) подтянул широкие, красноватого толстого сукна шаровары и перебил его запальчиво:
– Постой!.. Товарищ, немножко постой, пожалуйста!.. Трахтор-махтор – что такое? Афф-тамабиль?.. Где у нас афтамабиль ходит, скажи?.. На соше ходит, другом месте не ходит!.. На соше что пахать будешь? Ка-минь?.. Другом месте – тама балка, тама го-ора, как ходить будет, скажи?
– Правильно! – буркнул Дрок, проходя мимо. – Морским цветом тут люди живут, а земля – она тут проклятая! Ее никакой трактор не возьмет…
Когда шел Дрок обратно, он встретил на пустой набережной знакомого белого мерина; рядом шел, держа вожжи, Халиль. На дрогах, прикрученный веревкой, покачивался и подскакивал простой некрашеный гроб. За гробом тяжело ступала, утирая слезы платком, Настасья Трофимовна.
Дрок понял: умер старик Недопёкин, везут его на кладбище закапывать в землю… Никто не будет больше кричать над его, Дроковым, полем: «Настя-a!..» Едва ли и сама старуха будет жить теперь так далеко, на отшибе, в пустом домишке: должно быть, переберется в город.
Дрок не говорил с нею с того самого дня, как Ванька разбил стекла, но смерть примиряет: он издали снял картуз и стоял так на тротуаре, пока проезжали дроги.
Халиль очень оживился, увидя его. Он крикнул:
– Смотри ты!.. Смотри хорошо!
И, подняв левую руку, распялил на ней пальцы и четыре раза наклонил ее так к нему, хитро кивая в то же время подранной шапкой на уныло шагавшего мерина.
Дрок понял, что он продает уже теперь лошадь за двадцать рублей, но покачал головой отрицательно.
Толстый нос Халиля сразу стал сердитый. Зло ударили по мериновой спине вожжи. Потом гроб завернул в переулок, белея только что выструганным тесом.
Тяжелые ноги старухи, мешая одна другой, проволоклись за задними грязными колесами, из которых одно, заметил Дрок, было даже и не круглое, а какое-то пятиугольное.
Ветер с Кавказа, холодный, упорный и очень плотный, не дул, а толкал в спину с яростью.
Топоры на мосту стучали глухо.
Норд-ост протащил дождь дальше, а здесь сеялось что-то мелкое из охвостьев туч. И как-то среди дня, как будто тоже высеялся вместе с дождем, стал около домика Дрока с толстой дубовой палкой в руке и с вещевым мешком военного образца через плечо высокий, плечистый, круглочернобородый, совсем незнакомый Фросе и по обличью даже нездешний и спросил ее пытливо:
– А чи не здесь живе Пантилимон Прокохьич?.. Казалы мiнi, мабудь здесь, а там вже, як хозяюва скажуть…
Взгляд у него был хотя и усталый, все-таки немного почему-то лукавый, и Фрося медлила ответом, соображая, зачем мог бы прийти к ее мужу этот чернобородый. Она подумала, не сено ли привез он на базар из деревни Ивановки, и ответила, отвернувшись:
– Так коровы уже нема: пропала!
– Як так?.. Пропала? – живо подхватил чернобородый и снял даже шапку от крайнего изумления, – пожалуй, огорчения даже.
Оказалось при этом, что спереди он начисто лысый и лоб крутой и широкий.
Тогда вышел из комнаты Дрок, который ходил сердитый все эти дни, и закричал срыву:
– То не у твоего тестя старого я сено купил месяц тому назад тюковое?.. Шесть тюков, хай ему кишки так попреют, как оно нашлось прелое в середке!..
И с размаху стал как раз лицом к лицу с чернобородым, блистая злыми запавшими глазами, а чернобородый отозвался ему вопросительно и не в полный голос:
– Пантик?
– Как это «Пантик»? – откинул голову Дрок.
– Ну, може, я обознався, тоди звиняйте! – пожал плечами чернобородый. – А только я, може, знаете, Никанор Прокохьич, а фамилию имею – Дрок.
Это был тот самый брат из Подолии, к которому во время землетрясения хотел ехать Пантелеймон. Теперь его вытряхнуло оттуда сюда. Они не видались двадцать один год и смотрели друг на друга больше с недоумением, чем с радостью.
Потом они сидели за чаем рядом, и Фрося только и делала, что наливала стаканы: чай пьется без счета, когда так долго не видались братья.
– Ты же писал, шо ты обеднял совсем, ну, а как же потом ты? – спрашивал Пантелеймон, блестя потом.
– А пiсля того, – не спеша отвечал Никанор, – жинку з двомя дiтями до шуряка отправив в Винницу, – там же все ж таки город, а сам до тебе…
– А чого ж ты до мене?
– А я же плотник!.. И по столярству я скрозь можу… Думаю себе: зимою ж там постройки або рэмонты… це ж Кры-ым!
– «Ду-маю»!.. Ты бы спытал сначала, а посля того думал!.. Ни одной постройки тут нет… Может, где в другом месте: Крым великий…
– Вот и я же к тому… А не найдется плотницкой работы, може кузнечну знайду…
Пантелеймон не удивлялся тому, что Никанор оказался еще и кузнец; он сказал только:
– Как у нашего здесь кузнеца Гаврилы запой бывает, он загодя шукает себе тоди помощника, потому запой этот у него не меньше как на три недели, а то на месяц…
– А давно не было?.. Може, как раз на мое горькое счастье, чтоб я тебя квартирой здря не стеснял, он и запьет, а?..
Нашлась все-таки плотницкая работа для Никанора, – делал он в этот день рамы из реек, и стружки из-под его отдохнувшего шершебка вились, как змеи, а Митька подхватывал их и вскрикивал то и дело:
– Эх, ты-ы!.. Вот линная! (Второпях «д» пропускал.)
И глаза у него первобытно блестели.
Но и Егорка с Ваняткой сидели на корточках около (не нужно уж было пасти корову): они тоже собирали стружки в пучки, иногда говоря басом:
– А вот еще линнее!..
Однако никуда не уходили и Колька с Алешкой. Колька лежал навзничь; Алешка засыпал его азартно мелкими стружками; Колька плакал.
Маленькую в комнате около окна укачивала Фрося, равномерно толкая зыбку, а самого Пантелеймона не было: в Тара-Бугазе, в греческой колонии, в трех верстах от города, он в это время присматривал поросенка.
Ласточки уже отсидели сколько им полагалось на проволоках телеграфа и улетели в Египет. Ворона, – видно, уж очень старая, – с кривого разлета шлепнулась на крышу, огляделась и очень старательно прокричала раза четыре: «Илла-а!.. Илла-а!..» При этом она ерошила перья, вытягивала книзу шею, раскачивалась, пожимала крыльями, – вообще кричала свое с соблюдением многих вороньих церемоний, пока Егорка не бросил в нее камнем.
С тополя, стоявшего около колодца, медленно капали вниз золотые листья, а тень от него ушла на ближайший соседский двор; вечерело, солнца осталось минуты на три.
Сказал Никанор Фросе:
– Будто карасин вечером хотели выдавать…
– Так масло же постное, а не керосин вечером! – отозвалась Фрося.
– То ты слыхала, будто масло, а я утром слыхал: карасин…
– Ну, должно, две очереди… Ребят надо послать…
Однако немного погодя, укачав девочку, она разыскала бутылку для масла, жестянку для керосина, и пошли они вдвоем с Никанором, который на крышу сарая уложил готовые планки и, озираясь на ребят, в сенную труху в коровнике спрятал мешок с инструментами.
Уходя, он закурил, а пустую коробку от спичек бросил.
Быстроглазый Митька подобрал коробку и нашел в ней незаметную сначала, притаившуюся спичку.
Он ее не вынул, он только крепко зажал коробку в руке и беспечно сказал пытливо на него глядящему Ванятке:
– Сербиньянская собака брешет…
Действительно, в это время раза три ударил в свой густой колокол сенбернар на ближайшем от них дворе, собака очень пожилая и ленивая, но говорить об этом незачем было, и Ванятка понял, что в коробке была спичка.
Когда пасли они корову, неизбывна была их скука. Тогда они крали дома спички и раскладывали под кустами карагача костры. В этих ребятах было что-то такое же древнее, как и в огне костров, и огонь, лизавший красными языками зеленые листья карагачей, приносил им жгучую радость. Они кричали самозабвенно, они подпрыгивали около костра, визжа…
Но спички, украденные тайком у матери, были все-таки запретные спички. Эта, найденная Митькой и зажатая в его руке, – своя, разрешенная, как будто чей-то подарок. А каждая спичка, попавшая к ним, представлялась им не иначе, как будущий костер… И Митька, оглядев своих четырех братьев несколько пренебрежительно, набрал охапку стружек, отошел с нею за дом шагов на десять, в буерак, деловито там ее уложил и поджег.
Ого, как весело загорелись стружки! Куда ярче, чем влажный сушняк под карагачом… И с пучками и с охапками стружек к этому костру, самому веселому в их жизни, бежали остальные ребята, даже Колька перестал плакать, – он стоял ближе всех к огню, весь блаженный, розовый с головы до ног, а маленький Алешка трубил, как в большую медную трубу: «Гу! Гу! Гу!» – и бил в ладоши.
– Картошку печь! – сказал Ванятка.
– Картошку! – подхватил розовый Колька так радостно, как будто ел ее только один раз, давно когда-то, в самый большой праздник.
А Митька, живой, верткий, неожиданный во всем, что делал, выхватил из костра самую длинную стружку, светло пылавшую, и бросился с нею к дому, как с факелом.
Он принес картошки в подоле рубахи; он не заметил только, как упала перегоревшая стружка у самых дверей, недавно покрашенных охрой.
Две вороны, усевшись на коньке крыши, одна перед другой, точно кланяясь друг дружке, вытягивали церемонно: «Илла-а… Илла-а!..» Но уже некогда было кидать в них камнями: пеклась картошка.
И сумерки надвинулись, – осенью они скоры… И туман потянул с моря, – осенью это бывало часто… И около самых дверей, окрашенных в желтое, из раздавленных на ходу стружек подымались змеиные головки рождавшихся огоньков…
Эти маленькие новорожденные огоньки страдают большим любопытством, а новая крашеная дверь была даже и неплотно прикрыта стремглав выбежавшим Митькой. Маленькая в зыбке чихала.
Сербиньянская собака потянула носом и ударила в свой колокол раз и два и, спустя время, еще раз. Вороны, косо ныряя и крича, полетели к городу. Ванятка сказал Егорке, ухватив его за грудки и наморщив брови:
– Ты будешь?
Это касалось того, что Егорка раньше времени ворошил картошку в золе, и было понятно всем. Алешка от нетерпенья кусал Колькину ногу, но Колька на этот раз терпел и не плакал. Проворный Митька метался туда и сюда, все подтаскивая в костер: сухую тыквенную ботву, объедья кукурузных початков, даже черепные бараньи кости.
– Кости разве будут гореть? – басом спрашивал Егорка.
– А то разве нет?.. Ду-урак! – отзывался Митька.
Костер горел вовсю, и дым от него мешал видеть дым горевшего сзади ребят дома.
Масла не выдавали в этот вечер, только керосин. Фрося шла домой и размахивала пустой бутылкой забывчиво. Она раздумывала, за много ли удастся Пантелеймону купить поросенка. И вдруг она услышала звонкий крик своей маленькой.
Потом она рассказывала всем, что прежде всего услышала этот крик, а потом почуяла дым и увидела огонь уже после, но было наоборот, конечно. На ней загорелось платье, когда она вытаскивала девочку в окно, но ожог тела был небольшой.
Сербиньянская собака лаяла безостановочно. Сбежались соседи. Появились даже четверо из пожарной дружины, – у всех четверых оказался один топорик. Они вытирали потные лбы и сплевывали от дыма, лезшего в глотку. Домишко охватило уже огнем со всех сторон.
Говорили одни:
– Что же это за дым такой, будто кто курит?
– Да ведь табак у человека горит, – объясняли другие.
Фрося собирала детей голося: она уж не думала что-нибудь вытащить из дома. Телка, вырвавшись из коровника, взревела яростно, и помчалась, и долго бежала, задравши хвост. Никанор, так и не получивший керосина, метался от колодца к дому и от дома к колодцу с разбитым уже кем-то ведром, из которого во все стороны брызгала вода. Весь мокрый и грязный, он расталкивал всех с такой силой, что кричали ему:
– Ты!.. Сомашедчий!..
Когда первая бочка приготовилась выбросить из брандспойта первую струю воды, шумно и злорадно, точно этого только и ждала, рухнула крыша и вверх, рядом с трубою, выставила краснозубые балки, от которых прыснули во все стороны искры.
Пантелеймон долго ждал хозяина выбранного поросенка, очень долго с ним торговался… Часов около десяти вечера подходил он к себе, нарочно идя по городу самыми глухими переулками. За спиной в мешке изредка отрывисто хрюкал поросенок: визжать он уже устал.
Луна была ранняя, и при этой ранней, неполной луне Дрок разглядел еще от тополя у колодца, что случилось страшное. Ноги увязли в грязи, колени задрожали… Гарью пахло кругом; луна блестела в лужах…
Он вытянул шею к сараю, цел ли? Сарай был цел, и там кто-то двигался тихо. В это время поросенок завизжал оглашенно. Дрок размахнулся мешком, ахнул и изо всей силы ударил поросенка о каменное устье колодца.
– Это кто?.. Это ты, Пантик? – крикнул Никанор от сарая.
Подходя, говорил он:
– Ничего, семейство твое все в целости…
– Ты что мне за семейство, а? – закричал Дрок. – Ты мне кажи, кто это дом мой спалил, – я его изувечу!..
И соседи слышали, как целую ночь до света бушевал Дрок на пожарище, а Фрося то и дело вопила в голос:
– Хочешь разводиться со мной – разводись, проклятый!.. Разводись!.. Разводись!.. А детей я тебе бить не дам!.. Не дам!.. Мои дети!..
И сербиньянская собака, обеспокоенная неурочным шумом, несколько раз принималась изумленно лаять.
Все утро после пожара Дрок то ошеломленно, непонимающе сидел на корточках, по-татарски, перед остатками сгоревшего дома, то бестолково метался от закоптелого угла к другому, ковырял палкой золу и угли, которые все еще дымились, и, наконец, сказал Никанору, как вполне решенное:
– Ты, я знаю, зачем приехал!.. Ты приехал, чтобы мне хату спалить, вот!.. Потому что стружки были твои и спички, коробка то же самое, были тобою брошены… Что же я тебе должон сказать на это?
– Во-первых… – начал было обиженно Никанор, но Пантелеймон перебил запальчиво:
– Во-первых, черт тебя до меня принес, как я тебя совсем и не звал, – это раз!.. А во-вторых, я с тебя судом стребую, сколько мне этот дом мой стоит, а также какая сгоревшая мебель, и табаку сколько там было пудов, и хлеба, и всего… вот!
Никанор посмотрел на него внимательно, подумал и сказал медленно:
– Когда собака, какая называется бешеная, на людей кидается, так это она не от злости делает, конечно, а единственно от своей лютой боли, – так мне один фельдшер сказывал… Однако легкости ей от подобного не бывает… А уйтить я, разумеется, обязан, как вам тут и самим жить негде…
Планки его все уцелели на крыше сарая, инструменты тоже. Он все собрал и понес в город, а немного погодя пошел в город и Пантелеймон.
Он входил в горсовет по лестнице на второй этаж не придавленно, нет, – он входил негодуя: на пожарную команду, которая никуда не годится и не могла вовремя прискакать на таких лошадях, как звери, от которых только звон, и гул, и топот, и дрожит земля, – и в какие-нибудь две-три минуты залить целой рекой воды огонь в его хате; на то, что нет в их городишке страхового агента, а нужно ждать его и не пропустить, когда он приедет из районного центра, а ждать его каждый день некогда, и захватить его, когда приезжал он, не удавалось, – и вот он, Дрок, не успел застраховать дома, поэтому, значит, весь труд его пропал, и деньги, какие затратил, пропали, и вся жизнь пропала, так как жить ему теперь негде, и пропали три мешка пшеницы, пропал табак – все пропало!..
И в такт толчкам сердца при подъеме на лестницу жалобы эти кружились и сплетались в нем все беспорядочней, и, еще никому ничего не говоря, он в коридоре, где столпились кое-какие ожидавшие люди, начал взмахивать то правой, то левой рукой, то обеими вместе, а когда увидел, наконец, вышедшего из своей комнаты с какими-то бумагами председателя горсовета, бывшего слесаря Опилкова, то так и кинулся к нему, расталкивая других, и сразу прижал к стене:
– Вы это слыхали, товарищ Опилков?.. Дошло это до ваших ушей, что погорел я? – закричал Дрок во весь голос сразу. – Квартиру мне дайте с семейством моим – вот что, – как у меня шесть человек детей да еще седьмое, извиняйте, во чреве матери!..
– В жилищный отдел! – бросил Опилков, продираясь сквозь частокол тычущих во все стороны как будто двадцати – тридцати дроковых рук.
С десяток столов стояло в общем зале горсовета. Туда прорвался, наконец, Опилков, но Дрок не отставал. Около столов много толпилось народу, и всем нужен был председатель, но Дрок никому не хотел его уступить.
– Я пойду в жилищный отдел, – кричал он, – а жилищный отдел меня целый месяц водить будет, а у меня только один сарай остался!.. А как ежели он мне помещение отведет где у черта на выгоне, так что мне до участка свово пять часов ходить надо будет, а?..
Он уже был весь красный, и жилы на шее вздулись, точно он тащил мешок песку в гору.
– Ага, участок?.. Вы арендуете у нас участок?.. Та-ак!
Опилков посмотрел на него и добавил:
– Придется на будущий год договор с вами расторгнуть, гражданин Дрок!
– Ка-ак расторгнуть!..
Дрок выпрямился и начал белеть.
– Есть у нас сообщение… Вы, оказывается, эксплуатируете наемный труд…
– Я-я-я?.. Труд наемный?..
Дрок согнулся в поясе; шея, и щеки, и глаза его густо налились кровью.
– Это кто же такой… сообщение вам такое, а-а?..
И вдруг он ухватил Опилкова за руки:
– Говори сейчас!.. Тебе кто это, а?.. Сообщение такое…
Бегающие глаза Опилкова остановились на ком-то в толпе кругом, и он крикнул:
– Вот того гражданина сюда!.. Гражданин Дудич!..
– Дудич?..
Дрок мгновенно бросил руки Опилкова и обернулся. Увидел, – Дудич протискивался, чтобы уйти в коридор, но его остановили.
– Так Ду-дич это?
И, распихивая всех, Дрок подскочил к Дудичу.
– Ты где это взял, что я наемным трудом, а?.. А-а?.. Что я погорел, так тебе этого мало, ты у меня землю, землю оттягать хочешь?..
Тут Дрок взвизгнул как-то совсем не по-человечьи и кинулся на Дудича.
Замелькало, зарычало, завозилось и рухнуло с грохотом на пол между стоящих в два ряда деловых столов, и все кинулись оттаскивать оказавшегося сверху Дрока, по-звериному впившегося зубами в мясистый, плотный, гладко выбритый подбородок Дудича, хрипло вопившего от боли.
На свое пепелище Дрок пришел уже только в полдень – черный, с провалившимися глазами, с обтянутыми мослаками скул.
В это время Фрося, держа маленькую на руках, оглядывала самое привычное для нее в сгоревшем доме – плиту, прочно сложенную подслеповатым Заворотько, и встретила его радостью:
– Вот дивно мне: плита вся в целости!.. И дымоход тоже до самого боровка. Я дрова туда клала – ничего, горят. Тянет, – ей-богу, правда!
Дрок поглядел страшными, угольноогненными глазами в ее робкие, выцветшие, с потускневшими золотыми жилками и медленно повел раза три головой.
– По-ды-хать, а она про какую-сь плиту!.. Э-эхх!
Заскрипел зубами, раздул ноздри.
– Телку продадим. Все равно ее только кормить зря зимою, – тихо сказала Фрося.
– Ну-у?.. «Тел-ку»!.. Что «телку»?.. Там на меня уж и протокол составили и землю отымают, а она…
Тяжело задышал, поднял оба кулака вровень с ее лицом и, когда ребенок залился плачем, пошел в сарай.
Там он лег в углу на прелом сене, покрытом сухою кожей Маньки, и так лежал долго, ничком, и, если б не шевелились пальцы босых его ног, то сжимаясь, то разжимаясь все время, Фрося могла бы думать, что он спит.
О протоколе каком-то и о земле, которую будто бы отнимают, она не думала: просто это было то совершенно лишнее, что уже не вмещается в мозг, и без того переполненный, даже не проникает в него: дотронувшись, отскакивает – и только.
Ребята в этот день никуда не уходили. Они сидели полукругом, жевали хлеб, понимая, что обеда никакого не будет, и говорили о хозяйственном.
– Три стенки совсем почти целые: одна, вон – другая, а вон – третья, – тыкал в сторону сгоревшего дома Егорка. – Дверя пропали да еще окна тоже…
– Дядя Никанор сделает! – быстро глянул на него и на Ванятку Митька. – Что? Думаешь, не может сделать?
Ванятка, у которого рыжеватые косицы висели в обвис, прикрывая безухость слева, имел из трех старших наиболее озабоченный вид. Он сказал важно:
– А крыша тебе что? Крыша тебе кое-как?.. Крыша тебе не нада, а только чтобы стенки?.. Все железо погорело к чертям!
Егорка добавил:
– Кабы чере-пи-ца! Черепица небось бы не сгорела, а то же-ле-зо!
Он – так случилось – больнее других был избит ночью отцом, – у него заплыл глаз и косо держалась шея; для него отец явно сам был виноват в том, что сгорела крыша: тоже еще, не мог покрыть черепицей!
Дрок вышел из сарая часов в пять вечера, когда уже село солнце за горы. Хотя он и не спал, но веки его набрякли, глаза стали еще краснее, меньше, острее, напряженнее. У кулачных бойцов, когда готовятся они, высмотрев слабое место противника, нанести решительный удар, бывают именно такие глаза.
Ребята, увидя его, встали, попятились и отошли, но он крикнул:
– А ну, идить сюда все до купы!.. Вы палить хату умели, которая отцу з матерью трудов многих стоила, – иди тогда и слухай ухми! Как вы теперь тут уж одни з матерью останетесь, а я уйду.
– Куда же это ты уйдешь? – испугалась Фрося.
– Ку-да-а? – гаркнул вдруг Дрок. – А куда донесут ноги мои, то там уж и останусь, вот куда! Годи!
– А я же как буду?
– А то уж твое дело – как! Поняла теперь? Вот!.. Дудичу земля достается, как он, не иначе, хабаря Опилкову дал!.. Вот! Ну, так пускай теперь горхоз тебя з детями кормит або Дудич, как он пока в больницу на перевязку пошел, а з меня, говорят люди, полным манером может стребовать за свою рожу калечную. Ну, только вот он что з меня получит!
И Дрок поднял было кулак, однако невысоко. Только тут поняла Фрося, что с ним в городе случилось что-то еще менее поправимое, чем вчерашний пожар, и присела на камень, чтобы не упасть. Маленькую она только что перед этим передала Ванятке, однако силы у нее оставалось мало, в глазах темнело. Она сказала тихо, одними губами:
– Куда же я одна с такой оравой? Мне же тогда смерть!
– Куда знаешь, – отозвался Дрок.
Фрося долго смотрела на него, и пристально и как будто плохо его видя, и проговорила так же тихо, как прежде:
– Кукурузы мешок Никанор вытащил – поспел… Это же помолоть нам можно… Что же – люди лепешки едят из кукурузы, и мы будем…
– «Ку-ку-ру-зы мешок»! – презрительно вытянул Дрок. – Вот еда!
– Пшеница, она тоже не вся погорела, она только сверху и дымом зашлась.
– А также водой она залитая и на всех она чертей похожая!
– Это ж промыть – высушить можно…
– Ну вот и мой. И ешь! И щененки эти пускай горелое жрут, в сарае ночуют. А как они и сарай спалят, тогда под кустами! Ну, одним словом, раз Никанорка своих бросил, то и я бросаю, годи! Он по столярству пошел, а я по бондарству пойду, – вот!
– Так у Никанора ребята уж большие, он говорил – у него же самый меньшенький, как наш Ванятка, – а я же как с такими останусь?
Глаза Фроси налились слезами не сразу, но когда налились, и все лицо стало старушечьим, и голова задрожала, Колька мгновенно растянул рот, зажал плотно веки и завел привычный для него плач, размеренный и скорбный.
– Хы… хы… хы… хы-ы… – начал выводить стукнувшийся уже лбом о землю Алешка.
Одиноким, незаплывшим глазом упорно глядел на Ванятку Егорка, спрашивая, – понятно для того, хотя и безмолвно, – что это такое происходит? Действительно ли уйдет отец, или это только одни разговоры?
Митька отвернулся и ненужно старался вытащить из земли какую-то траву с корнем.
А в стороне, за кустом помятого при пожаре карагача, стояла телка. Напасшись днем, она теперь, лениво действуя языком, захватывала ветку выше своего роста, но смотрела сюда, на своих хозяев, очень внимательно: вчерашняя ночь, озарившая ее огнем и оглушившая криками, ее испугала надолго: ее сарай – она видела – плотно был занят людьми; было над чем задуматься.
А Дрок повысил вдруг голос до крика:
– Мне теперь жизни тут нету, – поняла ты своей это дурною башкой? Мне теперь або з пристани в море вниз головой, або по соше итить, куда прийдется! Вот какие мои концы-выходы теперь! Вот чуть потемнейше станет, я и пойду!
– Ты бы… может, уж завтра хоть… Ты бы… может, поспал бы ночью, – сквозь слезы сказала Фрося.
А Митька тихо дернул ее за рукав:
– Мам! Это какие к нам идут двое?
Двое, которые подходили со стороны города сюда, были: Веня – незаметный, маленького роста человек, которого в сумерках можно было принять за любого подростка, и Опилков с неизменным портфелем.
– Добрый вечер! – сказал, подходя, Веня.
Дрок помолчал немного и ответил:
– Может, для кого-сь и добрый…
Он глядел не на Веню, а на Опилкова, и уже все напрягалось в нем буграми, потому что Опилков был с портфелем.
Но Опилков сказал просто, слегка почесав за ухом и оглядывая пожарище:
– Вот какая тут история случилась!
– Такая история, что человеку с подобным большим семейством – петля, зарез, как я и говорил… История тут… наглядная! – засуетился вдруг Веня, суя туда и сюда руками.
– Где же вы теперь ночевать будете? – спросил Опилков Фросю, которая стала перед ним, утирая фартуком глаза.
– А в сарае вон – где ж…
– Положим, что в прошлом году люди, как землетрясение было, тоже в подобных сараях ночевали из боязни, – важно сказал Опилков, – ну, тогда время было экстренное… Кроме того, ребят застудить можно… Надо поэтому ремонт дому давать.
– Из чего это я буду ремонт давать? – вдруг закричал во весь голос Дрок. – Ты меня пришел заставлять ремонт делать?
– Э-э… заставлять! – поморщился Опилков. – Необходимость тебя заставлять будет, а не я.
– Ты у меня землю отымаешь, хабаря з Дудича взял, и ты же мне тут, чтобы я ремонт делал? – подскочил Дрок вплотную к Опилкову.
– Ну, ясно, человек не в себе от такой разрухи, – заторопился объяснить Опилкову Веня, выставляя против Дрока свою худенькую ручку с небольшой, детской ладонью.
– Кто у тебя землю отымает, – какой черт? – прикрикнул на Дрока Опилков. – Чего орешь зря?
– А разве же ты мне не сказал, что отымешь, будто как я наемным трудом? – спал с голоса Дрок.
– Вас тут в городе жителей пять тысяч человек, – вразумительно начал Опилков, – а я – один! Понял?.. Я, конечно, обо всех все должен разузнать, а сразу каким я это образом могу сделать? Вот человек мне рассказал, что ты не то что бы лодырь, а бешеный прямо работник, кто же у тебя землю отнимать будет? А? А ты мне насчет хабаря бухаешь не спросясь!
– Ну, тогда извиняйте! – буркнул Дрок.
– Вот! Так же и с халупой твоей погоревшей… Выясняется, – вот человек говорит, – она совсем даже и не застрахованная?
– А где же я ее мог страховать, когда того агента тут черт мае? – крикнул Дрок.
– Ну, мог бы поехать ради такого случая в районный центр или отсюда написать. Одним словом, твоя оплошность личная, – однако несчастье постигло. Тут завтра торги на сарай назначены, вот ты чего не прозевай: сарай с торгов продается. Идет за пятьдесят рублей, а в нем только стенки, конечно слабые, а железо еще – вполне! И на весь твой домишко хватило бы.
– Аджи Бекира? – даже как-то на пальцы босых ног поднялся Дрок. – Там же и балки вполне справные, тоже и стояки дубовые.
– Ну, разумеется! Что гнилое – на дрова тебе пойдет. А подводу перевезть – я тебе дам горхозную.
– Вот спасибо вам! – низко поклонилась, обычно по-бабьи положа руки на живот, Фрося. – А мы телку вот продадим, деньги взнесем…
– Да телку можете и не продавать, положим, денег сейчас взносить надо только десять процентов, – остальное потом… Также и насчет налогу… Освободим по случаю пожара.
– От сельхозналога освободят, поняли? – объяснил Веня Дроку, который глядел на Опилкова как-то не совсем доверчиво.
Но, продолжая и после слов Вени глядеть так же недоверчиво, глухо проговорил Дрок:
– Что касается от налога освобождение дать, это, конечно, следует, и халупу свою я это мог бы в порядок произвесть, а только вот хлеб погорел… Работать – это я могу, как вам это теперь известно, а только вот хлеба же нет, – обернуться нечем, так же и семейству тоже…
– Корова подохла? – спросил Опилков.
– Подохла же!
– Страховые получил?
– Обещать обещали, а чтобы получить… то уж извиняйте!
– Ну, получишь, ничего… А шкуру сдал?
– Нет. Шкура дома.
– В сарае шкура, – уточнил Митька.
– Отнеси шкуру, в кооператив сдай, я там скажу, чтобы тебе муки выдали… Какая шкура смотря, а то можешь четыре пуда муки получить. Понимаешь, – деньгами тебе за шкуру полагается семь или восемь рублей, ну, раз тебе такая подошла крайность… Одним словом, скажу, чтобы по своей цене муку посчитали.
– Вот это спасибо, товарищ Опилков, как теперь не то что за восемь рублей чтоб четыре пуда муки, а даже и одного не купишь, – сказал Дрок, и голос у него дрогнул.
– А насчет того, чтобы помочь вам тут, когда материал доставите, – это я могу в старших группах воскресник устроить, – очень оживленно подхватил Веня. – С большой охотой ребята пойдут и даже инструменты принесут, там есть такие… И двери-окна сделают, и столы-табуретки сколотят… А свои ребятишки помогут… а? Помогать будешь? Ты!
Он ткнул в круглый затылок Ванятку, и тот подбросил по-отцовски свою бедовую одноухую голову, сказал: «Ого!» – ухарски плюнул на руки, растер и стал подбочась, точно приготовился драться.
Была ночь уже, круглилась над тополями полная луна, с моря наплывал туман; Дрок не спал.
Дрок стоял около своего дома, – не того, от которого остались только три, и то щербатые стены, а нового, который настолько ясно представлялся ему, как будто был уже поставлен, слушал, как жевала жвачку телка, привязанная к кусту, – ночь была совершенно тихая, – и смотрел на этот туман в море, плотно колыхающийся под луною, синевато-белый, непроходимый на вид.
Далеко, на том мысе, который похож был на голову крокодила, время от времени сверкал маяк. Даже и при полной луне он сверкал резким красноватым светом, и Дрок припомнил, как пришлось ему как-то ехать на пароходе в туман, не ночью даже, а днем, и пароход все гудел, как шмель, боясь наскочить на другой такой же пароход, или на баркас, или на рыбачью лодку, и пароход тащился точно на волах, самым тихим ходом, так как мог наткнуться на торчащую скалу или большой камень под водою, – до того трудно было что-нибудь рассмотреть из-за тумана. Но это было ведь среди белого дня, а не ночью.
И Дрок буркнул, как привык он говорить, хотя и про себя, но вслух, копая по ночам землю:
– Это были, известно, умные люди, какие надумали тот маяк блескучий поставить!
1933 г.
Лаванда*
Два молодых инженера, оба – горняки, один – Белогуров, из Соликамска, другой – Кудахтин, из Криворожья, только что устроившись в доме отдыха горняков на южном берегу Крыма и всего только раз десять – двенадцать искупавшись в море, вздумали пойти в горы – в горные леса, кудряво и густо зеленевшие по всем отрогам и скатам горного кряжа.
Вышли утром, после купанья и завтрака, и пошли сразу во всю неуемную прыть засидевшихся молодых ног. Криворожец Кудахтин был повыше и шаги делал крупнее, но все время впереди его держался Белогуров, который и затеял эту прогулку и уговорил Кудахтина, с первого же дня с ним подружившись, идти вместе.
Мускулистый и широкоплечий, за несколько дней здесь, в Крыму, успевший уже загореть до желанной для всех курортников черноты зулуса, коротконосый, круглолицый, несколько излишне толстогубый, Белогуров не отводил черных блестящих глаз от крутых лесистых и каменных вершин; он то и дело вскрикивал возбужденно:
– Вот они!.. Вот они, брат, мои горы!.. Шестнадцать лет их не видал! Шест-над-цать, брат, лет, пойми!
– Ничего тут хитрого нет, понять можно, – отзывался Кудахтин, куда более спокойный и простоватый, говоривший с видимым трудом и как-то нырявший при этом вперед непокрытой желтой головою на длинной жилистой согнутой шее. – И сосчитать нетрудно, сколько тебе лет тогда было, если теперь тебе тридцать три.
– А что же, брат, самый боевой возраст для партизана – семнадцать лет! Ничего трудного для подобного возраста не бывает, и для меня тогда не было. Куда пошлют, – пожалуйста, сколько угодно! Не иду, а лечу!.. Э-эх, леса мои! Ты же не баран, ты посмотри кругом, – ведь такую местность для партизанской войны – ее можно только по особому заказу получить да еще и огромные деньги за нее дать, а нам она была брошена белыми за наши прекрасные глаза, – поселяйтесь, и размножайтесь, и колотите нас в тыл сколько влезет… И врангелевцев мы, брат, в большом почтении к себе держали, – ты не думай!.. Где нас было каких-нибудь двести человек всего, им казалось, что нас тысячи три-четыре! Ведь они в эти леса соваться глубоко боялись, а мы отсюда в любое время куда угодно могли двинуть. Вон какого радиуса крепость у нас была, – ты погляди, брат, туда, насколько тебе видно, и в эту сторону таким же образом, – все наша крепость природная, а мы вылазки из нее могли делать в любом направлении. Вот это самое шоссе, по которому ты ехал сюда на автобусе, оно ведь всегда могло быть у нас под обстрелом: захотим – и заткнем его пробкой и оттянем на себя тогда с белого фронта полк или целых два. Однако сколько они карательных экспедиций ни сочиняли в наши леса, ни чер-та у них не вышло! Этого ножа в спину, какой мы им всадили тогда, так они и не выдернули, пока самих их не погнали из Крыма на суда грузиться – да в Константинополь!
– Как же все-таки ты за шестнадцать лет ни разу не вырвался в эти места? – удивился Кудахтин.
– Да вот так же все… То учился, то на практике работал, потом в Сибири на Анжерские копи попал, потом уж в Соликамск… В домах отдыха бывал, только на Кавказе, а сюда действительно не приходилось… Зато уж теперь дорвался! Везде кругом побываю, все свои старые места облазаю! Теперь держись!
Был июль на исходе – время тех сплошных жаров, когда хватают они землю крепкой хваткой, ревниво не впуская ни одного облака в разомлевшее небо.
От жары в дубовых кустах, по которым прямиком к матерому лесу вел Кудахтина Белогуров, даже желтели и падали кое-где листья. А трава уже вся сгорела, и коровы, в стороне от них залезшие в кусты, не паслись, а только беспокойно отмахивались головами и хвостами от оводов.
– Вот видишь, какое теперь тут стадище! – ликовал Белогуров. – А в двадцатом разве такую картину можно было здесь увидеть? Нипочем! Тогда если и была у кого еще коровенка, так он ее прятал за семью замками, как клад, а сам траву и ветки для нее резал, в мешках ей таскал. А что касается оленей, какие тут в лесах от царской охоты еще оставались недобитые, то мы их, брат, несколько штук тогда застрелили.
– Так что досталось тебе, значит, счастье – оленинки попробовать?
– А как же! Сам даже и жарил, только, брат, на подсолнечном масле, – это я помню: никакого больше не было, кроме подсолнечного, а своего сала у оленей, должно быть, и не бывает.
– Что же, вкусная оказалась оленина?
– Как тебе сказать… Я уж забыл, конечно, какой вкус, помню только, что очень твердая была. Такое жесткое оказалось мясо, что даже моим волчьим зубам чувствительно. Конечно, ведь дичь, она, говорят, дня два, не меньше, лежать должна, ну, а нам ее некогда было выдерживать. Мы были люди негордые: застрелили – свежуй, режь ножами да жарь на костре. А вот ты ведь, пожалуй, даже и не знаешь, кто водился в этих лесах – тоже от царской охоты остаток – зубр! Однако зубрятины так и не пришлось мне попробовать: перед нами за год или два его, говорят, здешние татары-охотники из винтовок ухлопали. Конечно, ухлопать ничего и не стоило: очень высоко куда-нибудь в голые горы он не забирался, – что ему там жевать? Это, одним словом, не коза и не олень, а громадина. Интересно, куда потом эта зубровая шкура делась? А из оленьих шкур татары постолы себе шили шерстью наружу, вроде таких кожаных лаптей. Очень удобная, конечно, обувь и легкая, только не по таким лесам и горам в ней ходить: кожа тонкая, через неделю стиралась. Олени, ведь они небольшие были, вроде телят годовалых. Да, не больше теленка олени были, даже и старые. А рога были красивые, помню…
– Так что тебе пришлось тут в оленьих постолах щеголять?
– Нет, партизаны до этого не доходили. У всех были ботинки, если не сапоги. Однако по таким тропкам, как здесь в лесах, и хорошие ботинки недолго держались: камни везде, корни дубовые… Кстати, на фуражках у нас у всех были приколоты дубовые листья: это была наша кокарда тогда – зеленый дубовый лист… Когда готовились в двадцатом году зимовать в своей крепости мы, то вот приблизительно там (Белогуров показал рукою) устроили мы себе шалаши, а где было можно, даже землянки копали, штаб же наш поместился в пещере. И что же, знаешь, – вот говорится: пещерный быт, то есть диче уж некуда, – не-ет, брат, в пещере этой не так плохо нашему штабу было. Две железные печки топились там, на них чайники все время грелись, баранина жарилась с картошкой… Ковры даже в этой пещере на полу лежали и по стенам висели, – из помещичьих имений мы их вывезли на тачанках, – огромные красивые ковры, не знаю уж, куда они в конце концов девались… Когда отдыхали, брат, то мы вообще жили себе привольно: рубахи стирали, сушили, обувь чинили дротом, то есть проволокой жженой, и, конечно, «Журавля» хором пели. «Журавель» этот был бесконечный. Две строчки в рифму на всякие там, как говорится, злобы дня, это ведь всегда и всякий мог сложить. Как-то Врангеля мы здорово напугали, так что он ради нас даже дроздовцев своих с фронта снял. А дроздовцы ведь считались у белых из самых лучших. Однако мы этим дроздовцам в лесу засаду сделали да так их огрели залпами и пулеметом, что они драли кто куда со всех ног! Конечно, после этого «Журавель» наш стал на один куплет длиннее… Так, кажется:
Разбежались, точно овцы,
Ваши храбрые дроздовцы,
Журавель мой, журавель,
Журавушка молодой!
И Белогуров не сказал, а пропел этот куплет именно так, как певал, должно быть, тогда, шестнадцать лет назад: под шаг себе, браво подняв голову, широко раскрывая толстогубый рот, и голосом как бы сознательно весьма необработанным, горловым, но громким.
– А дикие козы были в этих лесах? – спросил Кудахтин.
– На диких коз тоже как-то охотились, только я, признаться, ни одной убитой дикой козы не помню, а вот такую охоту припоминаю: пошли за козами трое из нашей головки, а вернулись назад только двое – третий же где-то остался, как потом говорили, с пулей в голове.
– Что? На белых наткнулись? – живо спросил Кудахтин.
– Нет, ни на кого не наткнулись, а подозрение было, что этот, тогда убитый, – он был дезертир из врангелевской армии, поручик, – так подозрение было веское, что он провокатор, вот его и хлопнули.
– Провокаторы у вас, значит, были все-таки?
– Ну, еще бы! И провокаторы и уголовники тоже. Вообще здешнему руководству дела было довольно, чтобы ряды наши чистить, а также чтобы не всякого принимать. Дезертирам из армии Врангеля куда было тогда бежать? Разумеется, одна только дорога к нам в леса. Однако же не всякий же дезертир был готовый красный. Ведь на гауптвахтах у белых, откуда и бежали, сидела часто и всякая шпана тыловая. Грозит ей полевой суд и расстрел – она и бежит в лес. А в лесу что-нибудь кушать же надо – не буковые же орешки есть и не желуди, как свиньи ели, какие тогда тоже в лесу паслись. Вот дезертиры, разумеется, валят к нам, потому что у нас и котлы с горячим и хлеба хватало. Однако, если ты к нам, то, значит, борись за Советскую власть, а не знаешь, что Советская власть с собою несет, – учись. Ясно, политическая работа с такими велась, да ведь тогда и крымский комитет партии вынужден был уйти в подполье, то есть опять-таки в эти вот леса – к нам, красным партизанам. У нас поэтому тогда дисциплина, брат, строгая была… Так что, если во время какой экспедиции дорвался кто до спрятанного где у людей самогона и врозволочь пьян надрызгался, – у нас такому вытрезвляться даже и не давали, а сейчас же на месте хлопали: не позорь партизан!
Белогуров мог бы повести Кудахтина к лесу по долине, по которой разлеглись сады и виноградники колхоза и садвинтреста и виднелись белые красивые дома бывших владельцев этих садов, теперь занятые рабочими. По долине прихотливо извивалась теперь почти пересохшая речонка, а рядом с нею так же изгибисто вилась дорога между плетней и оград из колючей проволоки на кольях, но Белогурову хотелось идти прямиком, чтобы сократить путь до мест близких и памятных.
Бывает так, что прошлое вспыхивает вдруг настолько ярко, что темнит и глушит настоящее, и человек как бы заболевает прошлым, становится точно одержимый им. Так было теперь с Белогуровым.
Он как будто на глазах Кудахтина сбросил с себя шестнадцать лет: он смотрел на уходящую вправо цепь гор, чем дальше, тем более мреющую, тающую постепенно, теряющую свою вещественность, – нежнейшие акварельные тона рядом с утихающей голубизной обесцвеченного далью моря, – и говорил восторженно:
– Судакская цепь!.. Всю насквозь мы ее прошли пешком! И даже, если ты хочешь знать, захватили городок Судак!.. Вон как раскачивали врангелевский тыл партизаны! Только что перед этим, заметь, взорвали мы Бешуйские угольные копи, – это вот сюда смотри, за теми вон горами, – и вдруг новое дело. Судак взяли! А Судак от Бешуйских копей – сто километров! Всякий бы так и подумал, что действует несколько сильных отрядов, а отряд был один, и в нем всего-навсего человек полтораста! Конечно, по случаю такой оказии Врангель должен был несколько тысяч отовсюду с фронта снять, что и требовалось доказать. А мы свою роль вытяжного пластыря сыграли, да от Судака опять в леса, – ищи нас тут! Соваться в леса охотников было немного, мы поэтому хозяйничали в них, как хотели.
– А как же именно вы могли там хозяйничать?
– Как? Лесное хозяйство – это что такое? Дрова… и конечно, материал для построек. Строиться тогда белые не строились, но вот шпалы им было нужно менять на железных дорогах, да кстати еще от Бешуйских копей они узкоколейку вели. Но главное – дрова. Топить ведь надо и в казармах, и в лазаретах, и в учреждениях, также и в офицерских квартирах, да и у всех прочих обывателей, – а тогда в Крым сбежались обыватели изо всей России, да все такие обыватели, что ниже действительного статского советника и не было! И все воют: «Дро-ов!..» А мы вывозить дрова из леса не даем! Ни дров, ни шпал, ничего решительно. Ведь тогда здесь, в Крыму, и паровозы на дрова перешли за неимением угля. Везде в лесу заготовлено дров было тысячи кубических сажен. Мы эти заготовленные дрова жгли, – можешь вообразить, какие костры у нас были! А новых заготовок делать не позволяли. Поди-ка к нам сунься! Установи-ка, попробуй, лесопилку! Мы сейчас же тут как тут и ставим точку… Потом была при Врангеле введена по деревням и большим имениям государственная так называемая стража. Эта стража, конечно, что из себя представляла? Человек не больше как тридцать, во главе с приставом. Конечно, от нас зависело, быть ей или не быть. За счет этой стражи мы оделись в офицерские шинели, и френчи, и ботинки. У многих даже погоны на шинелях остались офицерские в целях, как говорится, маскировки. Часто это нам пригожалось. А по деревням везде наш политотдел комячейки основывал, – свои, значит, люди сидели… В общем бароново дело было швах, а мы как на дрожжах росли. Та же государственная стража нам жаловалась, что на врангелевское жалованье прожить было никак нельзя даже и холостым, и неминуемо им оставалось одно: народ грабить. Понятно, мы им сначала не верили, а потом оказалось – сущая правда: не ограбишь – с голоду подыхай! Мы же, между прочим, строго держались правила: крестьянам за все платить, да еще не какими-нибудь там «колокольчиками» или «керенками», а настоящими «николаевками»! Хотя и предупреждали, впрочем, чтобы этих денег не берегли, потому что, как только займет Крым наша Красная Армия, мы все эти деньги аннулируем к черту, чтобы их и званья не было. Но, конечно, привычка, брат, ничего не поделаешь! Слушать нас слушали, даже и верить нам верили, а «николаевские» все-таки на всякий случай прятали в сундук!..
Кудахтину сильно хотелось пить, – с собой они ничего не взяли, – но Белогуров уверял его, что в лесу воды будет сколько угодно, и чем выше и дальше в лес, тем она будет чище и безопаснее для здоровья, а главное, холоднее.
Сам же он все оглядывался кругом и соображал, туда ли он идет, куда хотелось бы ему дойти. Наконец, он уверенно взял влево и скоро вышел на какую-то очень крутую, но несомненно объезженную дорогу, на которой видны были между белыми камнями свежие следы подков. Он сказал весело:
– Ну вот, значит действительно по памяти, как по грамоте! Эту дорогу я отлично, оказывается, помню даже и через шестнадцать лет!
Кудахтин же ударил каблуком в один из белых камней и заметил:
– Да ведь это же известняк, – смотри-ка!
– Конечно, известняк! И даже помню я – жил где-то в этих местах какой-то мужичок с рыжей бородкой, – ходил в казинетовой поддевке, – он палил известь из этого камня и возил ее продавать на своей лошаденке на берег. Покупали же ее для побелки комнат, так как строить тогда ничего уж никто не строил.
Шагов двадцать вверх по этой дороге Белогуров сделал нетерпеливо и возбужденно, оставив позади Кудахтина; когда же за крутым изгибом дороги перед ним матово засеребрели вдруг вычурные бетонные стены с мавританскими амбразурами окон и дверей, но с провалившимися уже местами тоже бетонными потолками, Белогуров радостно вскрикнул:
– Ага! Вот он! Я не ошибся, значит! Здорово!
Подошел Кудахтин. От усталости и от жажды все несколько нескладное длиннорукое тело его обвисло, он стал гораздо меньше ростом, сузил глаза, сморщил лицо и спросил недовольно:
– Это что такое за остатки роскоши? Замок какой-то бывший?
– В этом замке, – торжественно ответил Белогуров, – меня, если ты хочешь знать, едва не убили! Спасся только тем, что шаркнул в лес, а пулю в левой руке с собою понес, – хорошо, впрочем, что рикошетная была пуля и впилась она боком неглубоко, а то, может быть, ходил бы я теперь без руки.
Вид всяких развалин вообще печален, однако кажутся более печальными из них те, в которых никто не успел еще прожить и одного дня, которые не были даже доведены до полного воплощения замысла строителя, но вот уже рухнули потолки и висят то там, то здесь на прочном проволочном каркасе, пока не перержавеет железо. В середине развалин этих, на кучах мусора, выросла трава, успевшая уже пожелтеть от зноя, а между тем мавританские арки вверху все еще были строги и четки в линиях.
Белогуров быстро обошел все серые стены, нагибаясь и приглядываясь внимательно, потом показал Кудахтину:
– Вот! Видишь? Это от пули след!.. И вот тоже!.. И вот… Была тут маленькая наша засада – пять человек нас сидело, – а конный отряд белых с сотником во главе подымался по этой дороге. Нам нужно было их по приказу командира нашего полка – у нас уж полки тогда были, только каждый гораздо меньше роты в белой армии, – нужно было, одним словом, встретить как следует. Мы их и встретили… Стены, видишь, бетон, – та же крепость. Это, брат, какой-то адвокат по бракоразводным делам купил себе здесь кусок земли и дворец начал строить, только опоздал немного, – перед самой войной мировой, – начал и бросил, а потом пришлось за границу бежать.
Отдышавшись, Кудахтин осмотрелся и сказал тоном старого военного:
– Это место такое, что тут не пять человек, а сорок пять могли бы сидеть в засаде, и могли бы они больших дел натворить!
Но Белогуров покачал головой отрицательно:
– Нет! Мы сами так думали, – оказалось, нет. Очень много дверей – со всех сторон двери. И если бы еще пулемет был у нас, а не у них, а то как раз наоборот было. И ведь их – человек шестьдесят, а нас только пятеро. Однако мы их первыми тремя залпами ошарашили здорово. Главное, они такой наглости от нас не ожидали, чтобы мы как у себя дома расположились у них под носом! Они если и думали нас встретить, то гораздо дальше от берега, а тут они ехали себе совсем беспечно и попались! Не сообразили того, что нам-то с горы их отлично было видно в бинокль, а они что в лесу могли увидеть? Мы их, чуть только первые показались на дороге, вот здесь, и жахнули! Три залпа, потом «пачки»! Представляешь, что мы там у них натворили? Вполне могли мы, конечно, рассчитывать, что помчатся они вниз сломя голову – души спасать. Однако надо отдать справедливость этому сотнику – боевой был. Спешились там внизу и на нас пешим строем с пулеметом. Сообразили, конечно, по залпам, что нас – кот наплакал, и давай окружать. Слышим: оттуда выстрелы, отсюда выстрелы, – а у нас патронов было немного, надо отступать! Кинулись вот таким образом сюда, назад – сначала кучкою, потом врассыпную, и то вдогонку нам несколько пуль засвистело винтовочных. Мы, конечно, вот сюда, прямо в падь, к речке, потом в лес, без тропок. Трое тогда из нас были ранены и все легко – удача. Могли бы все пятеро лечь. Зато у них из строя мы вывели, я уверен, не меньше как человек двенадцать да столько же, пожалуй, коней. Вскорости в этом месте быть потом не пришлось, а через месяц, разумеется, и конские туши тут не валялись – все было убрано. После этого случая грозились они до нашего лагеря дойти по лесу облавой, хотя бы целую дивизию на это пришлось кинуть, однако понимали, что не так-то это легко и просто; так все одной угрозой и кончилось.
И, говоря это, Белогуров, может быть, даже незаметно для самого себя, обогнув развалины, пошел в лес дальше, а может быть, бессознательно хотелось ему восстановить в памяти те тропинки и лазы в чащобе, по которым «шаркнули» отсюда вниз они пятеро шестнадцать лет назад.
Кудахтин едва поспевал за ним, недовольно ловя и отводя от себя раскачавшиеся ветки густого черноклена и лещины, но вдруг Белогуров остановился изумленно: перед ним стояли в почти непроницаемой чаще двое маленьких ребят – мальчик лет шести и девочка приблизительно на год моложе. В руках у мальчика был кусок старой бечевки средней толщины; волосы у обоих белые, глаза светлые, отнюдь не испуганные, только внимательные, как бывают вбирающе-внимательны детские глаза. Оба были только в кумачовых трусиках и туфлях и совершенно бронзовые от загара.
Для Белогурова же так неожиданно было встретить этих двух маленьких белоголовых здесь, где воскресла для него подавляюще яркая картина перестрелки с конным отрядом, что он даже отступил на полшага, оглянувшись на Кудахтина, и сказал совершенно безулыбочно:
– Та-ак! А теперь, как ты и сам видишь, в этих трагических местах живет племя каких-то карликов! Карликов, да, – это ясно!
Ребятишки смотрели на него безмолвно и серьезно, очень серьезно; он же, вытерев вспотевшую шею платком, продолжал:
– Я не сомневаюсь, конечно, что советским ученым известен язык, на котором говорят между собою эти карлы, но русского языка, я вижу, они совершенно не понимают.
При этих словах девочка вопросительно посмотрела на мальчика, но мальчик неотрывно продолжал изучать глазами толстогубое широкое лицо Белогурова. Правда, для этого ему все время нужно было держать беловолосую голову весьма приподнятой, однако глядел он насупясь и заложив за спину руки.
Белогуров же продолжал, по-прежнему обращаясь к Кудахтину:
– Однако поскольку карлики эти представляют несомненно некоторый научный интерес с точки зрения, понимаешь, антропологии, то я думаю, нам надобно сделать вот что: мы сейчас их свяжем обоих и отправим в город, а оттуда уж их переправят, конечно, в Москву… Как ты полагаешь, а?
Но не успел еще ничего придумать для ответа Кудахтин, как мальчик радостно подхватил:
– На веревку! – и тут же протянул Белогурову и свою бечевку и обе неотмывно испачканные зеленой ореховой скорлупой маленькие ручонки.
Белогуров заметил около развалин некрупное деревце грецкого ореха и на земле под ним недозрелые еще, сбитые вместе с перистыми листьями орехи с развороченной скорлупой, свойство которой он знал.
Тем временем девочка, посмотрев на братишку весьма внимательно и открыв широко рот, вдруг взвизгнула восторженно и так и бросилась к Белогурову, сложив руки кисть с кистью над головой и проговорив без затруднения:
– Сначава Ваводьку, потом мине!
Такого порыва Белогуров не мог уже выдержать спокойно; он громко расхохотался, схватил девочку и высоко поднял ее на вытянутых крепких руках. Кудахтин же притянул к себе мальчика и сказал:
– Так ты, значит, Володька? Как же ты, Володька, сюда попал, в такой лес дремучий?
– «Как по-па-ал»! – протянул уже насмешливо, задрав на него голову, Володька.
– Ну да, как попал? Откуда вы тут могли взяться, такие прыщи?
– «От-ку-да»! – хихикнул мальчик. – Когда мы и вовсе тут и живем!
– Как тут живете? Где же вы тут живете? – оживленно оглянулся кругом Белогуров, чтобы увидеть где-то тут поблизости торчавшую приземистую хатку того самого русского мужичка с рыжей бородкой, который палил известь (внезапно он вспомнил при этом, что мужичка того звали Севастьяном).
– В сов-хозе мы живем, – отчетливо ответила ему девочка.
– Как так? В совхозе? – удивился Кудахтин.
– Какой такой совхоз может быть в этом лесу? – еще более удивился Белогуров, ожидающе глядя на девочку, которую забывчиво не опускал наземь.
Но Володька не захотел уже уступить сестренке честь назвать этим двум неизвестным дядям свой совхоз. Он насупил пока еще отсутствующие брови, выпятил губы и с заметным уважением к длинному и звучному слову ответил:
– Лавандовый, вот какой!
Кудахтин посмотрел на Белогурова недоуменно: он никогда не слыхал про подобные совхозы; Белогуров же, только теперь опустив девочку, глядел на нее, припоминая, что это может быть за совхоз, однако девочка тоже сказала без затруднения:
– Вавандовый, да.
– Где же этот совхоз? – спросил Кудахтин.
– Вон там плантация, – показал пучком бечевки Володька и вдруг проворно юркнул в том направлении в кусты; девочка за ним. Белогуров и Кудахтин молчаливо решили не отставать от ребятишек, однако шагов сто путались они в густо заросшем лесу, отгибая и отпуская ветки, пока не вышли на расчищенное место.
Зато, когда вышли, оба ахнули изумленно: точно оставленное ими позади море захлестнуло сюда затейливым заливом, и вот медленно движутся перед глазами иззелена-лилово-лазоревые крупные волны, – направо, налево, вперед – повсюду! Местность была неровная, – она и не могла быть ровной здесь, в горах, – и вот, то взбираясь на бугры, то скатываясь в балочки, потом подымаясь снова и падая вновь, рассевшись хозяйственно и важно, безупречно правильными рядами, эти низенькие, но пышные кустики цвели миллионами прямо к солнцу вытянувшихся голубовато-лиловых султанов.
Сначала Белогуров был просто ослеплен этим неожиданным великолепием, но потом, осмотревшись, увидел среди цветочных рядов дорогу, невдали от дороги сверкали на солнце в руках нескольких женщин кривые ножи, похожие на серпы, – может быть, это и были серпы, проворно срезающие султаны цветов, а на дороге стояла подвода с запряженной в нее гнедою лошадкой, и кто-то в линялой розовой рубахе, в кепке, надвинутой на самые глаза от яркого солнца, уминал руками в подводе срезанные цветы.
– Что это? – спросил Белогуров.
– Лаванда, – несколько торжественно ответил Володька, сорвал с ближайшего куста две-три лиловых кисти на тонких цветоножках, поднял их насколько мог выше перед Белогуровым:
– На, понюхай, как пахнет!
– Да-а, вот штука! Посмотри-ка, брат, какая история: цветочки совсем мелкие, а запах сильный! – передал цветки Кудахтину Белогуров.
Кудахтин потер цветки пальцами, понюхал, пожал плечами и спросил Володьку:
– В какое же все-таки место их отправляют, эти цветы? В город, что ли?
– На завод к нам, – быстренько ответила за брата девочка, а мальчик только качнул насмешливо бедовой головенкой, добавив:
– Вот не знают! Масло из них делают, из цветов!
Белогуров толкнул Кудахтина в бок:
– Видал, какие профессора у нас завелись, карликовой породы! Ясно, что это эфирномасличный совхоз. И даже запах этот мне как будто с детства еще знаком.
Кудахтин же отозвался, задумчиво растирая на ладони цветки в труху и нюхая их усиленно:
– Вспоминаю, признаться, и я что-то… Кажется, у моей бабушки за иконами такой букетик лиловенький стоял, только сухой уж, конечно… Лаванда, да… кажется, так это и называли. Именно вот подобный запах. А я, признаться тебе, даже и не думал никогда над таким вопросом: долго ли в нас живет память на чепуху на эту – на запахи… Оказывается – долго.
Белогуров же посмотрел на него светившимися изнутри изумленными глазами и проговорил негромко, но выразительно:
– Вот, видишь ты, за что боролись тут мы, партизаны? Соображай, брат! – И, подбросив голову и крякнув, добавил: – Эх, я бы здесь пчел развел при такой взятке – ульев сто!
– А может, тут и без тебя развели… Пасеки нет тут у вас, пчельника, а? – спросил мальчика Кудахтин.
– О-о, пчельника! – усмехнулся, играя бечевкой, Володька. – Есть пчельник.
– Эх, черт! Да от таких цветов вкусных мед-то какой должен быть душистый! – Даже глаза зажмурил, покрутив головой, Белогуров и спросил Володьку: – Большой пчельник, не знаешь? Сколько ульев?
– Ну, почем же он знает? – сказал Кудахтин.
– Не-ет, брат, это, видать, такой профессор, что все здесь отлично знает.
– Сказать? – хитровато прищурился Володька.
– Скажи, пожалуйста, будь настолько добрый.
– Двести – вот сколько.
И тут же девочка, вздохнув, повторила, как эхо:
– Двести – вот сколько!
Черный локомобиль с толстой вертикальной трубою стоял посредине обширного двора и пыхтел через эту трубу деловито ритмически; другая же, тонкая и обернутая парусиной, коленчатая труба шла от него в небольшой, всего шагов десять в длину балаган, наскоро сколоченный из досок. С задней стороны этого балагана, совершенно открытой, стояла подвода, запряженная парой некрупных пестрых бычков, у которых белые прямые рога однообразно торчали в стороны.
С подводы вилами ухватистая широкая женщина с пышущим жаром лицом сбрасывала лиловую лаванду на площадку из вершковых досок, делавшую этот балаган как бы двухэтажным. На этой площадке рабочие взвешивали лежавшие плотными умятыми кучами цветы на десятичных весах и потом валили куда-то вниз, в три широких железных куба, окрашенных снаружи суриком. За котлами увидели Белогуров и Кудахтин дощатую перегородку. Это и был завод.
Сбоку его дымилась большая теплая на вид куча как бы свеже выброшенной из конюшни перепревшей подстилки, в которой нельзя уж было узнать лаванду, отдавшую только что весь свой густой и терпкий запах, все свое лилово-голубое очарование этим вот людям вокруг.
Две белых козы, рогатая и безрогая с палевой шеей, подошли к дымящейся рыжей куче и вдумчиво глядели зелеными глазами на двух совершенно новых для них людей, в то время как те высказывали друг другу догадку, что три холодильника, соответствующие трем перегонным кубам, должны быть расположены за перегородкой.
Никакого пола завод не имел, кроме той земли, на какой стоял. Со всех четырех сторон двор замыкался одноэтажными домиками самой незатейливой архитектуры. Один дом, подлиннее других, еще строился, и около него гасили в яме известь для штукатурки деревянных стен и кто-то в фартуке поверх кубовой рубахи то и дело взмахивал и сочно пришлепывал ярко-белой лопатой.
К Володьке и его сестренке подошли еще двое ребят постарше, один с заржавленным и погнутым стволом охотничьего куркового ружья, другой с сеткой, в которой лежала небольшая зеленоватая черепаха. Очевидно, у них были какие-то далеко идущие замыслы, – остаток ружья и черепаха в сетке были при них недаром, – и они задержались ненадолго и исчезли.
Когда же из дверей завода вышел с бумажкой в руке молодой и самого беззаботного вида русявый человек в белой вышитой рубахе под пояс и цветистой тюбетейке, Белогуров обратился к нему:
– Товарищ! Нельзя ли нам посмотреть на вашу тут работу? Мы – инженеры-горняки, из дома отдыха.
– Приехали к нам? – весело спросил тот, здороваясь.
– Пришли пешком.
– Да что вы говорите? Напрасно! От нас часто грузовик ходит в город, также и линейки, – могли бы вас подвезти. А работа у нас простейшая: три перегонных куба, и все.
– Три куба – это мы видели сзади, а где же холодильники? – с усилием, как всегда, спросил Кудахтин.
– Сзади три куба, а спереди три холодильника, и по змеевикам бежит вниз масло с водой. Работаем паром, – давление две атмосферы в среднем. Вместе с паром подымается эфирное масло, потом по трубке идет в холодильники, а из холодильников капает в миски вместе с водою…
– А там масло всплывает кверху, – продолжил Белогуров, – и извлекается…
– И все! – довольно закончил беззаботный и весьма приветливо улыбнулся.
В это время невдали, между прекраснейших длинноиглых, синих на фоне зеленого леса сосен, посаженных в виде небольшой аллеи, сосен, завезенных сюда из еще более южных стран, поэтому показавшихся сказочными со своими огромными, как у кедра, шишками и изгибистыми, как змеи в желтой чешуе, сучьями, появился обыкновенный дымчато-фиолетовый осел с черным ремешком вдоль спины и зарыдал надрывно, с перехватами.
– Ослы, значит, у вас тоже есть? – сказал, морщась от дикого крика, Кудахтин.
Беззаботный молодой человек улыбнулся еще приветливее, развел руками в знак сожаления и ответил неопределенно:
– А где же их нет, скажите? – Но тут же добавил: – Иногда все-таки ослы наши – у нас их пара – корзины кое с чем таскают: польза не ахти какая, но вреда от них тоже нет. Но есть возле нас, а к нам только заходят иногда, животные очень вредные, – называются они олени.
– Как олени? Олени? Вы не шутите? – как-то даже на носки поднялся Белогуров.
– Зачем шучу? Олени, самые настоящие… Приходят вот отсюда, из заповедника, – и молодой человек махнул рукой широко в сторону лесов на горах.
Эти леса могуче темнели всюду. Только одна каменная розовая с голубыми бликами круглая верхушка вырывалась из их курчавой томящей овчины, да на одном уступе белела не то этернитовая, не то из оцинкованного железа крыша какого-то строения.
– Эти вот все леса – заповедник теперь?
– Заповедник, а как же?
– Ты слышишь, брат? – широко глянул на Кудахтина Белогуров.
– А в заповеднике этом несколько сот оленей, считая с молодняком.
– Несколько сот?
– Что же им стоит разводить потомство, когда их никто не бьет? Но они к нам из заповедника являются по ночам, стадами голов по двадцать – и прямо на огороды. Тогда уж держись фасоль и кукуруза! А картошку они выгребают всю под итог – факт! Явные вредители. А в сентябре у них гоны начнутся, – тогда уж они не стесняются и днем стадами к нам забегать. А как дерутся рогами, – картина! Аж только стук стоит, точно палкой об палку бьют.
– Однако если они вредительствуют… – начал было Кудахтин.
– Что? Жаловаться на них? Пробовали – бесполезно. Раз они из заповедника – значит, неприкосновенные личности.
Белогуров между тем неотрывно оглядывал леса и повторял:
– Вот как! Заповедник!.. И оленей уже несколько сот!.. А там ведь еще и дикие козы были?
– И диких коз сколько угодно… И диких баранов считают уж тысячи две…
– Баранов?
– Да, муфлонов… Ну, я извиняюсь, мне надо по делу, а вот наш агроном этого участка идет – она вас информирует по всем вопросам, – и он отошел, улыбаясь, и ловкими ногами гимнаста, едва прикасаясь к земле, зашагал к тому строящемуся дому, в котором начали стучать плотники, приколачивая, видимо, доски к балкам, потому что били сильно, сразу в несколько молотков и с оттолочкой.
– Вон как, брат, а? Может быть, уже штук четыреста теперь стало там оленей, а оставалось к концу двадцатого года так, самая малость, – может, десять голов… Вот что значит заповедник! – ликовал Белогуров.
– Однако огромный кусок лесов заняли! Надо как-нибудь нам и туда сходить.
– Хочешь? Сходим! Непременно сходим! – похлопал Кудахтина по плечу Белогуров.
Между тем подошла к ним с той стороны, куда двинулся беззаботный техник, женщина в белой кофточке и серой клетчатой юбке, приземистая, немолодая, уже с проседью в редких волосах, с морщинками около карих глаз, с рыхлой полнотою пожилых женщин. Она сказала с подходу, без интонации и ударений:
– Вы инженеры, товарищи? Из дома отдыха горняков? Любители путешествий? А я агроном Хромцова, агроном этого участка.
– Значит, кроме этого, есть еще плантации лаванды? – спросил Белогуров.
– Разумеется, не одна только эта. Всего три участка и все в разных местах. Здесь только сто тридцать га лаванды, а в других двух участках около четырехсот.
– Ого! Да вы, значит, тут море масла выжимаете?
– Все-таки не море. Вот мы закладываем в три наших куба тонну сырья, а через два с половиной часа получаем с тонны всего только восемь – десять кило масла. А с гектара добывается от двух до пяти тонн сырья.
– Почему же все-таки такая разница: то две тонны, то пять? – удивился Кудахтин. – От почвы это, что ли, зависит?
– Нет, от возраста этой самой лаванды. Молодая лаванда цветет не густо, дает мало сырья: чем старше – тем больше, но… до известного предела! Старше восьми лет она дает уже все меньше и меньше, а в двенадцать совсем перестает цвести, тогда ее надо выбрасывать и заменять новой. У нас это дело совсем молодое, старше пятилетних кустов нет, и пятилетние самые доходные.
– Черенками сажаете?
– И черенками и делением кустов, однако и семенами не брезгаем сажать, хотя семена эти совсем крошечные, меньше маковых зерен.
– Хорошо, но сюда-то именно, на эти горы, зачем вы забрались с лавандой? – спросил Белогуров.
– Да ведь наша лаванда – французская, lavandula vera, лаванда настоящая… Есть еще несколько видов лаванды, но те менее выгодны. А на опыте Франции – очень, между прочим, давнем, – дознано, что самые лучшие выходы масла дает лаванда, если разбивать плантации на такой вот высоте – на высоте трехсот – четырехсот метров над морем. И второй участок наш тоже на такой высоте и третий. Кроме трех наших, есть в Крыму еще плантации лаванды, всего до семисот пятидесяти гектаров, и в прошлом году выгнали всего до шести тонн масла, а это уж не шуточка, это – на два миллиона рублей.
– А куда же все-таки ваше масло идет? Мы, невежды, этого не знаем, – сказал Кудахтин.
– Не вы одни не знаете: дело новое… Куда идет? На душистые туалетные мыла, на духи, на конфекты… Даже есть у нас требование на лавандовое масло от керамических и от фарфоровых заводов.
– Гм, очень трудно представить, зачем для посуды лавандовое масло! – посмотрел на Белогурова Кудахтин.
– Какой-нибудь секрет производства, – выпятил недоуменно губы Белогуров.
– По-видимому, да, – продолжала Хромцова. – Но пока на все наши потребности, говорят, нам хватит восемь тонн масла. А вот во Франции, я слышала, добывают его ежегодно до ста тонн!
Кудахтин качнул головой и бормотнул:
– Ка-кие-е душистые!
– Погодите, и у нас дело восемью тоннами не кончится. Может, лет через двадцать и мы до ста тонн дойдем! Чем у нас хуже лаванде расти? Да у нас теперь даже и на Кубани начали разводить лаванду.
– Ну, хорошо, а как качество масла? Дело не в количестве, а в качестве, – сказал Белогуров. – Должно быть, похуже французского?
– Ничуть не хуже! Ведь мы посылаем свое масло в Москву на фабрику в таких красивых запаянных жестянках: по девять кило масла входит в жестянку, – соответственно тонне сырья. А в Москве на фабрике сидит дегустатор…
– Человек с носом? – проворно вставил Белогуров.
– Вот именно, человек-нос, единственный, незаменимый спец… У него на столе такие пробирки, он соединяет разные масла и нюхает, – вся его работа! Так получаются наши советские духи. Говорят, до семнадцати компонентов иногда входит в те или иные духи, а потребительницы их, конечно, не знают подобных обстоятельств…
– А если у этого незаменимого спеца будет насморк? – с усилием спросил Кудахтин.
– Тогда стоп машина! Тогда всей алхимии до его выздоровления отдых… Так вот этот спец признал наше масло вполне хорошим. Оно и не может быть, конечно, ни каким-нибудь посредственным, ни тем более плохим. Лаванда любит южные склоны, – пожалуйста, у нас здесь их сколько угодно! Любит шиферную почву, – здесь везде шиферная почва… Но она не любит дождливой весны, как в этом году, например, была, поэтому выход масла у нас теперь меньше, чем девять кило с тонны. Зато в прошлом году было почти десять! Это и во Франции считается рекордом. Так что большое значение в нашем деле имеет погода… А цвет масла меняется несколько в зависимости от чего бы вы думали? – от спелости сырья. Когда лаванда в полном цвету, масло бывает зеленое, а теперь, например, она уже частью отцвела, – теперь масло желтое.
– Хорошо, вот вы сейчас, конечно, заняты, – собираете свой урожай, – а что же вы делаете здесь зимой? – живо спросил Белогуров.
– Зимой? Делаем перекопку плантаций.
– Как перекопку? Вручную?.. А трактор?
– Что вы – трактор! Это вам не степь, товарищ! У нас, увы, копают по старинке лопатами. А копать зимой можно далеко не каждый день. Когда идут дожди, перекопку бросаем. А то еще того хуже: вздумает вдруг нас засыпать снегом, – тогда мы, конечно, только существуем и усиленно топим печки.
– Небо коптите?
– Небо коптим… Да, я еще не сказала вам, что у нас, кроме лаванды, есть розмарин и несколько гектаров казанлыкской розы. Но роза у нас – дело еще более молодое, чем лаванда, так что розовое масло мы хотя и гнали в этом году, но, так сказать, в порядке пробы.
Локомобиль между тем однообразно фукал, пар по замотанной в парусину трубе тек в перегонные кубы, а невдали от изнывающих от жажды инженеров падала струйкой из трубы водопровода чистейшая на вид вода, направляясь потом по узкой канавке к яме, в которой гасили известь.
– Ох, не могу терпеть! Очень здесь горит! – дернул ладонью по кадыку Кудахтин и пошел к этой заманчивой струйке.
– Напейся и мне скажи, какая вода! – крикнул ему вдогонку Белогуров, а Хромцова предложила участливо:
– Да вы бы, товарищи, зашли на пчельник, там наши пасечники Покоевы – муж и жена – угостили бы вас лавандовым медом… А может быть, даже и чаю для вас согрели бы, – они люди добрые. Вот их детишки, кстати, Володя и Катя, они вас и доведут.
– Так это с пчельника, значит, ребятишки? Ва-во-дя! – крикнул Белогуров именно так, как называла мальчика его сестренка.
– Вы, стало быть, с ними уже познакомились? – слегка улыбнулась Хромцова.
– Ну, еще бы! Мы с ними – старые приятели! – игриво отозвался Белогуров.
Ульи были расставлены очень аккуратно, такими же правильными, безупречно по веревочке протянутыми рядами, как росли на плантации кусты лаванды. Пчельник был устроен в яблоневом саду, разбитом еще тем самым адвокатом по бракоразводным делам, фамилию которого забыл Белогуров.
Ульи были приземистые, широкие, на четырех дубовых чурбачках каждый, с крышами односкатными, крытыми где железом, где фанерой, но однообразно окрашенными золотистой охрой, веселой на вид.
Яблоки на яблонях висели густо, – год для них был урожайный, – но все они были одного сорта, мелкий и жесткий, хотя и румяный, красивый синап.
Сарай стоял сзади за пчельником, а прямо против пчельника, через дорогу, небольшой домик, куда и привели инженеров Володя с Катей.
По дороге Володя успел задать Белогурову, совершенно для него неожиданно, один из тех вопросов, которые приходят в голову только детям. Он сначала пригляделся к этому черному, толстогубому дяде насупленными голубыми глазами, прежде чем спросил совершенно серьезно и даже как будто хриповато:
– Дядя, а дельфины – они чихают?
Дельфинов в Черном море много. Белогуров видел, купаясь, как они выскакивают из воды, как они гоняются за стаями мелкой рыбешки чуларки или султанки, видел с берега, как далеко в море охотятся за ними флотилии дельфинников с алломанами, но чихают ли дельфины, он не знал и ответил:
– Охота тебе, Володька, задаваться такими роковыми вопросами!
Однако Володька посмотрел потом также насупленно-серьезно на Кудахтина и к нему обратился так же басисто:
– А ты, дядя, не знаешь!
У крыльца домика безмятежно лежала и нежилась в тени крупная черно-рыжая свинья; каштановая лохматая собака на цепи, когда-то от излишнего усердия сорвавшая уже себе голос, выскочила свирепо из конуры с придушенным рыком, и на крыльце, вышиною всего в две ступеньки, показался обеспокоенно глядевший человек, которому Володька крикнул, показав на Белогурова:
– Па-ап, а пап! Вот!
Пчеловод Покоев подтянул брюки, в которые забрана была синяя рубаха, перепрыгнул через непроходимо лежавшую свинью, прикрикнул на собаку и стал перед гостями, небольшой, подстриженный ежиком, красный с лица, с пытливыми сорокалетними серыми глазами в набрякших веках и с протянутой, неслабой на вид рукой.
Белогуров объяснил ему, как и откуда они сюда попали, и он сразу же стал благодушен и говорлив.
– Пчельник наш хотите посмотреть? Могу показать, вполне могу, – только если вы курящие, не ручаюсь тогда, что какая-нибудь сердитая вас не покусает. Курильщиков и длинноволосых пчелы не любят, – впрочем, вы оба стрижены лучше не надо… Сетку могу вынести, только сетка у меня всего-навсего одна…
– А зачем же собственно нам надо ходить по пчельнику? – сказал Кудахтин. – Мы его и отсюда отлично видим – все ваши двести ульев.
– Двести двадцать, – скромно поправил Покоев, а Белогуров, чтобы быть ближе к цели, воодушевленно щелкнул пальцами:
– Говорят, у вас мед замечательный, из лавандовых цветов!
– А вы уж это слыхали?
– Еще бы! Слухом земля полнится!
– Так что вы, товарищи, может, желаете проверить, так ли оно на самом деле? – понял его Покоев. – Что же, за чем дело стало? Заходите в комнату, могу вас попотчевать, только будет сотовый, зато первой свежести: только нынче утром вырезал.
И он начал расталкивать ногою свинью, которая, впрочем, сочла это за хозяйскую ласку и не вставала, только хрюкала блаженно, покачиваясь, но отнюдь не открывая глаз.
Инженеры остановили его: «Бросьте, переступим!» – и, когда поднялись на ступеньку, Покоев проворно юркнул в комнату, и вот прямо перед собой Белогуров увидел на пороге высокую тонкую русоволосую женщину в просторном синем (из той же материи, как и рубаха ее мужа) платье, перехваченном поясом и с широкими, короткими, только до локтей рукавами.
И хотя в комнате с одним и то небольшим окном, к тому же заставленным от солнца банкой сочного бальзамина, было темновато, но Белогурову показалось вдруг, что где-то и когда-то видел он подобную высокую женщину с русыми волосами.
Это мелькнуло мгновенно, и тут же память сочла это обычной ошибкой, тем более что женщина, усадив гостей за стол, покрытый клеенкой, легконого повернулась и вышла куда-то, а следом за нею вышел и сам Покоев, предоставив неожиданным гостям оглядеться.
Комната была маловата – только стол, три стула и кровати. Должно быть, на одном из стульев лежала гармонья-двухрядка, теперь валявшаяся под одной из кроватей; зеркало на стене; около него веером пришпиленные кнопками несколько выцветших фотографий; на кроватях – покрывала из кисейки; на наволочках красные буквы «П», и вот – домашний очаг и семейный уют.
– Ого! Ка-кой красивый! – ударил в ладоши Белогуров, когда Покоев внес и поставил на стол большое блюдо с сотовым медом.
– А соты какие чистые, а? Никогда я таких не видал за всю свою жизнь? – поддержал товарища Кудахтин. – Только нельзя ли к такому меду стаканчик водицы похолоднее?
– Чего другого, а воды у нас хватит: полный колодезь! – радушно отозвался пчеловод, и Кудахтин, сказав: «Вот это здорово, брат!» – сильно хлопнул по спине Белогурова.
Высокая женщина в синем тонкими голыми руками расставила и разложила на столе тарелки, ножи и вилки. Белогуров присмотрелся к ее продолговатому лицу, на котором не было никаких следов загара, и к этим подстриженным вровень с узким подбородком, подвитым домашним способом волосам, и опять ему показалось вдруг ясно – где-то видел.
Она сказала:
– Ну вот, теперь все, кажется, в порядке… Ах да, еще воды вам хо-лод-ной. Хорошо, сейчас будет вода.
Но воду вносил уже сам Покоев в белом с цветочками кувшинчике и два граненых стакана, а Белогурову и самый этот голос, грудной и негромкий, какой он услышал, и растяжка слова «холодной» показались настолько знакомыми, как будто слышал это совсем недавно.
Между тем Кудахтин уже отрезал кусок сот, еще не пробовал его, только держал перед собой на вилке, отправляя в рот глоток за глотком холодную воду, а уж на потном огненном лице его сияло блаженство.
Потом наперебой оба начали хвалить мед:
– Вот так лаванда! Тут ради одного только меду такого еще бы тысяч десять га лаванды надо развесть!
Покоевы сидели рядом около двери, она на стуле, он на табуретке, откуда-то внесенной; Белогуров приходился к ним боком.
Мед действительно казался ему изумительного запаха и вкуса, вода тоже единственной по своим достоинствам водой, но даже и увлеченный этим небывалым соединением такого меда с такой водой, он вдруг быстро повернул голову к женщине, почувствовав на себе ее слишком внимательный, изучающий взгляд.
Бесспорным показалось вдруг, что он не только видел ее где-то, но даже часто видел ее или не ее, но что-то было очень знакомое даже в этих тонких руках с угловатыми девическими локтями, хотя женщине было на вид уже за тридцать лет… Но самое знакомое было почему-то в очертаниях губ ее, прикрывавшихся как-то неплотно.
Покоев же между тем говорил:
– Пчеловодом сюда поступила сначала моя жена… Потянуло ее почему-то в эти места, а до того мы хотя тоже в Крыму, но в степной части жили. Потом, конечно, и меня сюда же перетащила. Она училась пчеловодству в техникуме, а я – пчеловод-практик с самого детства. Так мы тут всего хотя один только год, а пасеку увеличили почти вдвое… И у нас все ульи чистенькие, и гнильца, как в других тут в окрестности пчельниках, у нас и в заводе нет. Все ульи окурены… С будущего года, одним словом, пчельник наш серьезный доход совхозу будет давать, а потом год от году больше и больше.
Высасывая мед из сотов и запивая его щедро водою, Белогуров не столько слушал Покоева, сколько усиленно думал, где и когда это было, что он встречал, и как будто даже часто, его жену.
Когда он взглядывал на нее, то неизменно наталкивался на пристальный взгляд ее голубых, правда, уже выцветающих, но насупленных, как у Володьки, будто тоже вспоминающих глаз…
И вдруг она сказала ему:
– Послушайте, товарищ, а вы часом не из этих ли мест родом?
– Гм… Вот видите, – заулыбался Белогуров, – а я тоже смотрю на вас и думаю: где-то, кажется, мы встречались с вами! Только в этих местах я был лет шестнадцать назад, а после уж не приходилось.
– Шестнадцать лет?.. В двадцатом, значит?.. Ну, тогда так и есть! Мы с тобой в одном отряде партизанами были!.. Я тебя по твоим толстым губам узнала!
И женщина вдруг закраснелась, просияв, и стала девически молодою.
– Катя! – вскрикнул Белогуров, и, едва успев выплюнуть на тарелку воск, который жевал, он вскочил и протянул обе руки женщине.
Он хотел поцеловать ее крепко в эти неплотно сходящиеся, увядающие уже губы, но она наклонила голову, как под ударом, и своими толстыми губами он только коснулся белого ряда среди волос на ее затылке, а руки его охватили ее узкие покатые плечи.
– Сестрой милосердия была в нашем отряде, – сказал он Кудахтину, перебросив глаза через ее мужа. – Их было у нас две… Другую звали, кажется, Паша. И если бы ты, Катя, не ходила тогда в галифе и френче, я бы, конечно, тебя сразу узнал! У меня ведь есть все-таки память на лица, и ты ведь очень мало изменилась в лице и решительно ничего в фигуре… Но в женском платье мне ведь тебя никогда не приходилось видеть, припомни сама!
– Конечно, я тогда не носила платья, – сказала она, – раз я сама была тогда партизаном.
– Это она возилась с моей раной, Катя! – возбужденно говорил Кудахтину Белогуров. – Она бинтовала мне руку, когда пулю вырезал мне врач наш… Не знаю уж, был ли он действительно врач или только фельдшер, но хирург он был все-таки отличный… Только сам все покашливал, бедный…
– Он давно уже умер, я справлялась о нем, – вставила Катя, мать маленькой Кати. – А ради такой встречи я сейчас самовар поставлю, напою вас обоих чаем.
И она поднялась вдруг и выскочила в дверь, изгибисто мелькнув широким синим платьем. Кудахтин успел было бросить ей вслед: «Нам уж идти домой пора!» – но она захлопнула за собою дверь; притом водою, хотя он успел уже вытянуть ее три стакана, он все как-то не мог напиться, и чай представлялся ему заманчивым. Сказал же он, что надо идти, потому только, что присматривался к лицу Покоева в то время, как Белогуров как будто совсем не хотел его замечать, перебрасывая через него разгоряченные взгляды.
Между тем Покоев, это явно было для Кудахтина, очень озадачен был тем, что какой-то чужой человек, откуда-то вдруг пришедший, зовет его жену «ты, Катя», обнимает ее плечи и целует ее в пробор; он открыл рот, неестественно часто мигал веками, загар на его лице потускнел.
Он оправился только тогда, когда жена вышла. Раза два кашлянув, чтоб разыскать голос, для себя обычный, он, с запинками, сосредоточенно глядя на Белогурова, заговорил:
– Да-а… вот как вы, значит… Поэтому есть у вас память на местность. Шестнадцать лет не были в этих местах, а вот… сразу нас нашли… Ко мне, знаете ли, вот не так давно брат родной вздумал приехать с женой своей из Карасубазара, – он там работает. И вот он кружил, кружил по горам тут целый день, и пешком и на извозчике, – всячески, так ничего и не добился, где этот самый лавандовый совхоз… То есть именно наш участок… Осерчал и уехал ни с чем… Потом уж мне написал сердитое письмо из Карасубазара… А вы вот сразу попали, куда вам захотелось попасть… Впрочем, что же я, если уж самовар, то тут уж мне надо жене моей помочь… А вы, разумеется, продолжайте, товарищи, мед кушать…
И он, вскочив, вышел поспешно, а Кудахтин после его ухода сморщился весь, как это только он умел делать, и раза три подряд нырнул вперед и повел в стороны длинной шеей.
– Я потом тебе скажу, в чем тут дело, – на ухо ему шепнул Белогуров.
За самоваром вспоминали.
Самовар меланхоличен по самой натуре своей. Самоварное пение мелодично и, пожалуй, несколько грустно, как мурлыканье злостных дармоедов-котов. Самовар как будто и создавался для того, чтобы, сидя около него, бесконечно вспоминали, и кажется временами, что, когда все самовары наши, наконец, за ненадобностью будут выброшены в медный лом, страна наша навсегда освободится от множества тяжелых воспоминаний.
За самоваром здесь, в небольшой комнате Покоевых, вспоминали Белогуров и Катя, кто из партизан был убит в перестрелках, кто был ранен легко, кто умер от ран или стал инвалидом.
Как бывшая сестра отряда, Катя Покоева больше всего помнила только это. Помнила, как не хватало йода, бинтов, ксероформовой мази, сулемы, борной кислоты, перекиси водорода.
Перебрали потом имена партизан, им обоим известные и еще не исчезнувшие из памяти, и кто где теперь и на какой работе. Белогуров рассказал, между прочим, и о том, что из себя представляют столь же недавно основанные, как лавандовые совхозы, калийные копи в Соликамске, на которых он заведовал участком.
К чаю пришли и Володька с маленькой Катей. Мать еще раньше с заметной гордостью сообщила о своем сыне, что он никогда не скажет, о чем бы то ни было, о чем его спросят, «не знаю», – этого не позволяет ему его самолюбие; он насупится и скажет: «Забыл!..» Забыть, это он, конечно, может, забывают ведь часто и взрослые, но чтобы он не знал, – нет, это недопустимо!.. И чтобы показать гостям, что она не выдумала и не пошутила, она, подмигнув Белогурову, спросила сынишку:
– Володя, а ты знаешь, где Абиссиния?
Мальчик посмотрел на мать исподлобья и пробурчал, отвернувшись:
– Забыл я… – потом ушел из комнаты, захватив с собою сдобный сухарь.
– Вот видите! – ликовала мать. – Ему ведь никто никогда и не говорил ничего об Абиссинии, на карте, конечно, тоже не показывал, но вот усвоил себе привычку такую: «забыть» он может, а «не знать», – это уж вы оставьте! Возили его с Катюшей в город в фотографию сниматься, и вот теперь чуть только увидит у меня в руках или у отца газету, сейчас же спросит: «А что, мой портрет напечатали?» Откуда он взял, что непременно его портрет должны поместить в газете, – а вот взял же! И теперь конечно: вынь-положь газету с его портретом!
Хоть и видел Кудахтин, что его товарищ готов уже был забыть и о доме отдыха горняков, все-таки через час заспешил он идти обратно.
Простились наконец. Поблагодарили за удивительный мед, и чай, и сухари. Белогуров крепко жал руку Кате, глядя в ее выцветающие, но теперь вдруг снова ярко заголубевшие глаза и переводя взгляд на нежелающие плотно смыкаться, как это было и прежде, губы.
Провожать гостей пошел только один Покоев. Он скинул с себя неловкость еще за чаем и теперь хлопотливо справлялся на конюшне, нет ли свободной лошади, не едет ли кто в город. Но все лошади – их было четыре – оказались в работе, грузовик же еще не приходил из города, и неизвестно было, когда придет.
Полюбовавшись еще раз красивейшей картиной огромной плантации лаванды, горняки решили идти пешком, только теперь уже по той самой дороге в долине, которую утром сознательно обошли стороной.
– На дороге, разумеется, всегда вас может какая-нибудь попутная машина нагнать или даже линейка чья-нибудь – вот вы и сядете, – говорил им Покоев, прощаясь и радостно пожимая руки.
Белогуров посмотрел на кроткое небо, пронизанное зноем, на пыльные кипарисы и черешни по границам виноградников с обеих сторон и спросил вдруг с подъемом:
– Ты знаешь, что такое так называемая первая любовь, или тебе не приходилось этого испытывать?
– Ну, ладно, махай дальше, – отозвался Кудахтин.
– Так вот, эта самая Катя и была моя первая любовь!.. Может быть, был ее первой любовью и я, по ее-то словам тогда выходило как будто так, но этого вопроса касаться уж мы не будем… Никого и никогда не целовал я так нежно и крепко потом, как ее, даром, что была она в галифе и френче! Никого, да… и никогда! Но вот раскидало нас в разные стороны, когда Красная Армия вошла в Крым. Отряд наш влили в дивизию в Феодосии… Я уехал учиться в Москву… Катя тоже демобилизовалась… Словом, обстоятельства так сложились, что я ее потерял из виду, она меня тоже… Однако я тебе скажу, – долго я не женился: все как-то не забывалась Катя. Если и обращал внимание, то только на высоких и когда волосы русые… Вот ты улыбаешься, конечно… И я бы, пожалуй, улыбался, если бы ты мне это говорил, а не я тебе. Так что, разумеется, о подобных вещах лучше про себя молчать… Ты ведь и того не знаешь, пожалуй, как это поражает, не хуже пули, когда тебе в семнадцать лет красивая девушка перевязывает рану! Это потрясающе действует!
– Ну, ладно, а теперь-то ты женат или холост, я что-то от тебя не слыхал, – спросил Кудахтин.
– Да уж почти два года женат, что из этого?
– На высокой?
– Н-нет, она обыкновенного женского роста. Лаборантка на заводе у нас.
– Блондинка?
– Н-нет, она скорее шатенка.
– Ну вот, брат, – видишь?
– Что вижу? Ничего особенного не вижу, – недовольно ответил Белогуров, но тут же остановился, заметив в ограде дерево с широкими блестящими ярко-зелеными листьями и колючими ветками. – Вот ты на это лучше погляди! Ты, конечно, в своем Кривом Роге такого дерева никогда не видал и не увидишь, а на подобном дереве, только в другом месте, я, брат, тогда, в двадцатом году, видел и плоды вроде апельсина, и даже припомню сейчас, как оно называется…
Он сорвал лист, помял его в руке, понюхал, пристально поглядел на Кудахтина, потом опять на дерево в ограде, наконец выкрикнул радостно:
– Маклюра! Вспомнил!.. Вот как называли мы это дерево, если ты хочешь знать! Маклюра! А запомнил я это тогда при помощи мнемоники: это название на слово «маклер» похоже; если мужчина маклерством занимается, то он маклер, а если женщина, то неплохо ее назвать маклюрой. Но как женское имя это некрасиво, конечно, а, между прочим, в одной стране, я читал, женщинам дают имена цветов. Как ты себе там хочешь, брат, но это – милый обычай… И если жена моя, – она теперь на девятый месяц беременности переходит, так что к родам ее я поспею, – если родит она девочку, я брат, знаешь, что сделаю? Назову свою дочку Лавандой! По-моему, брат, это очень красивое, очень круглое какое-то имя, а? Ты согласен? Впрочем, если даже и не согласен, назову непременно так!
1936 г.
Комментарии
Живая вода*
Впервые напечатано в журнале «Новый мир» № 7 за 1927 год. Вошло в сборники повестей и рассказов С. Н. Сергеева-Ценского «В грозу» («Федерация», Москва, 1929), «Движения» («Московское товарищество писателей», 1933), Избранные произведения (ГИХЛ, Москва, 1933), Избранное («Советский писатель», Москва, 1936) и Избранные произведения, том второй (Гос. изд. «Художественная литература», Москва, 1937). Во всех перечисленных изданиях автор датировал «Живую воду»: «14 февраля 1927. Крым, Алушта». В последнем прижизненном десятитомном собрании сочинений С. Н. Сергеева-Ценского, выпущенном изд. «Художественная литература» в 1955–1956 гг., автор дал «Живой воде» подзаголовок: «Поэма». Печатается по этому изданию, том второй, 1955.
Старый полоз*
Впервые напечатано в журнале «Красная новь» № 8 за 1927 год. Вошло в сборники «В грозу» и «Движения». В собрание сочинений С. Н. Сергеева-Ценского включается впервые. Печатается по книге: С. Н. Сергеев-Ценский. Избранные произведения, том второй, Гос. изд. «Художественная литература», Москва, 1937.
Верховод*
Впервые напечатано в журнале «Красная нива» № 41 за 1927 год под названием «Вождь». Вошло в сборник «В грозу». В Избранном (Крымиздат, 1950) автор изменил заглавие рассказа «Вождь» на «Верховод». Печатается по собранию сочинений изд. «Художественная литература» (1955–1956 гг.), том второй.
Гриф и Граф*
Впервые напечатано в «Красной ниве» № 19 за 1927 год. Вошло в сборник «В грозу» и Избранные произведения, том второй, 1937, с датой: «Апрель 1927». Печатается по собранию сочинений изд. «Художественная литература» (1955–1956 гг.), том второй.
Мелкий собственник*
Впервые напечатано в «Красной ниве» № 16 за 1928 год. Вошло в сборники «В грозу» и «Движения». В собрание сочинений С. Н. Сергеева-Ценского включается впервые. Печатается по тексту второго тома Избранных произведений, 1937.
Сливы, вишни, черешни*
Впервые напечатано в «Красной нови» № 11 за 1928 год. Вошло в сборники «Поэт и поэтесса» («Федерация», Москва, 1930), «Маяк в тумане» («Советский писатель», Москва, 1935). В собрание сочинений С. Н. Сергеева-Ценского включается впервые. Печатается по тексту «Маяка в тумане».
Блистательная жизнь*
Впервые напечатано в «Красной нови» № 3 за 1929 год. Вошло в сборники: «Поэт и поэтесса», Избранные произведения (ГИХЛ, 1933), «Маяк в тумане», Избранное («Советский писатель», Москва, 1936), Избранные произведения, том второй, 1937. Во всех перечисленных изданиях, кроме «Маяка в тумане», где рассказ не датирован, имеется дата: «Ноябрь 1928». Печатается по собранию сочинений изд. «Художественная литература» (1955–1956 гг.), том второй.
Как прячутся от времени*
Впервые напечатано в «Новом мире» № 7 за 1930 год. Вошло в сборник «Около моря» (ГИХЛ, 1934) и в Избранные произведения, том второй, 1937 г., с датой: «Декабрь 1929 г. Крым, Алушта». Печатается по собранию сочинений изд. «Художественная литература» (1955–1956 гг.), том второй.
Сказочное имя*
Впервые напечатано в «Новом мире» № 5 за 1931 год, с датой: «Сентябрь 1930 г. Крым, Алушта». Вошло в посмертный сборник произведений С. Н. Сергеева-Ценского «Маяк в тумане» (изд. «Крым», Симферополь, 1965). В собрание сочинений С. Н. Сергеева-Ценского включается впервые и печатается по тексту этого сборника.
Сидит у царя водяного Садко… – первая строфа из баллады А. К. Толстого (1817–1875) «Садко».
Ударил Садко по струнам трепака… – не полностью приведенная строфа из той же баллады.
Счастливица*
Впервые напечатано в «Новом мире» № 11 за 1932 год. Вошло в сборник «Маяк в тумане» (1935) и Избранные произведения, том второй, 1937 г., с датой: «Крым, ноябрь 1931 г.». Печатается по собранию сочинений изд. «Художественная литература» (1955–1956 гг.), том второй.
Конец света*
Впервые напечатано в «Красной нови» № 2 за 1934 год с подзаголовком «Рассказы о детях». Вошло в сборник «Около моря». Печатается по собранию сочинений изд. «Художественная литература» (1955–1956 гг.), том второй.
Ночь пролетала над миром… – начало стихотворения А. Н. Плещеева (1825–1893) из цикла «Летние песни».
Устный счет*
Впервые напечатано в «Новом мире» № 3 за 1932 год. Вошло в сборник «Около моря» с подзаголовком «Из записных книжек 28-го года», в сборник «Маяк в тумане» (1935) и в Избранные произведения, том второй, 1937. В последних двух изданиях подзаголовок снят. Печатается по собранию сочинений изд. «Художественная литература» (1955–1956 гг.), том второй.
А сказку такую знаешь: «Философ да огородник»?.. – Имеется в виду басня И. А. Крылова (1769–1844) «Огородник и Философ».
Кость в голове*
Впервые напечатано в журнале «Октябрь» № 1 за 1933 год с подзаголовком: «Из книги „Мелкие собственники“». С тем же подзаголовком и с датой: «Крым, Алушта. Май 1932 г.» вошло в сборник «Около моря». С той же датой, но без подзаголовка вошло также в сборник «Маяк в тумане» (1935) и в Избранные произведения, том второй, 1937. Печатается по собранию сочинений изд. «Художественная литература» (1955–1956 гг.), том второй.
Итог жизни*
Напечатано в «Красной нови» № 3 за 1933 год. В сборниках повестей и рассказов не появлялось. В собрание сочинений С. Н. Сергеева-Ценского включается впервые.
Воронята*
Впервые с подзаголовком «Рассказы о детях» напечатано в «Красной нови» № 2 за 1934 год. Вошло в сборник «Около моря» и Избранные произведения, том второй, 1937. Печатается по собранию сочинений изд. «Художественная литература», том третий, 1955.
Потерянный дневник*
Впервые с подзаголовком «Рассказы о детях» напечатано в «Красной нови» № 2 за 1934 год. Вошло в сборник «Около моря». Печатается по собранию сочинений изд. «Художественная литература» (1955–1956 гг.), том третий.
…глаза сверкают, как у Галуба. – Имеется в виду герой неоконченной поэмы Пушкина «Тазит». Правильное написание его имени – Гасуб.
Воспоминания*
Печатается по сборнику «Около моря». В собрание сочинений С. Н. Сергеева-Ценского включается впервые.
Ключевский профессор… до революции не дожил… не то в десятом, не то в одиннадцатом году его Москва хоронила. – Историк Василий Осипович Ключевский родился в 1841, умер в 1911 году.
Маяк в тумане*
Впервые с подзаголовком «Из книги „Мелкие собственники“» напечатано в «Красной нови» № 12 за 1933 год. Вошло в сборник с одноименным заглавием (1935) и в Избранное («Советский писатель», Москва, 1936). Печатается по собранию сочинений изд. «Художественная литература» (1955–1956 гг.), том третий.
Лаванда*
Впервые появилось в журнале «Колхозник» № 1 за 1938 год. Печатается по собранию сочинений изд. «Художественная литература» (1955–1956 гг.), том третий.
H. M. Любимов
Примечания
(1) Польза, пользоваться, полезный (франц.).
(2) Касторового масла (лат.).
(3) Так проходит земная слава (лат.).
