
В восьмой том вошли 1, 2 и 3 части эпопеи «Преображение России» – «Валя», «Обреченные на гибель» и «Преображение человека».
Художник П. Пинкисевич.
Сергей Николаевич Сергеев-Ценский
Собрание сочинений в двенадцати томах
Том 8. Преображение России
Преображение России
Валя*
Глава первая
Городок и три дачи
У этого лукоморья, если бы подняться вверх, был такой вид, как будто от гор к морю врассыпную ринулись белые дома и домишки, а горы за ними гнались. Около моря перед пристанью домишки столпились, как перед узкой дверью, и, точно в давке, выперли кверху три тощих, как дудочки, минарета и колокольню. Глаз северянина привычно искал бы здесь пожарной каланчи, но каланчи не было (и гореть тут нечему было: камень, черепица) – зато была древняя башня круглой формы с обрушенными краями. В башню эту кто-то давно влепил штук пять круглых ядер: у городка была история. Две-три тысячи лет назад тут жили эллины; может быть, аргонавты заходили в это лукоморье, – дожидались попутных ветров. Теперь здешние греки торговали бакалеей и кефалью, а те греки, которые приезжали сюда из Трапезунда с партиями рабочих-турок, были по каменной части. Как всюду, где жарко солнце и плещет морской прибой, набилось и сюда много разноплеменного народа, и вдоль берега и по долинам двух речушек, пересыхающих летом, белели дачи среди непременных виноградников и томящихся на каленой земле садов. Конечно, сады эти сторожили вдоль оград кипарисы. Попадались и совершенно одинокие дачки среди дубового леска или небольшими группами здесь и там, и местный пристав, у которого на учете числились все эти внезапно вырастающие человечьи гнезда, посылал урядника определить урочище, на котором построились, чтобы знать, куда и кому доставлять окладные листы. Названия урочищ были Хурда-Тарлы, Баар-Дере, Кара-Балчик, – и их мало кто знал, и если случалось приезжим разыскивать какую-нибудь новую дачу, то на набережной у пристани, где стояло несколько извозчиков, скоплялся разный бездельный народ, и неизменно были комиссионер с бляхой, прожаренный солнцем до костей, тощий, как кузнечик, черный цыган Тахтар Чебинцев, – качали вдумчиво головами и вдруг яростно тыкали в воздух пальцами (не указательными, а большими) то вправо, то влево, и по-южному горячо спорили друг с другом, гортанно крича, отмахиваясь кнутами и руками и плюя на мостовую от явной досады. Потом, окончательно установив местоположение дачи, извозчики назначали несосветимую цену, потому что, бог его знает, может быть, искать ее и колесить по горным дорогам туда и сюда придется день целый.
По предгорьям вилось белое от известковой пыли береговое шоссе, и когда по нем спускались вниз огромные арбы, то стуковень-громовень от них долетал до самого моря.
От шоссе вниз к морю расползлись грунтовые желтые дороги, а по бокам балок между дубовыми кустами закружились пешеходные тропинки, которые при солнце казались розовыми. Солнце здесь было такое явное, так очевидно было, что от него – жизнь, что как-то неловко становилось перед ним за минареты и колоколенку и хотелось как-нибудь занавесить их на день, спрятать от солнца, как прячут книги в витринах магазинов, – на день спрятать, а ночью пусть уж будут открыты.
Почва здесь была прочная, как железо, – не поддавалась без размашистой кирки, – воды мало, жизнь дорогая, неудобная, почти дикая, – только солнце. Но зовет к себе солнце, и бывает так в человеческой жизни (может быть, это минуты душевной слабости), когда нельзя никак не откликнуться на этот солнечный зов. Тогда кажется, что правда только в солнце, и идут к нему, как шли в дни аргонавтов.
На урочище Перевал три дачных усадьбы расположились рядом, межа с межой: капитанши Алимовой, подрядчика Носарева и немца Шмидта, фабриканта толя.
Капитанша жила на даче сама, зиму и лето, с горничной Христей, дворником Мартыном и турецким подданным Сеид-Меметом-Мурад-оглы; Шмидт держал садовника, старого полтавского хохла Ивана Щербаня, а дачей управляла Ундина Карловна, сестра фабриканта; подрядчик же Носарев хитроумно устроил у себя на даче плотника Увара, человека семейного и худосочного, который жил бесплатно, работал на стороне, а смотреть и ухаживать ему было не за чем: у Носарева домик был маленький, – всего две комнатки с кухней, – и ничего не сажал он, чтобы не съели бродячие коровы; терпеливо ждал покупателя на землю и в углу своего участка на еловом шесте прибил беленькую дощечку с твердой надписью в карем обводе: «О цене узнать здесь».
Через головы этих трех дач горы и море целые дни перекликались тающими красками: не хвастались ими и не боролись, – просто соревновались, как два больших артиста, влюбленных в одно и то же искусство.
В лунные ночи море облаивали собаки с дач: с дачи Алимовой – пестрый Бордюр, с дачи Шмидта – краснопегий Гектор, с дачи Носарева – серый щенок Увара, Альбом, – все весьма неопределенных пород.
Они сходились в углах своих владений, напряженно смотрели на колдовской золотой столб луны, переливисто погруженный в волны, и затяжно лаяли, надсаживаясь, хрипя и двигая хвостами.
В городке, который лежал в версте от дач, влево и ниже, тоже лаяли в такие ночи собаки, но их за перевалом было еле слышно.
Справа подошли к морю кругловерхие горы, и по ночам на сплошном насыщенно-темном фоне их очень грустно, почему-то растерянно, как упавшее созвездие, желтели огоньки далеких дач: пять, шесть, семь.
По ночам вообще здесь было тоскливо: горы были нелепы, мрачны и совсем близки; море было неопределенно-огромно, черно и раз за разом шлепалось в берег мягким животом прибоя; от этого пропадала уверенность в прочности земли, и жизнь казалась случайной, маленькой и скромной.
Зимою здесь часто шли дожди и ползали туманы. В тихую погоду рыбаки из городка, уходя на баркасах далеко в море, ловили белуг, и вечерами лежали на пристани грязные многопудовые чудища, раскрывали зубатые пасти, обнажали кровавые жабры, шевелили плавниками, пробовали буравить землю хвостом и подбрасываться кверху и странно смотрели маленькими желтыми, чуждыми земле глазами. А около них толпились босоногие, зашлепанные мальчишки в подсученных штанах, два-три татарина с трубками и палками из кизиля, скупщики-евреи: мясник Лахман и часовой мастер Скулович. Потом рыбу взвешивали тут же на больших сенных весах, укладывали в арбу и увозили.
Раза два в неделю приставали пароходы, принимали кое-какой груз: бочки с вином, поздние фрукты, табак и выгружали то цемент, то бакалею, то корзины пива; гремели лебедками, кишели матросами, ревели трубами, свистели, вызывая с берега лодки, – вообще вели себя шумно, как богатые дяди. Потом они прощально гудели – раз, два и три, и весело дымили, уходя, пыхтя, расталкивая небрежно волны и оставляя за собой пенистый, длинный ласточкин хвост.
По балкам и в долине речки залегло много промышленных виноградников, табачных плантаций и садов. Все, что производила земля, называли здесь «доходом», а деньги – «мелочью». Летом и осенью жили шумно, нарядно и весело, зимою – скаредно, голодно, ободранно – все, как земля.
И скучно было зимой. Забавлялись только Айзиком, круглоликим глупым молодым евреем, блаженно сидевшим у порога то одной, то другой лавки.
– Айзик, – спрашивали у него серьезно, – коров гонял?
– Гонял, – улыбался Айзик.
– И маленьких коров гонял?
– Гонял, – улыбался Айзик.
– И барашка гонял?
– Гонял.
– А свиней не гонял? – это вкрадчиво, нежно и тихо.
Отворачивался и молчал Айзик, ковыряя палочкой землю.
– Отчего ж ты свиней не гонял, Айзик?.. Не любишь?
Молчал Айзик и смотрел в землю.
– Эх ты, Айзик, Айзик!.. Свинья, – ну что в ней такого? И ее ведь тоже бог произвел… Значит, поэтому, бог ее не должен был производить? А, Айзик?
Но Айзик подымался и медленно шел прочь, а тот, кто спрашивал, был ли это кряжистый дрогаль, стоявший без дела, или подмастерье из пекарни, или печник, искавший работы, – так как он не расспросил еще всего, что было нужно, шел с ним рядом и спрашивал дальше:
– Сколько же теперь часов, Айзик?.. Вот у тебя часы такие, что уж вернее на всем нашем базаре нет… А?
Вынимал Айзик игрушечные детские часики и говорил поспешно:
– Четыре. (Всегда было четыре.)
– То-то и есть, а у людей – десять!.. А как же, Айзик, вот говорят, ты ветчину ел? Врут, должно?
– Нет, – говорит Айзик.
– Не врут?.. О-о?.. Ел, стало быть?.. Ах, Айзик, Айзик.
Озирается исподлобья Айзик, куда бы уйти; но еще много медленных вопросов.
– К Мустафе, в мясную, стало быть, скот пароходом прибыл, а пригнать некому с пристани… Ты бы, Айзик, пригнал, – пятачок даст.
– Двадцать, – говорит Айзик.
– Вот ты ведь дорогой какой, страсть!.. Там и скота-то чуть: корова большой, корова маленький, барашка… Свиней нет. Свиней и звания нет.
– Нет? – спрашивает Айзик улыбаясь.
– Ника-кой свиньи даже и-и зва… так маленькая, называемая поросенок… Кто этому делу несведущий, скажет сдуру, пожалуй: свинья, а только совсем это не свинья даже, – так только… поросеночек.
И когда Айзик, наконец, бежит, согнувшись, воткнувши головку в узкие плечи и далеко забирая тонкими ногами, – посмеются над ним, и опять скучно на базаре.
Играют в домино и в шашки; есть такие, что по сорока лет сидят в кофейнях все за теми же шашками, и уж лучше их никто, кажется, в целом свете не знает всех тонкостей этой игры. Или где-нибудь за столиком босяк Лаврентий, сам еле грамотный, пишет письмо на родину лудильщику-кавказцу Тамарлы, и около них дрогаль Гордей-курчавый, другой дрогаль – четырегубый Кузьма, толстый грек Пемпа, комиссионер, худой грек Сидор, каменщик, – много народу.
Сдвинув на затылок лохматую баранью шапку, черный, бородатый, весь в саже, Тамарлы кричит, сверкая белками:
– На короткий брат ему пишы!.. А как ему короткий брат нэт живой, – пишы ему на длинный брат!..
– А как и длинного брата в живых нету? – спрашивает Лаврентий.
– А как длинный брат ему нэт, – пишы на короткий сестро!
– А если…
– А короткий сестро нэт живой, пишы ему да на длинный сестро!
– А если ж и длинной сестры…
– Есь-сли, есь-сли!.. Есь-сли длинный сестро нэт, – клади ему на окошко: собака ему не съест!
– Это правильно… – Лаврентий думает и спрашивает невинно: – Так кому же все-таки писать?
Иногда утром бегал по базару босой, в одном нижнем белье, со столовым ножом в руках, отставной капитан 2-го ранга Сизов, седой, весь, как клюква, ярый от пьянства. Кричал и искал везде сыновей, бывших студентов, Степку и Кольку, укравших для пропоя его мундир и брюки, пока он спал. Никто не принимал у них знакомого мундира и брюк, все находилось в целости, брошенное тут же на базаре. Успокаивался капитан и одевался, по-морскому ругаясь. Но находил, что отдать под заклад, кроме мундира и брюк, к вечеру мирился со Степкой и Колькой, и все трое были мертвецки пьяны ночью.
А однажды молодой хозяин одной дачи поручил штукатуру Семену работу на триста рублей. Уплатил сто вперед, сам уехал.
Черный усатый Семен после его отъезда, удивленный, просветленный, встревоженный, целый день ходил по базару. Остановит кого-нибудь, скажет вдохновенно:
– Нет, ты объясни! Вот, барин уехал, работу мне препоручил… сто рублей оставил!.. Мне!.. Не веришь?.. Катеринка, брат! Вот! – Вынимал сторублевку, разглядывал ее со всех сторон и на свет, – не фальшивая ли… – Под фартук!.. Ах ты, скажи, сделай милость, – во что ж он был уверен? У меня состояние, что ли? Один фартук, и тот – дыра!.. Вот э-то он, бра-ат ты мой, мне под фар-тук и да-а-ал! Сто целко-вых!.. – и заливался хохотом черный Семен.
К вечеру он уж поил весь базар. На десятый день он уже покончил с деньгами, стал чугунно-синий, распух, как искусанный осами, и валялся, точно мертвое тело, где пришлось на улицах. А потом ночью повесился от пьяной тоски. Так и погиб этот человек потому только, что ему поверили в первый раз в жизни на сто рублей.
И так как-то странно: были кругом красивые горы, теплое синее море, бездонное небо с ярким солнцем, а баба Лукерья, встречаясь у фонтана с бабой Федосьей, говорила скорбно о муже: «Пришел мой-то вчерась домой пьяной-пьяной-пьяной!.. Головка бедная!..»
Таможенный чиновник Ключик с древним майором Барановичем ловил иногда бычков у пристани, и в зеленой воде колыхались их отражения. Яснее выходил Баранович в выцветшей добела шинели, в белом платке, обвязавшем уши, с белыми усами скобкой. Случалось, вместо бычка попадалась им зеленуха; Ключику это разнообразие нравилось, Барановичу – нет.
Иногда на пристань приходил посидеть отставной чиновник какого-то присутственного места – Моргун. Единственное, о чем он говорил, если находился слушатель, было:
– Земля – она мстит! Мстит, если от нее оторвешься!.. Это твердо знать надо: мс-тит! – и, говоря это, он свирепо сверкал очками и поводил в стороны сухою шеей.
Он купил себе здесь сто саженей земли, поставил саманную избу и на двух грядках разводил клубнику.
Когда она поспевала, ее съедали дрозды.
По вечерам гуляли по набережной: батюшка, пристав и городской староста, Иван Гаврилыч. Поджарый длинный староста, крупный собственник, балансировал слева, плотный пристав с урядничьим лицом, изогнув шею, держался справа, и монументальный, величественный батюшка с посохом, важно шествовал в середине.
На трех дачах зимою бывало совсем заброшенно и дико. Кругом на общественной земле чабаны пасли отары овец.
Из туманной сырости выплывало то здесь, то там ржавое жестяное звяканье колокольцев, и вдруг чабаньи мощные окрики:
– Ар-pa! Ать! Баж-а-ба!.. Рря-я!..
И все кашляло, и блеяло, и сопело, и двигалось в мелких дубовых кустах.
Овцы шли, как слепые, как пешая саранча, – и тогда с дач сходились ближе к колючей изгороди, мимо которой пробирались овцы, оставляя на колючках клочья шерсти, Бордюр, Гектор и молодой Альбом. Они старательно тявкали на овчарок, а овчарки, степенные, пухлохвостые, остроухие псы, приостанавливались, смотрели, высунув красные языки, и потом, нагнув головы, по-рабочему споро шли дальше: один спереди стада, другие сбоку, третьи сзади, и вожатые, старые желтоглазые козлы с колокольчиками, тоже непонимающе озирались кругом, надменно трясли бородами и легко уходили, скрипя копытцами.
Летом отары не сходили с гор. Летом только тощие, с длинными шеями коровы воровато обшарпывали пограничные кипарисы и туи, отчего у этих деревьев всегда был встрепанный, взъерошенный вид, как у боевых петухов весною.
Иногда вечером, когда уж совсем плохо было видно, вдруг слышался одинокий, но громкий бабий голос; шел все ближе, ближе, подымаясь из балок, терялся иногда и опять возникал; это одна, сама с собой говорила, идя в городок с дачи генерала Затонского, пьяная, но крепкая на ноги баба:
– Я земского врача, Юрия Григорьича, Акулина Павловна, – пра-ачка!.. А любовник мой, чистый или грязный, – все равно он – мой милый!.. Все прощу, а за свово любовника не прощу-у!.. Я Прохора Лукьяныча, запасного солдата, любовница – Акулина Павловна, земская прачка! Прохор Лукьянычу ноги вымою, воду выпию, а мово любовника ни на кого в свете не променяю… Ты – генерал, ты кого хочешь бей, а мово Прохор Лукьяныча не смей! Приду, приставу скажу: «Вашее высокое благородие! Я – земская прачка, Акулина Павловна, земского врача, Юрия Григорьича… Вот вам деньги, – я заплачу, а его отпустите сейчас на волю…» – «Это когой-то его?» – «А это мово любовника, Прохор Лукьяныча, запасного солдата… Нонче дураков нет, – все на том свете остались…»
Так она идет в густых сумерках и говорит сама с собой, на все лады, громко и отчетливо, вспоминая генеральского кучера Прохора Лукьяныча, и лают ей вслед собаки.
По праздникам в дождливые дни, когда можно было ничего не делать, но некуда было идти, Мартын и Иван сходились на кухне Увара и длинно играли здесь на верстаке в фильку. Тогда широкие рыжие усы Мартына, закрученные тугими кольцами, и висячие подковкой усы Ивана и белесые молодые Уваровы усы погружались в лохматые карты, и карты по-жабьи шлепали по верстаку, иногда вместо червонки – пиковка, – трудно уж было разглядеть.
Шестилетний Максимка, Уваров сынишка, который до пяти лет не говорил ни одного слова, а теперь во все вникал и всему удивлялся, показывал рукой то на морщинистое лицо Ивана, то на рябое, разноглазое, скуластое Мартыново лицо и оборачивался к матери: «Мамка, глянь!.. Гы-гы…»
Увар был калужанин, Мартын – орловец, и иногда подшучивал Мартын над Уваром:
– Ну, калуцкай!.. Ваши они, калуцкие, – мозговые. Это про ваших, про калуцких, сложено: «Дяденька, найми в месячные!» – «А что ты делать могешь?» – «Все дочиста, что хошь: хуганить, рубанить, галтели галтелить, тес хорохорить, дорожки прокопыривать, выдры выдирать»…
Мартын смеялся в полсмеха, простуженно и добродушно, далеко выставив острый нос, а Увар серчал.
– Вы-дры! Черт рыжий!.. Ты ще даже толком не знаешь, что это за выдры за такие, кашник!.. Ваши, орёльские, они знай только: «Дяденька, найми на год: езли каша без масла, – сто сорок, а езли с маслом, – сто двадцать»… Дыхать без каши не можете, а то калуцкие… Они дело знают, а орёльские без понятиев…
У Ивана было небольшое, в кулачок сжатое лицо, но крепкие плечи и такие широченные лапы, мясистые, тяжелые, налитые, что верили ему, когда говорил он об единственном своем – рабочей силе:
– Семь пудов грузи, – возьму и восемь пудов, – возьму и десять пудов, все одно возьму: я на работу скаженный.
Но жаловался на одинокую жизнь Иван и завидовал Увару, и, говоря об этом, он конфузился и краснел, косясь в сторону Устиньи, Уваровой жены, чтоб она не слыхала, а так как это затаенно обдумано было у него, то выкладывал только голую суть:
– И потом того – вот без бабы я… Нет, так, кроме шутков всяких: шаровары, например, распоролись, – зашить ведь бабская ж работа?.. Борщу сварить, чай в свое время… А то – хлеб да зелень, хлеб да зелень, хлеб да опять же зелень… Долго ли с сухой пищии, – я без шутков всяких – каттар желудка и квит.
А Увар серчал и на Ивана и говорил:
– До скольких годов ты дожил, – ну, а понятия бог тебе настоящего не дал! Ведь ето арест нашему брату, – баба! Ведь ето меня девятнадцати лет мальчишкой женили, а то теперь-то я рази бы далей?.. «Женись да женись, а то что же ты будешь, как беспричальный…» Да я, кабы не женатый – у меня бы сейчас по моей работе двести рублей в банке на книжке бы лежало, – ты то пойми… Да ходил бы чисто, чишше барина.
О своей работе Увар был преувеличенного мнения и, беря работу у кого-нибудь, никаких объяснений не слушал.
– Как же я могу сгадить, – а, улан? Разе такой сгадить может?.. Кто ето у тебя работу взял? Эх, улан, улан… Ведь ето Увар у тебя работу взял! Разе он когда гадил?
Потом он работал действительно старательно и долго, торопился, переделывал раза по три и всегда гадил.
А Мартын был когда-то в школе ротных фельдшеров и потому свысока смотрел и на Ивана и на Увара; носил синий картуз с тугой пружиной и околышем из Манчестера и, когда покупал для капитанши молоко на базаре, говорил строго бабе:
– Смотри, как если жидкое будет, сделаю я тебе претензию, чтоб не подливала ты аквы дистиляты.
Иностранные слова любил и хотя путал их и калечил, – вместо «специально» говорил «национально», и вместо «практикант» – «проскурант», – в глубине души только эти слова и считал истинно-человеческими словами. Пил умеренно; покупал иногда газету, которой хватало ему недели на две, и читал так внимательно, что по году помнил, как, например, принимали министра в каком-нибудь городе Острогожске; служил аккуратно, фабрил усы… И все-таки капитанша, седая, но крашенная в три цвета: красный, оранжевый и бурый, с крупным иссосанным лицом, круглыми белыми глазами и бородавчатым подбородком, и горничная Христя, бойкая, вся выпуклая хохотуха-девка, и Сеид-Мемет-Мурад-оглы, мужчина приземистый, черный, бородатый, крупноголовый, с огромным носом, похожим на цифру 6, – все одинаково считали его дураком.
Немец Шмидт дачу свою выстроил неуклюже, но очень прочно: из железобетона, в два этажа: дерево покрасил охрой, крышу покрыл не толем, а железом; но железо не красил, а прогрунтовал смолой, преследуя прочность. Всю землю изрыл канавами и бассейнами для дождевой воды, а промежутки засадил персиками и черешней. Ундина Карловна завела кур, корову, кормила двух породистых поросят и как-то успевала всюду: и управиться с обедом, и накричать глухим басом на Ивана, и подвить жесткие белобрысые волосы барашком.
Долгое время жила она с виноделом Христофором Попандопуло, – вечно пьяным и вздорным греком; но однажды на базаре из дверей кофейни услышала зычный голос: «Kaffe ist kalt!.. Гей-ге!.. Kaffe ist kalt!»[1], заглянула туда и увидела плотного бритого немца средних лет, и тут же, зардевшись, сказала ему по-немецки: «Если господин хочет горячего кофе, пусть он зайдет со мною на дачу».
И господин, оказавшийся слесарем Эйхе, зашел, и так понравился ему горячий кофе, что вот уж три года жил он на даче, чинил замки, ковал железные решетки, чистил водопроводы и пьян был только по воскресеньям.
Капитанша Алимова корила им Сеид-Мемета:
– Вот, видишь, работящий какой немке попался, а ты!.. Ты бы хоть по хозяйству об чем-нибудь подумал, мне бы помог… Ах, лодырь божий!..
И отвечал ей не спеша Сеид-Мемет:
– Твой ум – сам думай, мой ум – сам думай… Мой ум тебе дам, – сам как буду?
И не давал ей своего ума. По целым дням сидел на берегу в кофейнях, забравшись с ногами на грязный табурет, курил трубку, давил золу корявым пальцем, много слушал, мало говорил.
Иногда зимою дули ветры с гор такие сплошные, густые, холодные, точно где-то их заморозили на Яйле, и теперь они прорвали плотины и полились, вырывая с корнями в садах из размокшей земли молодые деревья. Укутавшись в теплый платок, часто выбегала тогда из дому Ундина Карловна посмотреть, не разбило ли курятник, не снесло ли крышу с коровника, и Иван в такие дни не работал в саду, жался на кухне. Не о чем было говорить и не с кем: учил большого вислоухого Гектора стоять на задних лапах:
– Служи! Ну, служи!.. Ты не слухать? От, скотина. Я тебя пою-кормлю, блох вычесываю, а ты не слухать? Служи… Ой, дам веревки, ой, дам! Служи!
Гектор величайшее смирение изображал своею рыжей белоусой мордой, мигал виновато, жалостно глядел в глаза Ивана, подвывал даже, но служить не мог.
Иногда шел хлопьями снег и тут же таял, и журчали певуче ручьи в глубоких балках. А потом вдруг развернется такой ослепительно солнечный голубой пышный день, что обрадованно лезут наперебой здесь и там из рудой земли золото-лаковые звездочки крокусов, трава тянет острыми стрелками, растопыриваются по черным шиферным скатам молодые розовые молочаи, и Устинья, укачав на солнышке грудного, устраивает грядки для помидоров, а Максимка, маленький и упрямый, лениво ходит с кошелкой по пустому перевалу, собирая сухой навоз. Под навозом в тепле жучьи норы – в них пороется, у крокусов корешки луковицы – их откопает, погрызет, выплюнет.
– Ты игде там?.. Максимка!.. Максимка, шут!.. – кричит Устинья.
– А-а? – лениво отзывается он, сидя верхом на своей кошелке и разглядывая божий мир сквозь желтое стекло от разбитой кем-то здесь пивной бутылки.
А в марте уже цветет миндаль, и от него струится что-то совсем молодое, нежное, молочно-девичье, и над бурыми вскопанными виноградниками чуть синий пар, и на мелкодубье начинают уже жиреть почки и сталкивать наземь прошлогодний лист, и зяблики пробуют отсырелые голоса.
А к апрелю горы, как гусенята, в желтоватом пуху дубов и буков, и не тяжелые, мягкие, жмурые: так и хочется протянуть к ним руку, погладить. И все как-то блаженно глупеет, переливается, лучится, прячется одно за другое, и море между горами сзади и небом спереди тоже какое-то лазоревое, наивное, вот-вот качнется и закачается сразу все целиком, справа налево, слева направо, мерно и плавно, точно детская люлька.
Глава вторая
Однажды случилось так
Обычно зимою тут было пусто на дачах, но однажды случилось так, что на всех трех дачах остались на зиму: на даче Шмидта – небольшое семейство, на даче Алимовой – одинокий архитектор средних лет, а в домике Носарева – гимназист на костылях. Конечно, это была простая случайность, что поселились рядом в урочище Перевал – небольшое семейство, архитектор и гимназист, но, кроме простых случайностей, что же есть в человеческой жизни?
Гимназист 6-го класса, Павлик Каплин, приехал сюда из города Белева в октябре, а ногу ему отрезали Великим постом в том же году, и сам же Павлик был виноват в этом.
В среду на масленице, когда распустили гимназию и Павлик вместе с двумя-тремя еще шел по улице радостный (а улица была вся золотая и мягкая от морозного солнца и снега; насугробило перед тем за ночь; деревянные крыши все закутало; на свежем снегу синие цветочки вороньих следов так были четки, и глупыми милыми блинами так пахло из трактира Патутина на углу Воздвиженской и Успенской, и лица встречных были светлы и пьяны, как бывает только в праздник и как чуется только в ранней юности), – а улица шла отлогим бугром вперед, и очень далеко ее, прямую, всю было видно; и вот показалась тройка, и по тому, как мчалась она дико под уклон, и как отвалился назад бесшапый кучер, и как бились сани о тротуарные тумбы на раскатах, и по крикам, и как махали ей навстречу руками вдали, видно было, что это не веселые белевцы катаются, а кого-то несет тройка, и уж городовой в башлыке откуда-то выскочил, и засвистел, и побежал следом, и зачернел внезапно народ, как всегда при несчастье…
Павлик был странный мальчик: он не только был мечтателен, как многие мальчики его лет, он положительно бредил подвигами, стремительно жаждал их. Это был слабый, белокурый юнец, с весьма ясными, раз навсегда изумленными глазами, но он всячески закалял себя, допоздна купался, бегал босиком по снегу, старался быть выносливее всех одноклассников, изучал борьбу и довольно ловко боролся, усвоил какую-то странную походку с раскачкой плеч, которая придавала ему весьма бесшабашный вид, но не упруго-сильный, как думал он сам, а только ни к чему задорный.
Он и странных людей выискивал и любил с ними говорить, а юродивый Степынька, который жил, как божья птица, на улицах и сочинял Николе-угоднику такие просьбы:
Подыми меня, Микола,
Выше города Белева.
Расшиби меня, Микола,
Об солому, об омёт. –
и дальше, в этом же роде, очень длинно, – когда встречал Павлика, уж так бывал ему рад, как своему, и все, улыбаясь, нежно гладил его по спине корявой рукой. К схимнику в монастырь верст за тридцать ходил Павлик, чтобы решить при его помощи какие-то свои вопросы (не решил). Иногда он бывал очень необщителен, смотрел на всех молча, издалека, – тогда ясно было, что в нем что-то бродило: человек вырастал; иногда же он был неистово весел, всех любил, и его все любили, и все представлялось возможным, лишь бы суметь захотеть.
Теперь вот именно и был такой день, к несчастью мальчика. Яркий ли снег ослепил, или свобода, или что-то почуяла душа, – но когда тройка была уже шагах в двадцати, Павлик, – точно кто толкнул его, – кинулся на середину улицы и поднял руки… Потом в несколько четких мгновений Павлик отметил: свой собственный крик, чужие крики, трезвоны, грохот, гром, сверканье снега, прозор неба над гривой в дуге, красный блеск глаз, пенные морды – три… две… одну… горячий пар, пот, – и ударило его в грудь так, что вдруг стало темно и пусто…
Оглоблей отбросило Павлика в сторону, и только правая нога попала под копыта пристяжной и потом под полоз саней. Тройка промчалась, а он остался.
Ногу пришлось отрезать. Грудь лечили в Белеве, летом усердно поили Павлика парным молоком, но к зиме мелкий почтовый чиновник, его отец, пошептавшись с доктором и покачав горестно головою, отправил его сюда, на горный воздух. Подрядчик Носарев был тоже белевец, это он и предложил поместить Павлика на своей дачке. Обедал Павлик у Увара. Каждую неделю, аккуратно с субботы на воскресенье, отец писал ему письма, сначала длинные, потом короче, но непременно справлялся в каждом письме, как помогает ему горный воздух.
Увар сначала дичился Павлика и спросил даже его враждебно:
– А вам, может, мой зюк очень шибко мешает?
– Какой зюк?
– Да вот, что стучу я… Конечно, сами вы понять должны, – нам при нашей работе без зюку нельзя.
И, посмотрев исподлобья, добавил еще:
– Или вот когда наследник мой заорет, – воспретить ему этого ведь никак я не могу, а вам беспокойство.
Павлик его успокоил, а потом Увар и Устинья привыкли к тому, как он говорил, как он ел, как покашливал в своей комнатке, допоздна палил «фотоген» и вставал поздно.
Часто сидел Павлик над тетрадкой в черной клеенке, на которой вырезана была ножом странная надпись: «Патология бога». Первые строчки этой тетрадки были: «Мыслю бога, как существо имманентное и в основе своей больное. Если бы не был болен бог, – не был бы болен мир».
Когда поехал сюда Павлик, в Белеве лили последние перед зимой дожди, а здесь горы стояли золотые, балки вблизи лиловые, пляж – синий. Здесь только что все успокоилось от жаркого лета, только сосредоточилось, задумалось в тишине, и такое все было чистое и величавое в линиях и тонах, а воздух был так прозрачен, редок, что проступили, чеканясь, самые дальние, сухие горные верхушки, отчетливые в каждой щербинке, – рукой подать, – и целыми днями сидел очарованный Павлик.
Еще кузнечиков было много и таинственных богомолов, и стояла густо над землей звонкая трескотня, и ящерицы шныряли еще, только все облезло-серые, и почему-то все с обломанными хвостами, и из куч виноградных чубуков в старых плетнях выползали длинные желтобрюхи и лениво грелись на косогорах.
Первые дни были сказочны, точно попал в зачарованное царство, и не нарушали очарование разные будничные мелочи: то Устинья убила, например, кочергою желтобрюха, который ночью, очевидно, подполз к крылечку, зачем-то захватил в пасть селедочную голову и, как объяснил Увар, – «насосался соленого да очумел, только хвостом водил»; то на соседней даче Алимовой пропала рудая утка, только что принесенная с базара, и так как крылья у нее были подрезаны и улететь она не могла, то Мартын и Христя и сама Алимова все перекликались, шаря ее кругом в дубовых и карагачевых кустах, – так и не нашли; то появилась какая-то одичалая кошка, которая жалобно мяукала на крыше по ночам, а днем пропадала, оставляя только поблизости крысиные шкурки и крылышки перепелок и других птиц.
Селедочные головы, рудые утки, кошки и крысиные шкурки, – это было еще прежнее, белевское; оно, конечно, мешало, засоряло величие гор и моря кругом и глубочайшего, нового неба, но засоряло еле заметно, и то, что переживал здесь Павлик, одиноко костыляя по нетрудным тропинкам, было неповторяемо прекрасно.
Так было несколько дней, но когда разразился вдруг шторм на море, и от сильнейшего ветра нельзя было выйти, чтобы не сбило с ног, и зябкое тело хотелось закутать покрепче и ставни приковать, чтоб не скрипели и не визжали, и кипарисы укрепить прочнее, чтобы не трепало их за покорные бороды, пригибая к земле, – то как-то тоскливо стало: чужое, огромное, безучастное, дикое какое-то, ревущее около скал береговых море пугало, и в то же время жутко жаль было его, как запертого зверя, и жаль золотых гор, лиловых балок и синего пляжа, растерявших краски. Тогда чаще и подолгу сидел Павлик над своей тетрадкой с надписью «Патология бога» и скрипел перышком.
Семейство, поселившееся на даче Шмидта, было небольшое и для общей большой жизни едва ли нужное: отставной старый полковник Добычин, Лев Анисимыч, живший на скромную пенсию, его жена – слепая, толстая дама, и дочь лет двадцати пяти, бывшая актриса – небольшая, провинциальная, – Наталья Львовна. Они приехали из Черни; сюда на дачу попали потому, что здесь было дешевле, чем в других местах – ближе к городу или на берегу, а зимовать здесь остались потому, что безразлично было, где жить на квартире, здесь или в Черни, но слепой нравилось тепло и невнятный шум прибоя, Наталье Львовне – тепло и безлюдье, а самому Добычину – тепло и осенняя кротость. Он и сам был кроткий старик: сохранял еще или старался сохранять бодрость и веселость, при ходьбе бойко стучал каблуками, но начал уже греться у чужих молодых огоньков, подолгу и крепко жать руки, здороваясь, преданно и ласково смотреть в глаза, часто умиляться, поддакивать, жевать губами, хохотать с громким кашлем и со слезой.
Давно уже не шил себе ничего нового, – донашивал старую форму и, где нужно было, штопал ее сам по ночам, а ведь не спалось уж часто; тогда, если штопал, то штопал дольше, чем нужно, если читал газету, то прочитывал одно и то же по нескольку раз, если набивал папиросы себе, жене и дочери (все курили), то сколько хватало табаку, – лишь бы не думать, потому что думать было и трудно, и не о чем, и очень скучно. Болонка Нелли с ним была неразлучна, и если выходил он гулять, – провожала его непременно: вернее, они гуляли вдвоем. И если останавливался кто-нибудь из приобретенных знакомых поговорить с Добычиным, подкатывалась Нелли, толстенькая, беленькая, и черными глазенками смотрела вопросительно ему в глаза, растревоженно урча, а Добычин:
– Что? Чужой? Чужой, Нелюся?.. Боишься, тронет барина? Хочешь ему задать трепки?.. Боится собачка!.. Нет-нет: чужой – хороший, Нелюся, не тронет чужой барина, – нет-нет.
И говорил чужому:
– Любит меня – это я вам доложу – по-ра-зи-тель-но! Ни жену, ни дочь, – хотя к тем тоже привязана, но не та-ак! Нелюся, любишь барина? Любишь, да? Ро-ман-тическая собачка! Романсирует Нелюся, да, да!.. Влюблена в своего барина, да, да, да!..
Нелли женственно пожималась и виляла хвостом, а он, нагнувшись, трепал ее по кудрявой шерсти и снизу, блестя очками, таинственно сообщал чужому:
– Все решительно понимает… все на свете! Больше, чем человек.
У него был большой, с горбинкой, ноздреватый нос, седые усы он подстригал щеткой, лицо от солнца покраснело и шелушилось, точно собиралось поноветь. В крупном жестком кадыке сохранился еще зык, и иногда он показывал его, крича на жену. Но слепая была удивительно холодна – она знала, что даже и крик этот – тоже кротость. Она сидела в кресле страшно тучная, с безжизненно оплывшим лицом, и когда муж переставал кричать, уставая, говорила ему ровно и спокойно:
– Ты кончил?.. Хорошо… Принеси мне пива стакан… И сухарей к пиву… И папирос.
Почему-то беспокоило ее только представление о сколопендре: часто казалось ей, что ползет где-то около ног ее сколопендра и вот сейчас, скользкая, поднимется по башмаку вверх до голого места и укусит, – хотя сколопендры ей никогда не приходилось видеть и даже трудного слова этого она не могла выговорить как надо, – называла сколопендру – «цилиндрою». И когда приносил ей Лев Анисимыч папирос, сухарей и пива, она добавляла ровно:
– И посмотри еще, нет ли цилиндры.
Ходить ей, конечно, было трудно. Целыми днями сидела на балконе, подставив солнцу круглое безжизненное лицо. И солнце как-то проникало в нее, как спокойствие, устойчивость и своеобразие. Про птичью трескотню за балконом спрашивала мужа: «Это кто же это так: воробьи или птички?» Когда в первый раз услыхала, как камни рвали порохом в горах, спросила спокойно: «Неприятель ли это какой подступает или свои?»
И Ундине Карловне говорила: «Всем хороша ваша дача, и обед сносный, жалко только одно, что вы – немка… Не люблю немцев… Вот немецкое пиво люблю, а самих немцев нет… Не лежит к ним душа».
Наталья Львовна в шестнадцать лет была скромной по виду институткой; в восемнадцать, обманув отца, будто едет к подруге в соседний город, ушла с богомолками по длинным-длинным полевым дорогам – с палочкой, с синенькой ленточкой в косе, в ситцевом платочке, в лаптях и совершенно без денег. В дороге с ней случилось что-то скверное, о чем она не говорила, но, кое-как через месяц добравшись домой, долго болела. В девятнадцать лет поступила учительницей в глухое село, а в двадцать – артисткой на выхода в захудалую труппу, с которой четыре года бродила по провинции, – наконец теперь никуда уже не рвалась; смуглая, большеглазая, строгая на вид, в черном, очень простом, – точно в трауре, гуляла одна, часами глядела на море (от моря, если глядеть на него долго, голубеет, смягчаясь, душа).
У Алимовой, державшей лошадь, поселился архитектор Алексей Иваныч Дивеев, которого город пригласил наблюдать за устройством берегового шоссе. Грунт берега был тут слабый, шиферный, и каждый год наползали срезанные берега на дорогу, а во время сильных прибоев защитную стенку, кое-как сложенную, растаскивали волны. Долго собирались устроить все основательно, – наконец собрались; Алексей же Иваныч приехал сюда совсем не за тем, чтобы строить береговую дорогу, – это ему почти навязал городской староста, с которым он познакомился через день – через два после того, как приехал. Знакомился со всеми кругом он стремительно, точно имел со всеми сродство, – чуть глянул, нажал в себе нужную кнопку и готово – соединился.
Это был человек лет тридцати пяти, хорошего роста, длинноголовый; прятал светлые глаза в бурых мешках, рыжеватую бороду подстригал остроконечно, носил фуражку с кокардой и значком, говорил высоким голосом, всегда возбужденно, всегда о себе; с двух рюмок водки переходил со всеми на «ты»; ходил быстрым и мелким шагом, а мысли у него были беспорядочно бегучие, тонкие, кружные, со внезапными остановками и неожиданными скачками, точно лопоухий ненатасканный лягаш на первой охоте.
Каждый человек более или менее плотно сидит в сундуке своего прошлого, сундуке сложном, со множеством ходов и выходов, дверок и дверей, и вынуть его из этого вместилища – иногда большой, иногда невозможный труд. Но все двери и дверки свои с первого слова первому встречному легко и просто отворял Алексей Иваныч. Только поселился здесь, а через день все уже знали, где он родился, учился, служил, с кем он поссорился, с какого места ушел и куда, чего потом он не мог вынести на этом новом месте и на какую еще должность поступил и куда именно… Так узнали и о том, что год назад ему изменила жена, а недавно умерла родами, и через два месяца «взяла к себе» старшего сына. Митю, а прижитого с любовником оставила ему, и что где-то на Волыни сестра ее «закладывает теперь последние юбки, чтобы выкормить маленького Дивеева, который даже совсем и не Дивеев, а Лепетюк…»
Так как городок жил (и то чужой жизнью приезжих) только летом, а на зиму замирал, – закрывалась большая половина лавок, отсылалась половина почтовых чиновников, уезжали кавказцы и персы с шелком и чадрами, итальянцы с кораллами и поддельным жемчугом и прочие, оставались только туземцы, которые всегда были сонные, то, понятно, все обернулось в сторону Алексея Иваныча с его береговой дорогой, спешащей походкой, высоким голосом и покойницей-женой, которая ему изменила. И так как каждому, с кем говорил о жене Алексей Иваныч, он показывал и ее карточку, то все и запомнили невольно ее, как будто тоже знали эту красивую женщину с голой шеей, с полуоткрытыми, что-то приготовившимися сказать губами и напряженным, останавливающим взглядом, как у людей, которые вот сейчас что-то непременно скажут, а если не захотите их слушать, отвернетесь, пойдете, – все равно крикнут вам вслед.
Глава третья
Наталья Львовна
С полковником познакомился Алексей Иваныч на Перевале, в том месте, с которого открывался вид на городок и дальние горы. Полковник стоял и смотрел вниз на причудливую дорогу, Алексей Иваныч подымался по этой дороге вверх из города, а Нелли на него залаяла хрипуче, как лают все жирные собачонки.
– Вот я тебе! – погрозил ей Алексей Иваныч пальцем.
– Нелюся, отстань! Нехорошо, собачка! – выговорил ей полковник.
– Она не кусается?
– Ну, зачем мы будем кусаться: мы – собачка воспитанная… – ответил полковник.
Так и познакомились, и полковник еще рассказал о своей собачке, что она и спать не ляжет спокойно, – все будет урчать и тянуть его за брюки, если вечером не сходят они сюда, на это именно место, и не посмотрят вдоволь на городок и дальние горы. Алексей Иваныч тоже рассказал что-то к случаю, а минут через двадцать уже сидел в гостях у Добычиных за чаем и говорил:
– Хотелось бы здесь поохотиться… Зайцы здесь есть, – сколько раз сам своими глазами видел, – а вот куниц бы! Здесь должны быть куницы, – непременно, потому что дубовый лес, дупла – они такие места любят. Непременно надо сходить…
За столом сидела и старуха, поставив прямо против глаз Алексея Иваныча свое тяжелое деревянно-идольское лицо; суетился все полковник, подставляя привычно сухари, варенье, пастилу.
Наталья Львовна посидела немного, скучая, и ушла в свою комнату писать письма.
Услышав об охоте, зайцах, куницах, полковник так умилился, что даже на месте подпрыгнул и весь засиял.
– Вы – охотник? Вот как мило: охотник!.. Ах, охота, охота! Ах, охота!
– Да ведь я и сюда с охоты, – весь август, помилуйте, у племянника в Рязанской губернии… Именьице, не скажу… имение, – было раньше имение, а теперь именьице, – семьдесят десятин… Мещеря!.. Рядом болота! Уток – необстрелянные миллионы!..
– Д-да! д-да!.. Я вот вам покажу сейчас, дорогой мой, я вам покажу…
Полковник даже за плечо его берет, но не может остановиться Алексей Иваныч.
– Утки-черныги – по десять фунтов, – чистые гуси, а там их бездна, бездна!.. Бекасы, кроншнепы, вальдшнепы… Чирят там и за дичь не считают: мы их сотнями били, сотнями, понимаете?..
– И ле-бе-дей били? – медленно спрашивает старуха.
Она говорит это так спокойно, – до того все неподвижным осталось на ее лице, лишь только она сказала, – что Алексей Иваныч несколько мгновений смотрит на нее озадаченно.
– Лебедей? – Он делает вид, как будто вспоминает, а пока отвечает своей скороговоркой: – Лебедь… как бы сказать вам… Лебедь в тех местах редкая птица… Лебедь там редкость…
– Э-э, ты не говори уж: ле-бе-дей!.. – морщится на старуху полковник. – Всегда ты что-нибудь скажешь… Ты бы молчала!
– Зачем же мне мол-чать? – спрашивает медленно она.
Но Алексею Иванычу кажется вдруг, что тут срыв какой-то, – яма бездонная: лебеди… Почему не было в его жизни лебедей? Должны были быть: без них в прошлом скучно, пустовато как-то без них… Пусто… Совершенная пустота… И, пугаясь этой пустоты, говорит он быстро:
– Ну да, вспомнил – лебеди! Правда, только один такой случай и был… Увидали мы стайку, штук пять…
– Бе-лых?
– Оставь! – морщится полковник. – Ну, конечно, белых…
– Не-ет, – так, скорее они сероватые немного – молодые… – успокаивает слепую Алексей Иваныч. – А племянник мой горячий: ба-бац дуплетом, – сразу двух взял. Вот шлепнулись! Птицы большие! Три отлетели, и вот странность…
– А те вместе у-па-ли?
– Так, – шагах… ну, в десяти один от другого… Волчьей картечью бил… А три эти… описали круг и, – странно, – опять на то же самое место!
– Где те ле-жа-ли?
– Где те…
– Жалко ста-ло.
– Очевидно… Или, может быть, – любопытство, не стрелял в них никогда никто. Прилетели и, значит… Я уже не стрелял, – племянник, он их один, племянник: бац! ба-бац! и из моего ружья, – всех!.. А я уж и не стрелял.
– Что ж, ели?
Старуха упорна, а Алексей Иваныч не знает, едят ли лебедей.
– Двух съели, – вдруг быстро решает он, – и то гостей приглашали: попа с фельдшером, – ведь величина: вы только представьте!.. Из трех чучела сделали: мне, ему, племяннику, а третье… соседу подарили: хороший был человек, – мировой судья, – ему. Редкостный человек!
– Во-от!.. Мой сын то-же… У меня был сын, у-мер… Кадет… Тоже и он… Из лебе-дя чу-чело сделал… За двадцать пять рублей про-дал… – медленно-медленно тянет старуха и так спокойно: хоть бы что-нибудь шевельнулось на толстом лице, кажется, не раскрывались и губы.
– Мама! – строго говорит из-за двери Наталья Львовна тем останавливающим тоном, каким матери говорят с детьми, требующими острастки.
– А?.. Ты что? – поворачивает голову в ее сторону слепая.
– Не выдумывайте! – и голос Натальи Львовны брезглив.
А полковник, – небольшой здесь, в комнатах, вечером, и какой-то цепкий, как репей, подскакивает к Алексею Иванычу, хватает его под руку и так спешит сказать что-то, так спешит.
– Альбомы у меня, – пойдемте, посмотрим… великолепные охотничьи… или сюда принести?
Алексей Иваныч идет с полковником, но когда выходят они в другую комнату:
– Ты меня не теряй, смотри, – говорит слепая, подымая в сторону их шагов лицо. – Смотри, – не теряй!
– Как я тебя потеряю?.. Как?.. Ну, как? – кричит полковник.
– То-то… Не теряй…
– Крест!.. Гм!.. Ты – крест мой!.. Это – крест мой! Крест!..
Костлявая рука сердито впилась в руку Алексея Иваныча, повыше локтя, отчего ему неловко немного. Шаги у полковника твердые еще; каблуки высокие и сильно стучат.
В альбоме прыгают (руки полковника дрожат крупно) пожелтевшие, захватанные пальцами снимки: полковник на волчьей охоте, полковник на козьей охоте, полковник на куче убитых зайцев, полковник и борзые, полковник и гончие… Есть еще с ним какие-то офицеры, солдаты, штатские с ружьями, но они только дополнение, а главное лицо – он. И на снимках везде он важен и строг. Усы у него густые под спущенным, как башлык, носом, брови пучками.
Теперь усы его подстрижены скобкой, и жаль Алексею Иванычу прежних его усов, и еще жаль, что сам он мало охотился, не видал ни волков, ни коз, ни куниц, ни лебедей на воле, и хоть бы и в самом деле оказался у него вдруг какой-нибудь племянник в Рязанской губернии, который внезапно родился в уме, чтобы было о чем поговорить со стариком, и родился потому, должно быть, что в прихожей стояла вешалка из козьих рогов.
На столе перед ними двумя порхает синий язычок пламени свечи в розовом фарфоровом подсвечнике, отчего на крепком лбу полковника играет блик, а голос его выкатывается из жесткого кадыка с хрипотой и треском, когда он объясняет снимки:
– Эх, приятно вспомнить!.. Это – в лесу Мосолова, помещика, в Шацком уезде… Я там с ротой на вольных работах, – капитан тогда был, – подружились… Девять штук волков, а?.. Облавой! А это… У Мосолова, – у него конский завод был… Известный… Не слыхали? Очень богатый!.. Десять тысяч десятин лесу сгорело, – ни чер-та! И смотреть не ездил… Рыжеватый такой, полный… А это… в… как ее… в Лиф… Лиф… Тут записано должно быть: Нитау, местечко, Лифляндской, – ну да, я помню, что Лифляндской губернии, у Остен-Сакена, барона, в лесу… Гм… Я тогда в командировке был в Риге… Город – Рига, а губерния Лифляндская. У немцев «все наоборот»… Тут – козы… А это тут со мной рядом уездный начальник, по-нашему – исправник… – ну, уж забыл фамилию, тоже барон… А вот – жалость: замечательный снимок, – красным вином облили… Это – я и моя жена верхами… Я ее учил барьеры брать… Она замечательно ездила верхом, дорогой мой, дивно ездила… Дивно… Дивно…
– Моя жена, – ее звали Валентиной, – Валентина Михайловна, – она тоже хорошо ездила верхом… – вставил Алексей Иваныч. – И на коньках… Да, очень жаль, что испортили: отличный снимок.
– Картина! Просто картина художника. А это – моя дочь девочкой… В коротеньком платьице еще бегала… – При этом полковник вздохнул, крякнул и покачал головой.
Из альбома на Алексея Иваныча глядели застенчивые большие глаза десятилетней девочки, для которой вся жизнь такая еще туманная сказка, такая тайна… Вот оторвали ее от какого-то своего очень важного детского дела, просят постоять минутку, не шевелясь, и глядеть в одну точку, и она поднялась, перебирая руками белый передник, и глядит исподлобья непременно на того, кто стоит за аппаратом, а стоит, должно быть, приглашенный фотограф, совершенно новое и несколько загадочное лицо в куртке и шляпе с широкими полями… Сверху бьет в нее солнце, и, кажется, она только что сказала отцу: «Ну, зачем, папа! Ну, я же не хочу… Я лучше потом…» Или сейчас скажет, когда уже щелкнет аппарат и фотограф разрешающе наклонит в ее сторону голову в бандитской шляпе…
Алексею Иванычу приятно глядеть на эту девочку с институтской косичкой и большими глазами, – и он глядит долго. Он представляет рядом своего мальчика Митю и говорит полковнику:
– Мой Митя, – покойный мой сын, – вот тоже таких почти лет умер от дифтерита недавно, – он…
Ему хочется добавить, что вот, если бы жив был Митя, они с этой девочкой говорили бы о всяких детских вещах: о том, например, пахнут ли васильки, и отчего здесь нет незабудок, и велики ли броненосцы, и дороги ли эти камешки-сердолики, которые попадаются здесь в морском песке на пляже.
Но когда он вспоминает Наталью Львовну, которая, скучная, ушла от него теперь писать письма, то почему-то жалко ему, что давно уже знает она, сколь велики броненосцы, и как дешевы сердолики, и пахнут ли васильки, – и не о чем было бы уж ей говорить с его Митей… Поэтому добавляет он совсем не то, что хотел:
– Был он очень любознательный мальчик… и неиспорченный… и красивый, славный… У меня сам хозяйство вел, – когда мы вдвоем остались…
А полковник перевернул уже страницу альбома и вместо девочки в коротком переднике показал девушку взбито-модно-причесанную, с таким выражением задорно вскинутого лица, которое бывает только в восемнадцать лет, когда каждый неглупый юноша кажется себе гением, а каждая миловидная девушка смотрит королевной, – и сказал:
– Это – тоже Наташа.
Потом Наташа попадалась еще несколько раз (незаметно за охотничьим пошел семейный альбом) – то учительницей, то в каких-то ролях, которых не мог припомнить полковник, да это и не нужно было Алексею Иванычу. Всегда, когда мельтешится перед нами какая-то чужая жизнь, она вытесняет что-то из нашей души, и если натиск ее не особенно бурный, то ей, как в приличной гостинице, чинно отводят свое место. Так заняла свое место девочка в белом переднике: именно эти детские застенчивые глаза глубже всего залегли в память, а остальное было, как багаж при ней.
В кабинетике полковника был очень кропотливый стариковский порядок, а на окне в двух длинноватых ящиках, похожих на лотки, улеживались яблоки синап и какие-то груши, уже желтые, но еще твердые на вид.
От них в комнате стоял осенний законченный сладковатый запах… Митю хоронили в сентябре, и у кладбищенских ворот рядом сидели бабы с антоновкой и апортом, и, это жутко припоминает Алексей Иваныч, так же вот пахло… К удивлению полковника, передернув плечами, он задумчиво посвистывает и вдруг говорит о грушах:
– Вы заверните их каждую в бумажку, они скорее доспеют… Почему, не знаю, но это – так: скорее доспеют.
– При-шел ты? – ровным голосом своим спрашивает старуха, когда они приходят в гостиную.
– Куда же я от тебя уйду?.. Куда?.. Крест мой! – спокойно уже теперь говорит полковник.
– А-га… Крест! – повторяет старуха, и тут она зевает вдруг сладко, длинно и широко, как будто целую жизнь свою гналась она за мужем, а он все от нее увертывался, ускользал и только вот теперь пойман, навсегда пойман, никуда уже не уйдет больше, и, отдыхая, может она позволить себе это – зевнуть успокоенно и глубоко, насколько дадут оплывшие тяжелые щеки.
Потом она говорит:
– Ну, при-не-си пи-ва стакан… Два ста-ка-на: может, и гость со мной выпьет. Вы пье-те пиво? – ищет она Алексея Иваныча правым ухом.
– Я пью… Я все пью… – поспешно отвечает Алексей Иваныч.
И, подсаживаясь к ней рядом, он внимательно, бесстыдно внимательно (ведь она его не видит) рассматривает ее руки, неряшливую серую кофточку из клетчатой фланели, косынку на плоской широкой голове с очень редкими тонкими, неопределимого цвета волосами, ноздреватый небольшой нос, наконец, мутные глаза… Оглядывается быстро, не вернулся ли полковник с пивом, и еще ближе смотрит на безволосые брови, точки на носу, плоские дряблые уши с коричневыми проколами для серег…
Алексею Иванычу хочется спросить, как и давно ли она ослепла, но слепая спрашивает его сама:
– А вы сю-да ле-чить-ся?
– Нет, я не болен, нет… И никогда не был болен!.. Не помню, чтоб…
– Ф-фу, господи! – закричал из дверей полковник с пивом в руках. – Я ведь тебе сказал, что они – э-э… инженер местный, – мосты тут строят… ну.
– А-а… Вы тут на службе!.. Тут до-ро-гая у нас жизнь… И есть нечего…
– Н-нет, – иногда кое-что попадается… В клубе недурно кормят.
– А вот белоцерковской вет-чины не мог-ли мне достать.
– Белоцерковской?
– Да, ее на еловых шишках коптят, – вмешался полковник, наливая пиво в стаканы. – Вкус у этой ветчины, скажу я вам… замечательный!
– На мож-же-вельни-ке ее коптят, а совсем не на еловых шишках…
– Нет, уж извини, – это тамбовскую ветчину, – ту, точно… И то я, кажется, вру, – это Могилевскую… И то вру… Ковенскую на можжевельнике коптят, а не тамбовскую… А на чем же ее коптят, – тамбовскую?
Так как полковник ожидающе смотрел на Алексея Иваныча, чтобы он подсказал, то Алексей Иваныч сказал поспешно:
– Нет, этого я не знаю… Вот (он подвинул к себе варенье) староста здешний угощал меня чем-то вкусным, из обрезков фруктовых варится… Варится и варится, и варится с сахаром, разумеется, – пока хоть ножом режь… называется бекмес… очень вкусно!
– Это мы е-ли в Ра-до-ме… помнишь?
Добычин сделал круглые глаза, пожал плечами, страдальчески повел костистой головою в сторону Алексея Иваныча и вдруг, запинаясь, совсем не о том заговорил:
– А-а… э-э-э… Вот вы говорили – фрукты… они… если их завернуть в бумажку… они тогда доспеют скорее… Почему же это, собственно, так?
Глаза у него – серые, выцветшие, в красных стариковских оболочках, в бурых мешках… «А у нее, должно быть, карие глаза были», – решает Алексей Иваныч, отвечает поспешно:
– Нет уж, не могу вам объяснить этого, – и усиленно пьет пиво большими глотками.
У дачной мебели, как и у мебели гостиниц, вокзалов, есть какой-то очень противный, ко всем равнодушный, всему посторонний вид. А Шмидт, из экономии, очень разномастную мебель напихал в эти комнаты, и какая-то вся она была жесткая, а старикам нужно бы помягче, и Алексею Иванычу жаль их, и, чтобы сказать им что-нибудь приятное, он говорит:
– Предсказание обсерватории знаете? Теплая погода простоит вплоть до самого декабря!.. Верно, верно… И сильных ветров не будет…
– А-га! – оживился Добычин. – Хотя эти предсказания, большей частью… Гм… Вот, что сильных ветров, это хорошо, это милее всего – ах, надоедные!.. И вы заметили, они ведь от облака: встанет облако такое, белое, над горой какой-нибудь, – ну и кончено, есть… Пронзительные все-таки тут ветры!.. (Даже теперь в комнате подрожал немного полковник.)
– А вы в про-фе-ранс игра-ете? – неожиданно спрашивает слепая.
«А как же?!» – только что хочет сказать Алексей Иваныч, но видит, как Добычин и головой и руками делает ему отрицательные знаки, и говорит поспешно:
– Нет… Ни вообще в карты, ни в какую игру… Бубну от козыря отличить не умею…
– Эх, вы-ы… пло-хой!
– Что делать… Вот в домино…
– А-а! – сказала старуха довольно.
Но видя, что Добычин, скорчась, ухватился за голову, добавил Алексей Иваныч:
– В домино тут принято играть, – не понимаю, какой в этом смысл…
– А я дума-ла: играете…
– Страстный игрок! – указал на жену Добычин, весь сияя тому, что Алексей Иваныч оказался так понятлив. – Когда капитан Обух батарейного командира получил, – а они с женой милейшие, конечно, люди, – партнеры ее неизменные… Когда уезжали они, – «и мы, говорит, к вам в Тавастгус… Вы нас ждите!..» А? Шутка ли, – в Тавастгус какой-то, черт знает куда! Все думали, что так это, как обыкновенно бывает… Гм… Дружеская шутка… А она – всурьез! А она всурьез!.. (Даже покраснел Добычин.)
Алексей Иваныч силился представить, как слепая может быть страстным игроком, и не мог; решил, что это раньше когда-то… как охотничий альбом и тот, семейный, с карточкой, залитой красным вином, и с другою карточкой: девочкой в белом переднике.
– Женские причуды!.. – продолжал полковник. – Вот и дочь моя тоже: цыплят не ест! «Почему же ты все решительно: говядину, телятину, баранину, и рыбу всякую, и дичь, и кур… (представьте!)… Ведь кур же ты ешь! Почему же ты цыплят избегаешь?» – «Ну, не могу…» – «Как же это прикажешь понять: „не могу“? Почему именно не можешь?» – «Ну, не могу, вот и все…» Не могу, и все! – пожал длинно плечами и посмотрел горестно.
– Мы еще к ним по-е-дем, – сказала слепая, зевнув.
– Куда? Куда поедешь?
– К Обухам… В Тавастгус…
– Во-от!.. А?.. – Добычин до того прискорбно покачал головою, что только Нелли могла его отвлечь: пришла с какою-то косточкой из кухни, положила около его ног и заурчала.
– Что, косточка, а, Нелюся?.. Ах, хорошая косточка! Ах, замечательная, а! Ах, хорошая! – Если я не похвалю, не будет есть, ни-ни-ни, – ни за что!
– Понимает вас…
– Уди-вительная!.. Все решительно понимает, – все на свете!.. Кушай, Нелюсенька, кушай: хор-рошая… Да-да-да… Замечательная!..
Тут, тихо отворив дверь, вошла и села на диван, поджав ноги, Наталья Львовна. Алексей Иваныч предупредительно повернул свой стул так, чтобы быть к ней лицом, но она не вмешалась в странный разговор: она сидела совершенно спокойно, только глядела попеременно на всех нахмуренными немного глазами, – на него так же, как на отца, на мать. Теперь Алексей Иваныч присмотрелся к ней внимательней, чем раньше, и увидел, что у нее все лицо – из одних глаз, только глаза эти – не те, которые мелькали на карточках в альбоме, а от них, так много уж видевших и знающих, становилось неловко сидеть здесь на стуле, лицом к лицу.
Из черной кофточки выходила белой колонной ровная шея, и лицо, – если бы закрыть глаза, – было правильное, с немного ноздреватым, материнским носом и похожим на отцовский лбом, но видно было по глазам, до чего ей тоскливо здесь и как тоскливо было в своей комнате, где она писала письма, и, должно быть, рвала и бросала на пол, писала, рвала и бросала, – так и не могла ни одного докончить и так же смотрела на огонь свечи или на абажур лампы, как теперь на него.
Однообразно сосредоточенный взгляд всегда неприятно действует, если даже и ничего плохого за ним нет. Алексей Иваныч минут десять выдерживал, вертясь и ежась, но потом стремительно вскочил и начал прощаться, ссылаясь на какой-то расчет или отчет по работам, который он должен составить немедленно, теперь же.
Полковник усиленно просил его заходить.
Глава четвертая
Павлик
Большей частью закаты здесь были великолепны, особенно, когда после ветреного дня вдруг падала откуда-то мягкая влажная тишина. За таким закатом жадно следил однажды Павлик, боясь пропустить хоть один клочок неба, или моря, или гор. Так было не по-земному красиво все, что на глаза наползали слезы.
Отсюда море открывалось во всю ширину, и, по-вечернему, ближе стали горы справа с круглыми верхушками, обряженные в безлистые теперь уже леса, как в сизую теплую овечью волну (такой у них был вид кудрявый), а дальние горы, слева, таяли, как дымок, бестелесно.
Но главное было – небо. Никто не видал Павлика, – сидел, серенький, на сером обомшелом камне на гребне балки, – и не видно было отсюда верхних дач, и не было никого кругом, только он, Павлик, да небо в закате, – и совсем не стыдно было чувствовать по-детски, что небо-то ведь живое! Облака как будто шелестели даже, когда шли, и шли они именно так, как им надо было: справа, из-за гор, куда ушло солнце, они вырываются, – с бою берут небо, лохматые, багровые, жадные, немного безумные; слева они уже спокойней, ленивей, крылатее, небо взято; а над морем – там они лежат: там их золотой отдых.
На море – рябь, теперь мелко-блистающая, а ближе к берегам брызнули на нем извилистые длинные узкие гладкие полосы – сущие змеи – и лежали долго: поднялись с глубины морские змеи полюбоваться закатом – и так просто это было. Там змеи, а еще ближе к берегу бакланы: пролетали над самой водой удивительно чуткие к порядку и равнению птицы – сначала одна партия, в две шеренги, штук по сто в каждой, точно черные бусы, и пока летели, на глазах Павлика все блюли равнение; потом еще – одна шеренга флангом к берегу, а другая ей в затылок под прямым углом; потом еще – в виде длинного треугольника; пролетели и пали на воду с криком. Павлик представил, что где-нибудь так же, как он, следит за ними старый полковник с дачи Шмидта, и вот-то радуется его военное сердце! Пожалуй, кричит и им привычное: «Спасибо, бра-атцы-ы!», как на параде, – с осанкой в голосе и перекатами в жестком кадыке… А беленькая собачка на него, встревожась, лает.
Бакланы, потом морские змеи, потом – парусники, тоже щедро раскрашенные закатом, – штук пять, с каким-нибудь грузом, все древнее… На самой крайней к морю горе справа, совсем круглой, как хорошо поднявшийся кулич, жила когда-то, больше тысячи лет назад (знал уже это Павлик), сосланная сюда из Византии опальная царица; была там крепость с башней, а теперь только груды огромных гранитных камней и узкий потайной выход к морю, тоже разрушенный и заваленный. Такое же море, как теперь, представлял Павлик, такой же закат, тех же длинных змей и бакланов, и такие же парусники утонули далеко в заре, а царица (с верхушки той горы ведь еще дальше и шире видно море) смотрит на все такими же, как у него, Павлика, глазами…
Опальная сосланная царица; может быть, она мечтала о том, что ее возвратят снова ко двору, в шумную Византию, может быть, и смотрела больше в ту сторону, на юго-запад, но видела она вот именно это же, что он, Павлик: стаи бакланов, полосы и блистающую рябь, облака, может быть той же самой формы (там, где у них золотой отдых, – какие же еще могли бы быть облака?), два-три парусника… Ну, еще вот этот, определенный такой, помчавшийся влево, сизый, как голубь, мокрый на вид, морской заузок… И что же еще? Царицы он ясно представить не мог, но какие же грустные, глубокие, человеческие тысячелетние глаза он ощутил около!.. И как будто смотрели они уж не на море, как он, а на него с моря – и это было жутко немного и сладко.
Был канун праздника, и тонко звонили ко всенощной в одинокой церкви в городке внизу, а здесь – стайки щеглов в балочке шелушили шишки колючек, – ужинали и трещали.
Солнце зашло уж, и только в круглый выгиб горы, отделанной сквозным, как кружево, лесом, ударило снизу, сбоку… Вышло это несказанно красиво и так неожиданно, что Павлик ахнул и улыбнулся… Но тут же вспомнил, что он, подымающий разбитое тело на костыли, как на крест, ведь умирает он, медленно, но неуклонно умирает, может быть весною умрет, а мир останется без него…
От этой мысли страдальчески заныло тело, и закрылись глаза, и как будто сама провалилась под ним земля, такое все стало у него невесомое, оцепенелое, положительно безжизненное: костыли, слабые пальцы, разбитая грудь – все забылось: умер Павлик… Умер он, но ощутительно жили кругом и в нем и сквозь него длинные змеи-полосы на море, облака, гора, охваченная закатом, щеглы на репейнике, парусники… Какой-то мельком замеченный шершавый клубок перекати-поля, – и для него нашлось место в нем, и он жил… И солнце, которое зашло за горы, непременно ведь взойдет завтра, как и миллион лет назад…
И Павлика охватил вдруг трепет, – закружившаяся бурная радость всего живого: синего, желтого, всецветного, вечно-земного бытия…
– А-а! – протяжно вдруг вскрикнул Павлик от радости, что и после его смерти все так же хороша земля, – а-а! – и воскрес…
Потом послышались спешащие шуршащие шаги за спиной, – шуршащие потому, что сыпались из-под ног мелкие камешки шифера, и, оглянувшись, увидел Павлик Алексея Иваныча в форменной фуражке, в крылатке. Видно было, что он куда-то спешил и наткнулся на него нечаянно, потому что, бледный от зеленых сумерек, удивленный, остановился перед ним и спросил, вытянув голову:
– Вы – вы, или это тень ваша?
И несколько секунд смотрел как бы испуганно, потом опомнился, снял фуражку, потер красный рубец на лбу и добавил:
– Шел, о вас не думал совсем, вдруг – вы!..
И не успел еще очнуться от своего прежнего Павлик, как он уже взял его за плечо и сказал тихо:
– Понимаете – потушила!
– Кто? Что?
– Сейчас у всенощной был, – вы поверите: волосы на голове подняло! Я же за нее свечку поставил богородице, у Царских врат, – пришла и потушила… Все свечки горят, а мою, – ведь нашла же, – у меня же на глазах – подошла и потушила!.. Чтобы и я видел. А? Как вам покажется?
С Павликом Алексей Иваныч познакомился раньше – просто, как-то встретив его на дороге, бросил ему на ходу: «Эка, скверные у вас костыли! Непременно купите себе бамбуковые: легче и плечу мягче… Верно, верно, – что улыбаетесь? Я серьезно вам говорю: другим человеком станете… До свидания!»… И пошел дальше, но потом, при встречах (а Павлик часто ковылял по дороге между дачами, где было ровнее и удобнее для его костылей), Алексей Иваныч здоровался и о чем-нибудь заговаривал мимоходом. И о том, что умерла у него жена, он успел уже ему сказать, так что теперь Павлик догадался, кто потушил свечу: он представил, как по церкви идет бесплотная, чуть сиреневая, как кадильный дымок, строгая женщина, не поднимая глаз, подходит к подсвечнику, уставленному со всех сторон одинаковыми свечами, и сухо тушит пятачковую свечу Алексея Иваныча.
– В пять копеек свечка? – спрашивает, улыбаясь, Павлик.
– В десять, в десять… Но там и другие были в десять, – не одна моя. Потушила… Все, что я для нее делаю, оказывается, не нужно ей… Почему?
– Не знаю.
– Я тоже не знаю… Ей все хотелось купить один дом, – мы в нем тогда жили, – это за год до ее смерти, – тогда не было денег… Недавно, вот перед приездом сюда, я заработал одиннадцать тысяч, купил этот дом, хотя мне он теперь зачем? Но… она хотела этого, – хорошо, купил… Конечно, ей он теперь тоже не нужен… Дом стоит пустой… Пусть стоит, что ж…
Лицо Алексея Иваныча стало совсем зелено-сквозным, и глаза белые, как две льдинки – это от сумерек, спускавшихся неудержимо. Уж все тона смешались на море, и на горах, и в небе, все стало лиловым, разных оттенков, но очень могучим, спокойным, и тишина кругом была влажная, густая, как мысль, и, зная, что мысли у Алексея Иваныча бегучие, сказал Павлик восторженно:
– Хорошо как, – а!!
– Это – не наша красота! – живо подхватил Алексей Иваныч. – Не наша, – понимаете? Наша красота – это осина скрипучая, ива плакучая, баба страшная – вся харя у бабы в оспе, – лес червивый, речка тухлая – вот!.. Это наша! Колесо без ободьев, лошадь – ребра, изба – стропила, – вот! Наша! Коренная! Узаконенная! О другой и думать не смей… Об этой?.. Это – разврат!.. Это – тем более разврат!..
И, приближая к Павлику лицо с белыми глазами, он сказал, как какую-то тайну, тихо:
– Я ведь сюда нечаянно: я не сюда ехал… Я к нему, к Илье хотел (это любовник моей жены… бывший, разумеется)… На узловой станции я долго ходил, думал: может быть, ей и это не нужно, чтобы я его к ответу?.. Свой поезд я пропустил, а потом шел поезд в этом направлении, – так и очутился здесь… совершенно случайно… Впрочем, отсюда к нему можно и пароходом… Я так и сделаю… Вам не сыро?
– Нет, ничего.
Павлик дослеживал последнее потухание красок кругом, так как на глаз заметно шли быстро сумерки, – и представил он, как в сумерки такие же, в ночь идущие, морем вот таким аспидно-серым едет Алексей Иваныч к Илье. И ему стало досадно вдруг – зачем? А Алексей Иваныч говорил:
– Да, это надо выяснить наконец.
– Что же выяснять еще?.. Кажется, все уже кончено и все ясно.
– Э-э, – «ясно»! В том-то все и дело, что неясно, очень неясно, чудовищно, запутанно!.. Она его так же обнимала, как меня, она ему те же самые, – понимаете, – те же самые слова говорила, что и мне, так же целовала крепко, как меня!.. Какой ужас! Как это непонятно! Как это чудовищно страшно!.. Ведь мы с нею десять лет жили… как бы вам сказать… Должно быть, этого нельзя передать… «Жили десять лет», – ничего не говорит это вам, это не звучит никак, суетные слова, – совсем, как немой промычал… Десять лет! Лучшую часть жизни, самую смелую, самую умную… Боже мой!.. Когда Митя был болен, я у него сидел около кроватки… «Валя, ложись, спи, голубка, а я посижу…» И Валя ляжет… Никому не доверяла, – сиделке, няньке не доверяла, – только мне. Валя спит тут же, – как камень, бедная, – до того уставала!.. Митя в жару, – бог знает, какая именно болезнь, опасная или неопасная, – у детей маленьких этого не узнаешь сразу, – а я сижу… И совсем не чувствовал я, что это я сижу, а Валя спит, а Митя болен, – нет, это я и сидел, и болен был, и спал – разорвать меня на три части никак было нельзя, никакой силой… Так я тогда думал… Как меня разорвешь? Никак нельзя!.. Понимаете?.. Круть-верть, – можно оказалось – и вот ничего нет… Как же? как же?.. Как? Каким же это образом все случилось? Вот что нужно разобрать, а не «кончено»… Вы говорите «кончено» потому, что представить этого не можете, а для меня это не кончено… И как это может быть кончено?.. Валя умерла полгода назад… Митя – в сентябре, – значит уж два месяца, – как день один!.. И ничего не кончено… Только запуталось все…
Теперь все кругом стало однотонным, сероватым, и Алексей Иваныч в своей крылатке показался Павлику плотнее, резче и… как-то ближе, чем прежде. И с тоном превосходства в голосе, который невольно является у тех, кто выслушивает жалобы, Павлик сказал:
– Вам нужно все это забыть, а то… а то это, знаете ли, вредно…
– Забыть?.. Как забыть?..
– Просто не думать об этом… Взять и не думать.
– И… о чем же думать?.. Вы – мудрый человек, но этого не скажете. И забыть тут ничего нельзя… Перед смертью она написала мне небольшое письмо карандашом (она ведь лежала)… написала, чтобы я не заботился о ней и о ребенке, что она обойдется и без моих забот, – и это в то время, когда Илья ее ведь не принял, – вы понимаете? – когда ей совершенно не на что было жить… когда она приехала к сестре, честной труженице, конторщице, очень бедной… За что же такая ненависть ко мне? Вдруг – ненависть, и все время так… и теперь… Вы вот говорите: забудь, – я понимаю это, – однако она меня тоже не может забыть. Ею владеет ненависть – почему? Потому, что она сделала шаг неосторожный, рискованный – изменила мне… Но тот, с кем изменила, ради которого изменила, – он-то ее и не принял потом!.. Я говорил ей раньше это, предупреждал, предсказывал, что так именно и выйдет – и оказался прав… Вот этого именно она и не может мне простить, что я оказался прав, а не она. Вы понимаете? Вот в чем тут… Мы очень любили друг друга и потому очень боролись друг с другом… Но больше я ей, конечно, уступал… И когда уступишь, ей всегда кажется, что она права: этим она и держалась около меня… Женщины это больше всего любят: казаться правыми, когда кругом неправы, и в этом их слабость главнейшая… И вот – теперь… потушила!.. Что же это значит?
– Это вам померещилось.
– Галлюцинация, вы думаете?.. Однако же свечка потухла. И это не первое ведь и не последнее… Подобных вещей уж было достаточно много. Я вам расскажу, если хотите… Нет, эта женщина огромной жизненной силы и… злости. Она мне не доказала чего-то… мы с ней не доспорили до конца. Вот это!.. И ведь я же ей простил, но она этого не хочет, чтобы простил я! Вы понимаете? – больше всего именно этого она и не хочет!
Очень убежденно это было сказано, так что Павлик даже улыбнулся невольно и с улыбкой в голосе сказал:
– Почем же вы знаете?
Было тихо и тепло, и сквозь облака высоко стоящая луна начала просвечивать желтым; ночь же обещала быть совсем светлой. Темные ночи удручали Павлика, светлые же, наоборот, окрыляли иногда даже больше, чем дни, и улыбнулся он тому, что архитектор, представлявшийся раньше таким завидно веселым, беспечным, посвистывающим, как чиж, кажется, просто болен, бедный.
Однако улыбнулся он не насмешливо: то, что Алексей Иваныч рассказывал это ему доверчиво и, видимо, ища у него объяснения, польстило Павлику. «Я ему и объясню», – думал Павлик весело… У него уж мелькало что-то.
– Почем я знаю?.. – подхватил Алексей Иваныч. – Еще бы! Она была гордая женщина… И не то, что я ее сделал гордой, – нет, она сама в себе была гордая: она была высокого роста… Величавость у нее была природная, – она хорошей семьи, только обедневшей… И до чего же была она уверена в том, что делает именно то, что нужно!.. И ведь она не солгала мне, – вот что тут главное!.. Я чем больше вдумываюсь, тем это мне яснее… Она не сказала мне правды, – но-о… Это потому, что у нее уж своя правда была: с моей точки зрения – «было», с ее – «не было». Все равно, как художники один и тот же пейзаж пишут: сто человек посади рядом – у всех по-разному выйдет… И все по-своему правы… Видите ли… Мы с Митей тогда говели, – ему уже шесть лет было, – ходили в церковь (я очень люблю церковное пение и все службы люблю)… Помню, – говорю ему: «Митя, не озирайся по сторонам, молись, Митя». – «О чем же, – шепчет, – молиться?» – «Ну, чтобы ты был здоров»… (Что же отцу и важно прежде всего? Конечно, чтобы ребенок был здоров.) – «Да я, говорит, и так здоров, и ты, папа, здоров, и мама здорова… А карандаш мне папа купит, если я потеряю…» Вот и все… Очень хорошо рисовал для своих лет… Положительно, из него бы художник вышел… А когда батюшка его спрашивает на исповеди: «Не говорил ли когда-нибудь неправды?» – Он: «Ну, конечно, первого апреля говорил…» Рассказывает мне потом – удивлен! Ему, конечно, казалось, что первого апреля нужно, непременно нужно говорить неправду, я и объяснил ему это, когда мы подходили к дому, то есть, что это – шутка, от скуки, а отнюдь не-е… не… не непременно нужно… Вдруг с крыльца нашего упитанный такой студент, брюнет, не бедный, видимо, последнего, видимо, курса, – посмотрел на меня, на Митю и пошел, не навстречу нам, а в ту же сторону и воротник поднял… Хотя-я… ветер, кажется, впрочем, был. А на крыльце – две выходных двери, и вот… Почему-то меня… так меня и ударило в сердце. Говорю Мите: «Что же это за студент такой у нас был?..» Вхожу – а отворяла сама Валя. «Что это за студент у нас был?» – «Какой?.. Когда?..» Смотрю ведь ей прямо в лицо, – и, верите ли? – ни в одной точке не изменилась, не покраснела ничуть, замешательства ни ма-лей-шего! Вид безразличный!.. Я объясняю, какой именно. «Ну, значит, это у соседей был…» (страховой инспектор у нас был сосед…) И пошла на кухню… И я ей поверил, а она – солгала! Это она в первый раз солгала тогда об этом… (с моей точки зрения, разумеется…) Как потом выяснилось, – это и был именно он, – Илья! Да… Тогда очень хороший весенний день был, солнечный… Ветерок небольшой, воротника совсем не нужно было поднимать… У него, значит, замешательство все-таки было, а у нее, у моей жены – ни ма-лей-шего!.. Вот когда, значит, это началось для меня: на четвертой неделе поста, – в пятницу… Конечно, Илья с Габелем, – это с соседом моим, инспектором, – и знаком даже не был, я потом справился, а когда сказал об этом Вале, – вы что думаете? «A-a, – крикнула, – ты так! Ты по соседям ходишь обо мне справляться? Хорош!» – и дверью хлопнула… Потом он не приходил, действительно, но-о… в большом городе видеться, – ничего легче нет… боже ж мой! Была бы охота… Где же еще и обманывать, как не в большом городе!.. А потом…
– Ну, хорошо, – перебил Павлик нетерпеливо.
– Ну, хорошо… потом все покатилось, – страшней и страшней… В театре я их неожиданно для них встретил: приехал из служебной поездки раньше, чем думал… Наряжена, и с ним, с Ильей… А он уж в то время окончил, – не в студенческом, а во фраке, – завит, напомажен… сто брелоков на цепочке… Тут уж, конечно, все покатилось… Ну, хорошо… Почему же она не позволила мне отдать ее кольцо?
– Какое?.. Когда?..
– А вот не так давно, перед тем, как сюда приехать. Я бы иначе и не поехал к Илье… а я ведь не сюда, я к Илье приехал… Зачем бы мне и ехать, если бы не это? Я кольцо ее, венчальное, подарил одной бедной женщине-чулочнице, – просто, говорю: «На-те, матушка, носите… Это я на дороге нашел, а мне не нужно»… С глаз долой – из сердца вон… И что же вы думаете?.. Приходит эта женщина на другой день, – лица на ней нет: «Возьмите назад свое кольцо: не иначе – оно наговоренное!..» Я – «Что-что?.. Как-как?» – ничего и не добился, никаких объяснений… Но-о… значит, она ее напугала здорово!.. Так и лежит сейчас кольцо у меня в футляре…
Сказал Павлик, смеясь:
– Ну, охота вам!.. Чепуха какая-то!..
– Не знаю… Вообще не знаю уж теперь, что на свете чепуха, что не чепуха… Потерял разницу… Часто они мне снятся: Митя ко мне подходит, она нет… Она только издали… Митя, – об нем и говорить нечего, – он – вылитый я, но она-то… все слова были мои, все мысли были мои… Теперь она только издали, и то редко… Она – редко…
В это время загудел пароход, подходивший с востока. Густо и бархатно дошел сюда по воде широкотрубный гудок, точно огромной величины жук пролетел над берегом…
– Вот на этом самом и поеду к Илье… в свое время… я дождусь удобного момента… Приеду – и пусть-ка ответит… Пусть! Пусть ответит… Без ответа я этого не оставлю…
Павлик нетерпеливо кашлянул, и Алексей Иваныч тут же спросил участливо:
– Вам не вредно на свежем воздухе?.. Вас не знобит по ночам?
– Нет, не знобит… Я хотел бы узнать…
– Еще минутку… Одну минутку… Были сцены… тяжелые очень, но я простил, – ведь я дал слово, что не буду вспоминать (вон какое слово: из памяти выбросить, – нечто неисполнимое, но все-таки дал это слово). Простил. Однако она на Илью понадеялась, жила одна, Мити я ей не отдал, тем более что Митя ко мне был более привязан. Разумеется, они виделись. Вообще я ничем ее не стеснял, я все хотел наладить снова, склеить как-нибудь – ничего не вышло, не мог склеить… И какой-то взгляд у нее появился новый – издалека… Этого взгляда издалека я никак не мог понять… Встречу такой взгляд, и все опадет у меня… Стена. Я с тех пор людей с очень далеким взглядом боюсь!.. Верно, верно, – боюсь!.. Что вы хотите узнать? Я вас перебил, извините.
– Вы говорите: «Моя жена покойная, с которой мы жили счастливо, мне изменила»… Это после десяти лет? Вам?
– Да… что вы хотите сказать?.. Вам не холодно?
– Нет… Я хочу сказать: кому «вам»? То есть, яснее какому именно «вам»? Какого периода?.. Ведь десять лет много, – вы сами это говорили…
– Я не понял, простите…
– Для того, чтобы изменить, – отчетливо, выбирая слова, как около классной доски, продолжал Павлик, – нужно, чтобы было ясно – кому или чему? Например, отечеству… Ясно? Отечество – это отечество: Россия – так Россия, Франция – так Франция… А «вы» – это, собственно, что такое?
– Я?.. Я – я… а что такое «я», – это, конечно, неизвестно… У меня были чудные волосы… Валя так любила их всячески ерошить… «Если бы, – говорит, – у меня такие…» Женщины ведь всегда мужским волосам завидуют… Ну, хорошо… Вот теперь их нет, а я думал, что они всю жизнь со мною будут, что они – часть меня неотъемлемая… но вот их уж нет… то есть, – прежних нет…
– То-то и есть, что нет!
– Но я – я… Так оно и осталось… У вас были исправные ноги, а теперь костыли, но вы – все-таки вы… Извините!
Алексей Иваныч сделал рукой хватающий жест, как бы стараясь удержать то, что сказалось, но Павлик был уже уязвлен.
– Нет, я другой, неправда! – буркнул он. – И вы другой. В вас-то уж, наверное, ни одной старой клетки не осталось, и вы – не вы, а другой кто-то.
– Значит, я – только по привычке я?.. Может, я и сказать не смею, что Валя мне изменила?.. Если точного понятия «я» не существует, как же могла она мне изменить?.. Изменить тому, чего в сущности нет?
– И быть не может…
– И быть не может, – совершенно верно… Однако… И быть не может… Однако мне же больно? Кому же и трудно и больно? И кто же разбит этим? Не я ли?
– Со временем забудете…
– Ага, – когда сотрется, когда «я» будет опять новое… Но пока оно почему-то не меняется вот уж полгода… Почему же это?
– Потому, что вы сами этого не хотите…
– Позвольте, значит: меняться или нет – это что же?.. Это от меня, что ли, зависит?
Павлик подумал немного, вспомнил яркий снег, улицу, запах масленой недели в воздухе и сказал твердо:
– Конечно, от вас.
– Гм… Может быть… Не знаю… Пройдемся: я провожу вас…
В это время разом закраснели окна видной отсюда сквозь черные кипарисы дачи Шмидта, и Алексей Иваныч сказал:
– А вы не хотите ли зайти как-нибудь к этим… Вот военный все с собачкой ходит? Люди… любопытные…
Он хотел, видимо, сказать что-то еще о Добычиных, но вдруг перебил себя:
– Однако она ведь тоже изменялась и значительно изменилась за эти десять лет, – и все же я ей не изменял.
И так как ярко вспыхнул вдруг огонек высоко в горах, он добавил:
– Это чабаны… костер зажгли.
А шагов через пять, когда показалась освещенная веранда дачи Алимовой, дружески обняв Павлика, шутливо сказал ему:
– Мудрый человек, пойдемте ко мне чай пить.
Павлик обиделся и отказался.
– Вы мне очень нравитесь, – сказал Алексей Иваныч, – верно, верно!
Потом стремительно повернулся, зашагал бодрой мелкой походкой своей, растворивши свою крылатку в черных тенях от кипарисов, и скоро стукнул звонкой щеколдой калитки дачи Алимовой.
А Павлик постоял еще немного, не заходя к себе. Смотрел, как выкатилась из облаков полная почти луна и под нею море вдруг страшно осмыслилось, берега замечтались.
Теперь та гора, на которой некогда жила царица, стала точно кованная из старой стали, даже как будто переливисто поблескивала над глубокими балками на голых лесных верхушках и на дорогах, гладко укатанных, изгибистых, как ручьи, звучных осенних дорогах, по которым целые дни трескуче и весело подвозили вниз на берег гранит для нового шоссе.
И другие горы, отошедшие дальше, теперь ближе сознанию стали, так что Павлик посмотрел на них тоскливо и подумал отчетливо: «Земля – это страшная вещь».
И, действительно, стало неприятно, именно страшно.
И в этот вечер Павлик записал, между прочим, и о земле, что подумалось: «Когда говорят: „мать-сыра земля“, или „персть еси и в землю отыдеши“, – то не сознают вполне ясно, что говорят. Но тот, кто сказал это впервые, понимал, что говорил: что на земле живет полной и осмысленной жизнью сама земля, вся в целом, а человеческий мозг – это только наитончайшая, самоопределяющая, смысловая часть земной коры, – то, что выдвинуто землей для самозащиты и самопрогресса. И то, что лично нами считается совершенно нелепым для нас, спокойно допускается землей, у которой своя бухгалтерия. И когда земле показалось, что нужно объединить свои материки, она родила Колумба… Когда люди отгораживаются от земли городами, то и это они делают по ее же хотению, чтобы интенсивной общей работой предупредить какие-то катастрофы на ней, которые она смутно предчувствует и которых боится…»
В этом духе склонный к размышлению больной мальчик написал еще несколько страниц, а когда он лег, наконец, то оравший за дверью младший наследник Увара долго не давал ему заснуть, и в полудремоте представлялась сиреневая женщина, тушившая свечку. Глаза у нее были, как у царицы с круглой горы.
Глава пятая
Разделение стихии
Береговое шоссе хотели было сначала провести только на версту от города, там, где больше всего грозили ему оползни и прибои, но владельцы берега и дальних дач вдоль всего пляжа сами собрали нужные деньги и внесли старосте, чтобы протянуть шоссе и до них.
Староста Иван Гаврилыч поглядел довольно направо и налево, покрутил головой и сказал, улыбаясь:
– Эге! Теперь будет у нас другой разговор, – секретный.
Иван Гаврилыч был расторопен, мечтателен и горяч в действиях. Ему бы большой город, он бы в нем натворил, а здесь негде и не на чем было развернуться.
Все доходные статьи городка едва давали пять-десять тысяч, из них большую половину составлял сбор с приезжих. Летом городок как будто сам выезжал куда-то в более благоустроенное место на дачу, – так он прихорашивался и подчищался, тогда целые дни шелестел на велосипеде по улицам и берегу сборщик, и Иван Гаврилыч весь отдавался мечтам о банке, о водопроводе, о городском саде и, главное, о своем участке земли, в десять десятин, который лежал от города верстах в пяти, но вдоль самого берега, и уж и теперь был достаточно ценен, а шоссе направлялось как раз в его сторону. (Потому-то он и сказал: «эге!», когда удалось уговорить дачевладельцев удлинить шоссе.) Как у всех здешних, и у него был фруктовый сад и виноградник по речной долине, а в городке доходные дома, так что весь он был в делах, мечтах и расчетах, и, кроме: «эге!», любимое слово его было «если», и, уже дружески похлопывая Алексея Иваныча, он часто начинал говорить с ним со слова «если»: «Если… разрешение будет: двести тысяч заем… а?.. Что мы с тобой тогда сделаем, – скажи?.. А если… четыреста тысяч?!.»
Большая слабость у него была к клетчатой бумаге, с этой бумаги все и начиналось у Ивана Гаврилыча, без нее он и мыслить не мог. У него в боковом кармане пиджака всегда лежала книжечка из бумаги в клетку, и, чуть что, вынимал он эту книжечку и начинал считать и чертить по клеткам: каждая клеточка – три аршина, а остальное все уж возникало само собой: то банк, то гостиница в будущем городском саду, вверху комнаты, внизу – магазины, то городская купальня, которую, если бы удалось ее поставить, должен был арендовать его зять, – большой доход, а риска ни малейшего, – то две-три пробные дачки на этой самой земле в десять десятин, которую тогда можно бы было скорее распродать кусками… Или дома его: нельзя ли пристроить к ним еще флигеля – хотя бы легкие, летние? Если… место позволяет, и если… обойдутся они недорого, и если… летом они непременно будут заняты, то… почему же их не строить?.. И Иван Гаврилыч уже заготовлял понемногу то по случаю дешево купленные дубовые балки, то желтый камень из ракушек, из которого здесь обыкновенно строили дома, то доски, то черепицу. И как же было такому строителю не полюбить Алексея Иваныча, который – как с неба к нему свалился? Он даже о постоянной для него должности начал хлопотать и, таинственно-лукаво подмигивая, говорил ему: «Ничего, друг, молчи – ты будешь у нас городской техник!.. А?»
Лицо у него было веселое и ярко-цветущее: в бороде проступала седина, но Ивана Гаврилыча даже и седина как будто молодила: еще цветистее от нее стал.
С дрогалями, бравшимися поставить камень-дикарь, торговался он сам и торговался крепко – дней пять, так что и Гордей-кучерявый, и Кузьма-четырегубый, и Федя-голосюта, прозванный так за тонкий голос, и все, сколько их было, устали наконец, – сказали: «Вот, черт клятый!» – и согласились на его цену, а он пустился сбивать с толку турок-грабарей.
До этого в своих широкомотневых штанах, синих китайчатых, с огромнейшими сзади заплатами из серого верблюжьего сукна, или серо-верблюже-суконных с заплатами из синей китайки, в вытертых безмахорчатых фесках, обмотанных грязными платками, с кирками и блестящими лопатами на плечах, ходили они партиями человек в десять по окрестным дачам, и тот из них, кто умел говорить по-русски, спрашивал:
– Баландаж копай?.. Фындамын копай?.. Басеин копай?.. Нэт копай?..
Когда же никакой работы для них не находилось, они долго смотрели на дачу и усадьбу и, уходя, говорили между собой:
– Баландаж ему копай, – ахча ёхтар! (т. е. плантаж-то и нужно бы ему копать, да, видно, нет ни гроша!)
Теперь нашлась для них работа на целую зиму. Тут же на берегу они и устроились в балагане, поставленном для склада извести и цемента, а когда уж очень холодные были ночи, уходили спать в кофейни, тоже свои, турецкие, которые содержали сообща несколько человек: Абдул, Ибрам, Амет, Хасим, Осман, Мустафа, и если нужно было получать деньги, – получал любой из них, но если приходилось платить, – Мустафа говорил, вздыхая: «Нэ я хозяин, – Абдул хозяин», а Абдул говорил: «Нэ я хозяин, – Хасим хозяин…» Хасим посылал к Ибраму, Ибрам к Амету, – но, в случае, если получатель начинал терять терпение, кричать и сучить кулаки, ему отдавали деньги, спокойно говоря: «Бери, пожалуйста, – иди, пожалуйста, – зачем сырчал?»
Вообще было даже странно, как это под горячим таким солнцем мог оказаться такой спокойный народ.
Так как до шоссе берегового староста добирался уже давно, а денежная помощь «помещиков» его окрылила, то он набрал турок сразу человек сорок, да человек двадцать нанял бить камень для мощения, это уж русских шатунов из разных губерний, а упорные стены выводить взялся грек Сидор с братом Кирьяном и еще другими пятью, тоже как будто его братьями. У них были свои рабочие для подачи камня и бетона, – «рабочики», как их называл Сидор, – и в общем весь берег, обычно в зимнее время глухой, теперь славно был оживлен фесками, картузами, рыжими шляпами, красными и синими рубахами, цветными горами камня, разномастными лошадьми…
Дачи здесь были редко рассажены, – скорее удобно обставленные барские усадьбы, чем дачи, и кое-кто жил в них и теперь, – зимовал у моря, а в погожие яркие дни выходил, бродил по работам и заводил с Алексеем Иванычем разговоры.
Чаще других приходил Гречулевич, одевавшийся под казака и, действительно, довольно лихой. Подходил – в смушковой шапке, в тонкой поддевке, в ботфортах и с хлыстом, черноусый, красный и лупоглазый, – и с первого же слова: «Вы меня только копните!» – и начинал… Уж чего-чего он ни насказывал обо всех кругом и о себе тоже… Мог бы быть офицером, но сгубило упрямство: вздумал на выпускном экзамене в юнкерском во что бы то ни стало доказать, что треугольник равен кубу, почему и был торжественно изгнан, а всего две недели оставалось до эполет.
Дорога ему то нравилась, то не нравилась. Все прикидывал цены и все озабочен был вопросом: «Сколько же тут староста наш ампоше?..» – И все зазывал Алексея Иваныча к себе «дуть вино своего подвала».
Или подходили иногда мать и дочь Бычковы, – причем угадать, которая из них мать и которая дочь, по первому взгляду никак было невозможно: обе были худущие, высокие, желтые лицом и седые. Эти справлялись, какое будет освещение: керосино-калильное или спиртовое и как будут расставлены фонари. И когда узнали, что против их дачи не приходится фонаря, упрашивали усердно, чтобы непременно против.
– Ну что вам, право, стоит? – басом говорила мать… или дочь.
– Ну что вам в самом деле стоит? – басом поддерживала дочь… или мать.
Конечно, упросили: у Алексея Иваныча мягкое было сердце, – и фонарь пришелся теперь против дачки, старенькой и маленькой, с меланхолической башенкой в виде садовой беседки.
Потом появлялся иногда чрезвычайно жизнерадостный старик, еще ни одной бодрой нотки из голоса не потерявший, – может быть, потому, что всю жизнь в шерстяных рубашках ходил, – педагог бывший, Максим Михалыч. Появлялся он исключительно тогда, когда со своим поваром Ионой с базара ехал на спокойной-спокойной лошадке соловой масти. Здоровался почему-то неизменно по-латыни, – такая была странная привычка, руки имел чрезвычайно мягкие и очень теплые, говорил, напирая на «о» (был вологжанин), недавно поселясь здесь на покой, всей жизнью восхищался, дорогой тоже, и просил только об одном: не забыть около него акведук.
– А то во-ода дождевая одолевает: грязь несносную производит, и нехорошо: около самой дачи… Кроме этого, прохожие, дабы грязь эту обойти по сухому месту, конечно, volens-nolens за мою ограду хватаются и портят ограду мне…
Говорил он очень основательно, – ясноглазый бородач, – все на «о», и все знаки препинания соблюдал, а повар Иона, ровесник по годам барину, вид имел суровый и никогда не давал ему кончить: на полуслове возьмет и дернет солового так, что тот, хочешь – не хочешь, пойдет дальше, и, подчиняясь этому, как судьбе, Максим Михалыч уже издали допрашивал свое, прощался по-латыни и делал ручкой.
Или немец Петере спускался со своей дачи, похожей на часовню, и совершал вдоль берега прогулку; бритый, высокий, плотный, часто кивал на все кругом головою и говорил бурно:
– Дайте это все немцам!.. Что бы они тут сделали, – ффа-фа-фа!.. Дайте это немцам! Дайте это немцам!..
Очень усердно просил, как будто от Алексея Иваныча зависело отдать это все кому-нибудь, хотя бы и немцам.
И другие приходили, – и, по-видимому, льстило как-то всем, что их дорогу ведет не какой-нибудь михрютка-подрядчик, а приличный человек в непромокаемой крылатке и в фуражке казенного образца, внушающей полное доверие.
А так как Алексей Иваныч никогда не дичился людей и сам был разговорчив и ко всем внимателен, то скоро весь берег стал ему знаком и понятен.
И рабочие тоже… Сидор-каменщик, отбивая зубилом лицо у камня и поглядывая на море, говорил:
– Я думай так: сильней вода, а ничего нема…
Потом глядел на него, узкоглазо улыбаясь, и добавлял:
– И огонь.
Потом бросал косой взгляд на турок-землекопов и добавлял еще:
– И земля… Больше нет.
А Кирьян, его младший брат, когда хотел усовестить какого-нибудь «рабочика», взятого прямо с базара, полухмельного и полусонного, показывал еще и на небо, говоря:
– Смотри! Курица, когда вода-a пьет, и то она у небо смотрит: там бох есть!
Но упорные стены нужно было класть так, чтобы могли они выдержать любой прибой, и больше всего за ними, за Кирьяном, Сидором и другими разделителями стихий, в рыжих шляпах и со смуглыми сухими лицами, приходилось наблюдать Алексею Иванычу.
Берега тут были высокие, и ветер с гор перелетал через пляж: у него была своя работа, и в эту, людскую, он вмешивался редко; разве где шутя задерет красную рубаху дрогаля, обнажит белую поясницу и похлопает по ней слегка.
Пахло сырой землей, только что увидавшей свет, лошадьми и морем.
На море паслись черные бакланы и пестрые – голубые с белым – чайки на стадах покорной пищи – камсы, а иногда гагара подплывала близко, точно глаголик на зеленой бумаге: вся – осторожность и вся – недоверчивость, вся – слух и глаз и вся – любопытство, куда нос повернула, туда сразу и вся, – странная очень птица и одиночная, и глядеть на нее почему-то было тоскливо Алексею Иванычу.
Куда ветер с берега угонял белые гребешки волн, неизвестно было, не представлялось никак, что там, за горизонтом, очень далеко – другой берег, Малая Азия, Трапезунд: тут, по этой линии набережной, которую сейчас вели, как будто и обрывалось все, и существенно как-то было подчеркнуть прошлое этой новой дорогой, как чертой итога, – дорогой длиною в три версты, шириной в три сажени, а дальше уж там срыв, бездорожье, другая совсем стихия – море.
Шиферные пласты, похожие по цвету на каменный уголь, подбоями и отвалами срезались ровной, местами высокой стеной, и из разреза этого, из однобокого коридора открывались картины, которых до этого не было на земле. В этом и состоит прелесть всякой созидательной работы на земле: терзать землю, – и ребенку, который, чавкая, сосет грудь, тоже кажется, должно быть, что он ее терзает.

Турки работали от куба, и потому дружно, чтобы как можно больше выгнать, и беспрерывно двигались, рыча колесами, подводы, свозившие срезанную землю в овраг, ближе к городу. Как раз перед этим зять старосты купил, курам на смех, этот никудышный овраг, – конечно, за бесценок, – а теперь Иван Гаврилыч говорил Алексею Иванычу, лучась и хмурясь: «Если без балки этой, куда землю будем девать, – скажи?»… – и ширял его дружески под микитки большим пальцем. (Камень же дрогали возили уж и ему заодно, кстати, и ставили на дворе кубами для будущих летних флигелей.)
Отсюда, с работ, видно было и городок, зашедший во фланг лукоморью, – это влево, и ту самую круглую, как кулич, гору, с берега почти отвесную, – это вправо, и, наконец, сзади все, как на ладошке, было урочище Перевал с тремя дачами. И Алексей Иваныч – нет-нет да посмотрит привычно туда: не виднеется ли где ковыляющий на костылях серенький мальчик, или полковник в николаевке, или черная странная женщина с тоскливыми до неловкости глазами, – Наталья Львовна.
Если действительно замечал кого-нибудь, – он был дальнозоркий, – то радостно махал фуражкой, хотя его сверху различить было почти нельзя.
Иван Гаврилыч не раз уже предлагал ему, чтобы зря не трудить сердца, спуститься вниз и поселиться в его доме, и даже дешево с него брал, но Алексею Иванычу почему-то все не хотелось расстаться с урочищем Перевал. После того, как шабашили рабочие, исправно подымался Алексей Иваныч по крутой тропинке от моря к себе на дачу, останавливаясь, чтобы послушать вечер.
Утра здесь были торжественны, дни – широки, вечера – таинственны… Ах, вечера, вечера, – здесь они положительно шептали что-то!
Глава шестая
Туманный день
Однажды утром, когда Алексей Иваныч после довольно позднего чая выходил с дачи, чтобы спуститься на работы, вот что случилось.
Утро было очень тихое, только густо-туманное, и где-то близко внизу, за балками, паслось, очевидно, стадо, потому что глухо и коротко по-весеннему ревел бык то в одном, то в другом месте, – перебегал, – и от него в тихом тумане расползалось беспокойство весеннее, хотя конец ноября стоял; над туманом вверху (и прежде ведь не казалось, что она так высока) проступила каменная верхушка Чучель-горы, а здесь, в аллее, кипарисы были совсем мокрые – отчего бы им и не встряхнуться густой рыжей шерстью («Экое дерево страшное!» – думал о кипарисах Алексей Иваныч), и с голеньких подрезанных мимоз капало на фуражку звучно, и не только берега внизу, – в десяти шагах ничего нельзя было различить ясно, – и так шло к этому утру то, что видел во сне перед тем, как проснуться, Алексей Иваныч: будто Валентина пришла с Митей и сама стала в отдалении, а Митя приблизился к нему с письмом; письмо же было в синем конверте, но конверт распечатан уже, надорван. Он спросил Митю: «Что это за письмо? Мне?» – но Митя повернулся и отошел к ней, и почему-то этого письма, сколько ни бился, никак не мог вынуть из конверта Алексей Иваныч, а когда потянул сильно, то разорвал пополам и потом никак не мог сложить кусков, чтобы можно было прочесть.
И теперь, идя своей озабоченной мелкой походкой, он привычно думал о своем: о себе, о Вале, Мите и о письме этом: «Почему же нельзя было прочитать письма? Зачем это? И что она могла написать?.. Или это она передала чужое письмо к ней? Может быть, Ильи?.. Скорее всего, – Ильи… Разумеется, только Ильи!.. Поэтому-то и нельзя было его прочитать, что Ильи».
Так все было неясно в этом сне, как в этом утре… Поревывал глухо бык, капало с сучьев мимоз, усиленно пахло сладко гниющим листом, и вот в тумане неровный стук шагов по дороге – частых и слабых – женских, – и сначала темное узкое колеблющееся пятно, а потом ближе, яснее, – и неожиданно возникла из тумана Наталья Львовна.
Совсем неожиданно это вышло, так что Алексей Иваныч даже растерялся немного и не сразу снял фуражку, но Наталья Львовна и сама не поздоровалась в ответ: она остановилась, глянула на него новыми какими-то застенчивыми большими глазами и сказала тихо:
– Меня укусила собака.
– Что-что? Вас?
– Меня укусила собака… – так же тихо, ничуть не повысила голоса, и лицо детское, – кожа нежная, бледная.
– Ничего не понимаю, простите!.. Где укусила?
– Здесь… правую руку.
– Шутите? Не-ет!
– Меня… укусила… собака… – при каждом слове прикачивала головой, а голос был тот же тихий.
Алексей Иваныч глядел в темные с карими ободочками глаза своими добела синими (и отчетливо это ощущал: добела синими) и повторял, неуверенно улыбаясь:
– Шутите?.. Ничего не понимаю!
Наталья Львовна посмотрела на него спокойно, грустно как-то и чисто и показала пальцем левой руки на локоть правой:
– Вот… здесь.
Две дырки на рукаве плюшевой кофточки увидел, нагнувшись, Алексей Иваныч; из одной торчала вата, как пыж.
– Это – собака?.. Каким образом собака?.. Почему же нет крови? – зачастил было вопросами Алексей Иваныч; но присмотрелся к ней и опять спросил недоверчиво: – Вы шутите? Вы это на держи-дерево или на колючую проволоку наткнулись – туман.
– Не шучу… Да не шучу же!
– Значит, порвала кофточку собака… Большая?
– Вам говорят, – прокусила руку!
– Но ведь вы… почему же вы не плачете, когда так?
– А это нужно?.. Вам кажется, что это нужно? А-а-а!.. – И, закрыв глаза, повела своей высокой шеей Наталья Львовна, изогнула страдальчески рот, – заплакала.
– Нет, что вы… Простите! Прижечь надо… перевязать… Зайдемте, – у меня перевяжут… Хозяйка, Христя, – все-таки женщины… Пожалуйста.
Плачущую беспомощно, по-детски, он взял ее под руку слева, и она пошла путаной походкой.
Удивленная капитанша встретила их в дверях, не зная, что думать, и тут же появилась Христя, и из-за нее показался медленно в новой малиновой феске Сеид-Мемет, и зазвенел тоненько комнатный щенчишка Малютка.
Даже когда снимали теплую кофточку с Натальи Львовны и капитанша, соболезнуя живо всем своим крупным мучнисто-белым, высосанным лицом, упрашивала Христю: «Только осторожней тяни ты!.. Ради бога, не изо всех сил!» – Алексей Иваныч все как-то ничего не представлял, не понимал и даже не верил. Но когда закатили рукав и на неожиданно полной руке около локтя обозначились действительно две кровавые ранки от клыков, – одна меньше, а другая зияющая и на вид глубокая, едва ли не до кости, – такими страшными вдруг они показались, точно и не собака даже, а смертельно ядовитая змея, – так что сердце заныло.
– И еще она может быть бешеная!.. Что это за собака такая? Чья же это собака такая?
Беспомощно протянутая рука взволновала вдруг страшно Алексея Иваныча, а капитанша искренне ужаснулась:
– Бешеная!.. Ужас какой!
– Нет, совсем никакая она не бешеная, – совсем обыкновенная!
Детски досадливое лицо стало у Натальи Львовны, а слезы катились и катились все одна за другой: от них худенькие щеки стали совсем прозрачные.
На ней была меховая шапочка, котиковая, простая и тоже какая-то детская, беспомощная, а из-под нее выбились негустые темные волосы, собранные узлом, а над желобком шеи сзади они курчавились нежно, шея же оказалась сзади сутуловатая: выдался мослачок позвоночника, – как бывает у подростков.
– Это, барышня, должно быть, чабанская собака вас, – сказала, сделав губки сердечком, Христя: – они злые-злые, противные!
– Или с дачи Терехова, ниже нас, в Сухой Балке, – подхватила капитанша. – Не черная?
– Черная.
– Ну, так и есть! Терехова!.. Уж они теперь штраф за-пла-атят! Двадцать пять рублей!.. Вы заявите в полицию, непременно заявите!
– Пойду, сейчас ее убью! – быстро решил Алексей Иваныч и заметался, ища револьвер.
– Ну вот, не смейте! Что вы! – вскинула на него глаза, сразу сухие, Наталья Львовна. – Не вас ведь укусила? Не вас?
– Нет, знаете ль – этого так оставить нельзя, – ну нельзя же!
– А вы оставьте!
Даже Сеид-Мемет, весь кадившийся густым запахом табаку, чесноку и кофейной гущи, кашлял горлом, кивал феской, пожимал плечами и сожалеюще добавлял:
– Эм… хы… ммы… тсе-тсе… Кусал?!.
– Пошел-пошел, думаешь, всем приятно? – вытолкала его капитанша, а сама из шкафа достала длинный бинт, оставшийся от мужниных времен, марли, ваты.
Ранки промыли, завязали, капитанша обнаружила при этом усердие, понимание и ловкость, а так как самовар Алексея Иваныча не был еще убран, то обратилась к Наталье Львовне:
– Душечка, вы ослабели очень, – бледная какая!.. Выпейте чаю стакан!.. – И укорила Алексея Иваныча: – Что же вы так нелюбезны, не угощаете сами?
Алексей Иваныч, конечно, виновато засуетился.
Круглую Христю услала капитанша на кухню, да и сама пробыла недолго, – жеманно откланялась, поводя головой, крашенной в три цвета: оранжевый, красный и бурый, – и ушла; впрочем, дверь, уходя, притворила неплотно, так что и сама успела раза два мимоходом заглянуть в щель, и Христя тоже.
Христя вообще была встревожена: Алексей Иваныч с нею болтал и шутил иногда, как болтал и шутил он привычно со всеми, но ей в этом чудился какой-то свой смысл: она и ждала все чего-то своего, настоящего, особенно когда случалось поздно отворять ему двери, и вот теперь эта барышня со Шмидтовой дачи… зачем?
«Есть странные минуты, – думал между тем Алексей Иваныч. – Они даже и не в туманные дни бывают, – когда жизнь кругом не различается ясно, а только, отходя, мелькает вдали. Люди стальной воли и холодного рассудка будут, конечно, отрицать это, но можно в ответ им улыбнуться ласково и не спорить с ними. В чем состоит это мелькание?.. А вот в чем… Это – как карусель в праздник, или как смутная догадка, или как слово, которое забылось на время, но вертится, вертится около, – сейчас попадет на ту точку, с которой его уж целиком будет видно… должно, непременно должно попасть на эту точку сейчас же, – а нет… вертится, вертится, вертится… В такие минуты время пропадает, пространства тоже не ощущает душа, – и все кажется вдруг возможным и простым и тут же вдруг невозможным, сложным… Какого цвета? Неизвестно, какого цвета и формы тоже… Это не та явь, к которой мы приучили сознание, а потом сознание приучило нас, это и не сон, в котором ничего не изменишь, если не проснешься наполовину, это почти то же, из чего бог творил и творит миры. Где-то оно есть в жизни и всегда есть и было всегда, и вдруг открывается внезапно. Передать его никак нельзя, потому что нельзя, а если бы можно было, оно было бы уж чем-то ясным даже для людей холодного рассудка и стальной воли, значит, перестало бы быть тем, что есть.
Представьте весенний пар над полями, в котором все линии и краски колышутся: краски как будто и постижимы, но не те, линии как будто и чуются, но дайте же им отстояться… А зачем? Чтобы опять была ясность и теснота?.. Пусть же колышутся и колышутся вовеки веков… Так незримо колышется вблизи (но вдали) от нас что-то, что проступает иногда внезапно: проступит и озарит. Это там где-то, вне нас, совершается вечная работа, и забыв о пространстве и времени, – т. е. о себе самих забыв, – мы вдруг к ней нечаянно прикоснемся взглядом… Это и есть наша вечность», – так думал Алексей Иваныч.
В комнате Алексея Иваныча был беспокоивший его сначала беспорядок утренний: то не так положено, другое не так брошено, – но Наталью Львовну он разглядывал теперь так внимательно, что забыл о беспорядке утреннем, и так пристально, как будто до того вообще никогда ее не видал. Неожиданно полная рука ее теперь покоилась забинтованная в рукавчике черной кофточки, отделанной узким кружевом, и стакан держала Наталья Львовна левой рукой. От чая, или тепла, или оттого, что прошло волненье, лицо ее порозовело, от этого при худеньких щеках и тонком невнятном подбородке стало так вдруг похожим на ту девочку в белом переднике (из альбома), что опять, как тогда, он ясно вообразил их с Митей рядом, и первое, что он сделал, достал торопливо карточку Мити и показал ей:
– Мой сын Митя.
– А-а… Это тот, который умер… Я слышала, – вы говорили, что умер… Славный какой!
– Да… Другого у меня не было.
Алексей Иваныч отвернулся к окну, побарабанил по подоконнику, и когда возвращала она ему снимок, он повернул его лицом вниз и так, не глядя, сунул в ту коробку на столе, из которой вынул. Но почему-то про себя очень отчетливо подумал он вдруг: «Вот и в нее вошел Митя»… Лоб у нее был широк над глазами, ровный, белый и безмятежным теперь казался: туда вошел Митя.
– Это пустяки… Это скоро заживет, – верно, верно, – оживленно заговорил Алексей Иваныч. – Только не нужно ничего такого правой рукой… Вы что улыбаетесь?
– Не нужно ничего делать правой рукой, а нужно все делать левой… так?.. Чай у вас очень приятный… Я еще выпью стакан, – можно?
И чуть-чуть лукаво, по-мальчишески, она повела в его сторону большими глазами, теперь такими чистыми, точно нарочно это она омыла их недавней слезой.
А когда он наливал ей новый стакан чаю, она сказала просительно, как говорят дети:
– И может быть, есть у вас что-нибудь вкусное, а?.. Есть?
У Алексея Иваныча как раз была не распечатанная еще коробка венгерских слив с ромом, и так приятно было ему видеть, какое явное удовольствие доставили эти скромные сласти Наталье Львовне. «Господи, она совсем еще девочка! – подумал Алексей Иваныч. – И когда она сидела у себя на диване и буравила меня глазищами – это, верно, тоже детское в ней тогда было, – а я испугался».
Кисть руки у нее была небольшая, но не такая, как бывают кроткие, робкие, узкие с синими венами, склоняющие к сожалению, поглаживанью и снисходительным поцелуям; нет, это была крепкая кисть, и Алексей Иваныч понял, почему Наталья Львовна давеча не плакала, но на всякий случай спросил:
– Все-таки почему же вы так спокойно шли давеча…
– Вы все об этом?.. Охота вам… Раньше я даже очень любила «с приключениями», – теперь устала… – Оглядевшись, добавила: – У вас тут уютнее, чем у нас, – деревьев больше… Вообще ваша дача лучше нашей… А это и есть ваша покойная жена?
– Да. Это – Валя.
Никогда не видел Алексей Иваныч, чтобы кто-нибудь так подробно, изучающе разглядывал ушедшее, – но совсем не умершее для него, – лицо. Портрет висел над столом, неловко обшитый по углам черным крепом, увеличенный с той самой карточки, которую постоянно носил и всем показывал Алексей Иваныч, – и вот теперь и жутко было ему и ошеломляюще радостно видеть, как Наталья Львовна вдруг отстегнула проворно левой рукой крючки воротника, чтобы глубже, ниже обнажить шею, подняла голову, как у Вали, и стала, повернувшись к окну, с такими же полуоткрытыми, что-то приготовившимися сказать губами и напряженным, останавливающим взглядом, как у людей, которые вот сейчас что-то непременно скажут, а если даже и не захотите их слушать, отвернетесь, пойдете, все равно упрямо крикнут вам вслед.
Так стояла она несколько длинных мгновений совершенно забывчиво, как лунатик, потом посмотрела кругом и на Алексея Иваныча рассеянным взглядом издалека и медленно застегнула воротничок. А садясь снова за стол, сказала просто:
– Ваша жена очень мне нравится.
Она не добавила: «покойная», – и это благодарно отметил Алексей Иваныч, и не только благодарно, но был до того изумлен этим, что приостановил даже свою скачущую мысль и в первый раз за все это время с измены и смерти жены и до сего дня глубоко вобрал в себя вдруг другого, постороннего себе человека, которого и не знал еще совсем, – Наталью Львовну: и совершенно необъяснимо он припомнил вдруг ясно, как что-то дорогое и близкое, тот самый мослачок, сутуливший ей шею, который он давеча заметил мельком.
– Должно быть, она была строгая… Она редко смеялась, ваша жена?
– Почем вы знаете? – живо подхватил вопрос Алексей Иваныч. – Да, она редко смеялась… Да, она почти не смеялась… Она была сдержанная вообще.
– Чистая.
– Это вы хорошо сказали…
Алексей Иваныч посмотрел на ее брови, расходящиеся приподнято к вискам (а под ними таились зеленоватые отсветы), и добавил благодарно:
– Чистая… Да, именно чистая… – И, точно в первый раз услышав это слово, еще раз повторил: – Чистая.
– А вам без снега здесь не скучно?.. Ведь теперь у нас уже снег какой!.. Подумайте, через два дня – декабрь… На санках катаются!
– Да, как снег… – Смотрел на нее, поверх ее, добела синими глазами и вдруг вскочил: – Вот это ведь ее рисунок, акварель (снял со стены небольшую картинку в рамке)… Никогда раньше не рисовала, а тут… вздумала Мите показать… понравился ей глубокий снег – и вот вам… Правда ведь, утонуть можно?
Наталья Львовна долго смотрела на акварель, потом на него, опять на картинку в рамке и тихо, точно боялась, чтобы кто-нибудь не подслушал, почти вплотную приблизясь к его лицу, сказала:
– Никогда никому не расхваливайте так свою покойную жену, а то будут думать, что это именно вы и довели ее до смерти!
И не успел еще Алексей Иваныч понять как следует, что она сказала, как она уже отошла, так что впоследствии не был даже уверен он, это ли точно она сказала.
– А это что? Это тоже ее? – бережно докоснулась она до большого, в четверть в диаметре, медного кольца на стативе. – Зачем это?
– Нет, это мое… Это – меридиан определять… Назвать это можно – солнечный круг… или же…
– Что-что?.. Ах, это вам для работ!
– Нет, это время… В полдень солнце проходит через меридиан… ровно в полдень.
– Ну?
– Видите ли… Один профессор, Аренландер, немец, предложил простой способ: треугольник, деревянный треугольник с зайчиком… Ставится в окне под солнце, и вот зайчик движется… Нужно отметить, когда он совпадает с самой короткой тенью, а потом… (Это и будет меридиан… солнце в зените…), а потом таблица поправок из «Морского журнала»… Но почему треугольник?.. Не лучше ли, если мы возьмем кольцо?.. Вот… сам я заказал, а градуировать (я хотел наклеить бумажку с делениями, но ведь на меди никаким клеем не приклеишь), а градуировать отдал граверу… Вот зайчик… на диафрагме.
– Так что у вас… Вам известен… меридиан… Извините меня, я ничего не поняла!
И Наталья Львовна густо покраснела вдруг именно оттого, что пыталась понять и не могла. От румянца глаза у нее стали очень ярки.
– У меня точнейшее время! – с оттенком сказал Алексей Иваныч. – Где бы я ни был, в какой бы точке земного шара я ни находился, у меня – точнейшее время! Всегда, везде.
– Зачем это вам? – удивилась она. – Ах, для работ.
– Н-нет… это – нет… Я просто люблю точное время… Зачем же тогда и часы, если они отстают на целых пять минут? Зачем?
– Ну, вот… У меня часы всегда отставали или бежали вперед.
– Прежде у меня часы также шли безалаберно, но теперь…
– Ах, это и у вас тоже недавно?
– С полгода… Да, месяцев семь…
– Но раньше-то вы обходились же без этого… сооружения…
– Да, раньше!..
– А это что? Собака? Тоже собака? – подняла Наталья Львовна маленький любительский снимок, выпавший из книжки. – Боже мой, ка-ка-я облезлая!
– Одоробло! – улыбнулся Алексей Иваныч. – У нас прислуга была хохлушка, – та ее сразу, как я привел, «одороблом» окрестила. Ну, несчастная же, – ну, верите ли, сердце ноет глядеть на нее… Стоит на улице, – равнодушнейший уж ко всему вид, – ветром качает… «Собачка, говорю, собачка, экая ты, брат, несчастная!» А тут булочная рядом – купил ей булку. При мне всю ее съела… Вот е-ла… Пошел я, – конечно же, она за мной, куда же ей больше? Пришли с ней домой, – жена в ужас! (Разумеется, за Митю боялась: все может случиться, конечно, – эхинококки, болезни…) «Гони ее вон!» Стоит собачка, очень умильно всем нам в глаза смотрит… И, кажется, думает: «К хорошим же это я людям попала, – почему же такой крик?..» Вильнет хвостом и оч-чень внимательно всматривается: понимает, что положение-то ее не совсем прочно… Гони ее вон!.. Легко сказать, конечно, а тут… Что же делать? Снял вот ее кодаком на память… И куда же она денется? Город… по утрам этакие с клетками, – поймают, убьют… А зве-ерски их убивают, ведь вы знаете?.. Отвратительно зверски… Ну что ж… Вышел я с ней. «Несчастная ты, брат, несчастная!» Усадил на извозчика, – в собачью лечебницу: умертвили безболезненно под хлороформом… Заплатил, поехал домой… Несколько дней все мерещилось… Одоробло!
И тут же вспомнил он о прокушенной руке Натальи Львовны и сделал вдруг свой хватающий жест:
– Простите!
– Что? – Наталья Львовна посмотрела на него удивленно и сказала вскользь: – Все-таки она не пожалела ее, ваша жена… А это что? Тоже реликвия? – и указала на полосатого паяца под стеклянным толстым колпаком.
Паяц лежал, раскинув руки и собрав ноги; одна половина – красная, полосками, другая – белая, мелким горошком; колпачок над глупым фарфоровым лицом немного набок; туфельки желтые с китайскими носками… Под паяцем – коврик…
– Это?.. – Алексей Иваныч запнулся было немного, пригляделся к ней и заговорил, путаясь: – Это у нее перед смертью… у моей Вали… Она ведь без меня умерла, далеко от меня, у сестры, на Волыни – вот. Я писал сестре Анюте: «Что у нее было в руках перед смертью, – пришли мне, только честно»… Она честная… Я думал, – может быть, мне писала карандашом, ну, что-нибудь, ну, хоть два слова… Или платок ее… Мог ведь быть и платок… Или вообще… могло же быть в руках что-нибудь совместное наше, давнишнее… ну, вещица какая-нибудь, которую я давно знаю… И вдруг паяц… Откуда? Что это значит? Совсем новенький… Для новорожденного Анюта купила… Что это может значить?.. Не понимаю… Ребенка хотела нянчить?.. Но почему же не ребенка, а паяца?
– Как же умирающая могла бы нянчить ребенка? – и Наталья Львовна чуть улыбнулась краешками губ, отводя в сторону лицо.
– Да, конечно… Она могла бы мне написать что-нибудь, последнее… Ну, хоть два слова… А вот это… Не написала!.. А вот это – коллекция… Тут жуки здешние, только самые редкие… Это вас не займет, конечно? На что вам жуки?.. Да и мне на что? Так… И это не сам я собирал, не сам, не думайте! Это мне подарил сын здешнего врача, Юрия Григорьича, студент, – не знаю, зачем. А может быть, вам любопытно? Я вам подарю, – живо повернулся Алексей Иваныч.
– Нет, пожалуйста!.. Что вы!.. Радость какая, – жуки! Я их боюсь!
Подняла руки к самому лицу, как бы для защиты от жуков, и вскрикнула слабо: «Ой… А больно все-таки!», так что и Алексей Иваныч, сразу встревожась, взял ее зачем-то за укушенную руку тихо и сказал наставительно:
– Вот видите… И конечно же, будет больно… Вы осторожней… Ну, я подарю это Павлику… вот этому, – на костылях… видели?
– Я его знаю даже… Мы с ним познакомились…
– Ах, так!.. Как же это вы? Тем лучше.
– Почему «тем лучше»?
– Ну, просто так… Он какой-то хороший… и несчастный. И должно быть, мало уж ему осталось жить. Так жаль!..
– Пустое, – поправится… Однако хозяйка ваша уж беспокоится… опять прошла мимо двери: должно быть, самовар нужен… Ну, я пойду.
– Посидите… Поговорим еще.
– Нет, и вы ведь куда-то шли… на работы?.. Я вас задержала.
– Работы налажены… Это не важно, – работы… А вот… Я вам хотел что-нибудь подарить на память.
– Вы уезжаете?
– Куда? Нет… пока нет… На память… ну, просто о сегодняшнем дне на память.
– Ах, вот как!.. Что же вы мне подарите?
– Не знаю, право… Жуков вы не хотите…
– Жуков я окончательно не хочу… А вот что разве…
– Одоробло?
– Н-нет, эту прелесть я тоже не хочу… А вот (она подошла к стеклянному колпаку) паяц этот, он очень мил… Очень… очень. У меня вообще любовь к игрушкам.
Она посмотрела на туман в окнах, потом на Алексея Иваныча, который отвернулся вдруг к столу с бумагами, потом взяла свою теплую кофточку, лежавшую на стуле.
– Ну, с моей прокушенной рукой возня теперь… Помогите мне, пожалуйста, а то я… А подарить вы мне после успеете.
Но, помогая ей одеваться, Алексей Иваныч опять, незаметно для себя, отыскал глазами скромный, чуть сутуливший ей шею мослачок.
Когда же он вышел с нею, направляясь к калитке дачи, он увидел, что около калитки в густом тумане чернеют две конские головы, – извозчик, – и потом голоса какие-то, и застучала калитка, и во двор вошли трое: Гречулевич – тот самый, который упрямо хотел доказать, что треугольник равен кубу, – Макухин – владелец каменоломен – и его брат, Макар.
Макухина Алексей Иваныч знал по клубу, а его брата видел впервые, хотя и слышал о нем кое-что от Гречулевича.
Было когда-то двое каменотесов Макухиных, – это и не очень давно, – лет десять назад, – Макар и Федька: Макар – работящий, а Федька – шалый, Макар скопил триста рублей, а Федька все прокучивал с бабами. Работали они на одной каменоломне, и с ними вместе было там еще человек двадцать – и русские, и турки, и греки, а хозяин – армянин – запутался в долгах и однажды скрылся куда-то, бросив и рабочих, и каменоломню. Артель должна бы была распасться, но деваться было некуда, время тугое – осень, а Федька как-то узнал в кофейне, что в скорости назначены торги в одном из ближних городов на поставку камня для мостовой и требуется всего-то 600 рублей, чтобы принять в них участие.
– Вот и возьмись! – сказали русские рабочие, смеясь, а турки оживленно говорили:
– Тот да руб, тот да два, тот да три… туды-суды, – собрал мелочь, хозай будешь!
Начали собирать, но собрали всего рублей четыреста.
Вот тут-то Федька и пристал к брату за остальными деньгами. Медлить было никак нельзя, а Макар медлил.
– Может, я и сам… – говорил Макар, щурясь.
– Берись сам, когда так…
– Как же «берись»? Это дело рисковое. Не с нашим затылком в новые ворота бить…
Но Федька был молодой и смелый, и терять ему все равно нечего было: уговорил все-таки Макара, дал ему вексель на пятьсот (под земельный участок в деревне), забрал триста его, четыреста артельных, уехал на торги, взял подряд и приехал назад (к удивлению земляков, решивших окончательно, что Федька как малый неглупый, с такими деньгами уехавши, назад вернуться не должен), но приехал уж не в синем картузе, а в приличной касторовой кепке.
Через месяц, нагрузив два судна камнем, отправил их сам, а вернувшись, рассчитался со всеми турками и греками и брату Макару отдал пятьсот, а арендный договор на каменоломню переписал на свое имя.
– Что ты так рисково дело повел? – удивился Макар.
А Федька, – перед тем он только что отбыл солдатчину, – был еще малый верткий, ловкий, – только покатывался: работа дураков любит.
Потом пошло что-то не совсем понятное: не только Макар – и другие-то мало понимали, в чем тут суть: в деле или в Федьке. Макар ушел из артели, завел в городке кузню да так и остался Макаром, а Федька к концу года уж выскочил в Федоры Петровичи, – сам не работал, конечно, а только ездил по берегу, по городам и имениям – не надо ли где камня, – брал подряды и для доставки фрахтовал баркасы.
Макар все пророчил ему, что он прогорит так же, как армянин, но когда Федор приобрел в другом месте еще каменоломню и собрал новую артель, а в городке купил дом над речкой и даже завел велосипед, – Макар увидел наконец, что дело Федькино прочно – велосипед его окончательно доконал.
Когда на новенькой, сверкающей спицами машине Федька прокатился мимо кузни, даже и ногами не работая, – на свободном колесе, как барин, – белый, раздобревший, в господском шершавом зеленом костюме, в подстегнутых брюках, и даже не поглядел на него, как будто нет на свете ни его и никакой кузни, Макар не выдержал и запил от зависти и досады.
Пьяный, он плакал навзрыд и, моргая распухшими веками, рассказывал всем, как брат его пошел с его же денег, а потом неправильно поступил: дом купил на свое имя, каменоломню – на свое… велосипед… и кто его знает, – может, ему так повезет, что он и не прогорит и большими тысячами ворочать будет… Почему же это? Где же правда?
Кузню он проплакал; потом явился к брату, и тот дал ему комнатенку рядом с кухней, иногда заставлял его работать по хозяйству, но денег не доверял.
Макар был повыше и посуше Федьки и как-то особенно глядел тяжело и мрачно, а желваки на левой скуле были у него, как у лошади, и когда он начинал играть ими, в упор глядя на брата, – посторонние про себя покачивали головами; но Федор знал, видно, себя и брата лучше, чем посторонние.
Иногда Макару представлялось важным, даже необходимым, носить такую же кепку, как у брата, или костюм такой же, или ботинки по моде с круглыми носками, – и он, играя своими страшными желваками и тяжело глядя в упор, выпрашивал денег у Федора и покупал. Но все, что делало Федора почти приличным на вид, на нем сидело так неуклюже, так не приставало к нему, точно ограбил кого на большой дороге, очень быстро изнашивалось, и тогда он имел совсем нелепый вид. А Федор все богател и как будто даже не особенно хлопотал об этом: само лезло. Дом над речкой продал, взял втрое. Купил еще усадьбу за пятнадцать тысяч, а через год продал за тридцать пять. К последнему времени имел уже шесть каменоломен и везде по приморским городам брал подряды на мостовые.
И чем больше белел и добрел Федор, тем больше худел и чернел Макар. Несколько раз предлагал Федор брату помочь устроиться где-нибудь в другом городе, на каком-нибудь своем деле, но, играя желваками, сквозь зубы протискивал Макар: «Иш-шь! Хитер больно!» И никуда не шел. Иногда просто выгонял его Федор; Макар уходил на поденную, что получал – пропивал и жаловался: где же правда? А когда уезжал брат, – опять водворялся в комнатенке при кухне.
По дому он был, как это ни странно, честен: он ничего не тащил, не утаивал, напротив, даже берег все гораздо рачительней Федора и из-за какой-нибудь курицы готов был хоть целый день грызться с соседями: «Мы свово не намерены вам одаривать! И намеренья такого нашего нет – ишь, алахари!» И чуть только узнавал о какой-нибудь новой каменоломне брата, он неизменно под тем или иным предлогом добирался туда, ко всему прикидывался хозяйским взглядом, делал даже замечания рабочим, а приезжая, моргал пьяными глазами в рыбацком ресторанчике и говорил скорбно:
– Обзаведение наше опять еще уширилось больше… Еще все больше… Ну, хорошо!
Давил рюмку рукой и играл желваками.
Федор почитывал газеты и за эти десять лет приобрел уже привычку говорить с разными выше себя стоящими людьми, отнюдь не теряя достоинства, и уж довольно правильно говорил (разве что иногда ляпнет вместо «веранда» – веренада, или что-нибудь в этом роде, и тем себя выдаст), суждения же всегда были здравы. Лицо у него было какое-то балованное даже, умеренно раздавшееся, с ленцой в глазах, а отпустив подусники, он достиг как будто чего-то барского, такого, чем щеголяли всю жизнь иные кавалеристы, становые пристава, владельцы мелких шляхетских фольварков и корчмари-латыши в Остзейском крае.
Еще издали сквозь туман было заметно, что оба они с Гречулевичем довольно оживлены, и только Макар, по обыкновению, мрачен. Когда же встретились на дорожке в аллее, то Алексей Иваныч остановился и остановил Наталью Львовну, а так как для него всегда было удовольствием знакомить людей, то он ни с того, ни с сего познакомил ее и с Гречулевичем, и с Федором, и даже с Макаром; только покосившись на грязную лапищу Макара, Наталья Львовна никому не подала руки, извинилась укусом; кстати, поговорили немного об укусе: и как это случилось, и о распущенности здешних хозяев, Терехова в особенности. Услышав эту фамилию, Гречулевич шумно возмутился:
– Терехов! Ну еще бы, – банный купец!.. В Москве на Самотеке баню держит, – как же ему без дворняги?!
– Хотя у вас тоже достаточно всяких псов, – скромно сказал Федор.
– У меня гончаки!.. Гончаки, брат, на людей не бросаются, это разница.
Когда перешли к делу, то дело оказалось самое пустое и вполне могло бы обойтись без Алексея Иваныча: хотели сегодня купить каменную ломку на земле Гречулевича (а земля эта была как раз на самой почти верхушке той невысокой круглой горы, которой любовался Павлик и которая так и называлась Таш-Бурун, т. е. «каменный подбородок»).
Гречулевич заезжал на работы, чтобы просто взять Алексея Иваныча к нотариусу, как свидетеля, а потом пообедать вместе в клубе, но, когда не нашел его на работах, заехал сюда. Макар же, оказалось, согласился, наконец, служить у брата именно в этой новой каменоломне, поэтому и очутился тут с ним.
Так случилось, что в кипарисовой аллее капитанши Алимовой, в туманный день, по совершенно пустым причинам, столкнулись несколько человек, но, однако, это имело некоторые последствия для всех.
Наталью Львовну Алексей Иваныч вместе с остальными проводил на дачу Шмидта, и, уходя, она дружелюбно кивнула всем головой.
Глава седьмая
Букеты хризантем
На другой день, прожженный насквозь солнцем и просоленный впрок морскими ветрами, цыган-комиссионер Тахтар Чебинцев, поджарый, точно полевой кузнечик, а усы, как у китайца на чайных коробках, подымался из городка на Перевал с большим букетом махровых хризантем: сам черный весь, цветы белые.
Он держал их вниз и от себя, попыхивал кривой трубочкой и имел довольно равнодушный вид. Он уж столько ходил по всем здесь дорогам и подымался и опускался, что теперь только смотрел в землю и думал.
Попрыскивал дождик, и от моря к горам поднялась пышная четырехцветная радуга, – мост между стихиями, которые суетно разделял теперь Алексей Иваныч, и в один конец радуги попал баркас с чем-то тяжелым, и до того засиял всеми парусами, что вот-вот улетит в небо, а в другой – купа высоких тополей, теперь ставших просто сказочными деревьями.
На Перевале Тахтар пришел к даче Шмидта. Все дачи тут строились при нем, а так как он вечно торчал на набережной, то знал даже и помнил, какой материал для них возили, на чьих лошадях, когда именно это было, какой подрядчик строил, сколько ему переплачено зря, во сколько заложена какая дача и какая не заложена еще совсем, – потому что хозяин или ни к чему богат или очень глуп, – какие дачники жили на такой-то даче и в таком-то году, и почему в следующем году перешли они на другую дачу, и много еще всякого; огромное количество этих знаний давно уже поселило в Тахтаре какое-то свое отношение ко всему кругом: была некоторая снисходительная любовь и иногда довольно живой интерес, но совершенно никакого уважения.
Наталья Львовна стояла на балконе, смотрела на конец радуги, погруженный в море, видела, как вошел во двор какой-то восточный человек с пучком хризантем, у калитки разговаривал с Иваном (который головой кивал на балкон, а ногами отшвыривал наседавшего Гектора), а потом направился прямо к ней, выпустив назад свою дубовую палку и виляя ею равномерно, как хвостом.
Был он в коротенькой дубленой горной куртке, с вытертым бараньим воротником и в старой шапчонке и, пока подходил, сильно выставляя вперед колени, усиленно докуривал трубку – немного уж оставалось, а бросить жалко.
«Вот прекрасные цветы какие! Непременно куплю», – подумала Наталья Львовна, но Тахтар, подойдя, кивнул ей головою, чуть сдвинув шапчонку, протянул букет, очень выразительно посмотрел на нее стеклянно-желтыми, древнейшими хитрыми глазами и коротко добавил ко всему этому:
– Тибе!
– Что это значит? – Цветы Наталья Львовна взяла и спросила: – Сколько хочешь за них?
– Не надо деньги… Тибе! – спокойно повторил Тахтар, еще выразительнее поглядев.
– Ах, это «букет»!.. Ну, значит, не мне – ты перепутал. Возьми-ка его.
– Тибе! – отступил на шаг Тахтар, колыхнув китайский ус улыбкой, все понимающей.
– Что ты выдумал еще! Конечно, не мне! Возьми назад!
– Зачем не тибе?.. Зачем назад?
Тахтар даже пожал узкими плечами, загнул еще круче черный нос и выпятил обе губы, а желтые глаза сделал такими загадочными, что Наталья Львовна спросила наконец:
– Да от кого же?
Тут проснулось в ней что-то: показалось, что букет этот от того, о ком она думала (потому что она действительно думала), от того, кого, не надеясь дождаться, ждала все-таки (потому что смутно и неуверенно она ждала), – и вот пришло, настало, – и, не в силах сдержать себя, она покраснела радостно, а Тахтар приблизил к ней черное, с проседью на небритом подбородке, узкое лицо и сказал таинственно, точно гадать собрался:
– Богат чиловек!
– Приезжий?.. Из гостиницы?
– Приезжай – как знаем: богат чиловек, бедна чиловек?
И опять бросил значительный косвенный взгляд.
– Здешний, значит?
– Ну да, здешня чиловек.
А в это время почти одновременно отворилась дверь из кухни и выглянуло любопытное безбровое, конопатое, красное и потное лицо Ундины Карловны, а из окна показалась голая и тоже красная голова отца, но не поэтому бросила Тахтару обратно букет Наталья Львовна: если б и одну ее встретил где-нибудь на прогулке Тахтар, – так же полетел бы в него букет.
Когда подымался сюда Тахтар, он соображал, что вот эта барышня, к которой его послали, даст ему на чай мелочь, но он потом постарается рассказать ей что-нибудь жалостное: «Зима… Приезжий – нет… На скрипке играем, когда свадьба… каждый день разве свадьба? Конце концам, куда пойдем? Дети много… Что будем кушай?.. Три маслинка – десят вилка…» – еще что-нибудь такое скажет, и барышня, – все барышни добрые, потому что все глупые, – прибавит ему мелочь.
Но когда полетел в него букет, он растерялся.
Он поднял было его, посмотрел на него и на Наталью Львовну, сверкнув белками, ширнул в наседавшего Гектора палкой, еще хотел сказать что-то последнее, но, видя, что барышня ушла уже с балкона в комнаты, запустил в Гектора белыми хризантемами и, выходя с дачи, сильно хлопнул калиткой.
Вниз, в городок, пошел он совсем сердитый: и на въедливый дождик, и на скользкую дорогу, и на пышную радугу, и на белые цветы, и на глупую барышню, и больше всего на Федора Макухина, который его послал.
А час спустя, когда уж и дождик перестал, и солнце начало садиться прямо на распростертые сучья буков на верхушке Таш-Буруна, и над морем, над самым горизонтом зазолотели уж вечные (бесполезно даже и утверждать, что невечные), спокон веку отдыхающие там облака, – показался снизу еще какой-то, только уж не цыган, а русский, обстоятельный телом, с окладистой рыжей бородой, видимо, дворник или садовник с какой-нибудь дачи на берегу (не из города шел, а с берега, с этой стороны). Подпирался палкой и отдувался, потому что подъем отсюда был крут, и все поглядывал наверх, – много ль еще осталось ходу.
Когда стал подходить ближе, с дачи Шмидта увидали, что направляется он к ним и что выражение лица и фигуры его чрезвычайно деловое. В левой руке держал что-то белое, но заключить уверенно, что это тоже букет, нельзя пока было, видно было только что-то, завернутое в белую, не газетную бумагу и легкое на вид.
Когда же вошел он в калитку, ища глазами, к кому бы обратиться с расспросами, а потом, увидя Ивана на перекопке персиков, подошел к нему, Наталья Львовна сказала отцу преувеличенно скорбно:
– Конечно, еще букет!.. И я уж теперь догадалась, от кого: вчера с какими-то тремя дураками познакомил меня Алексей Иваныч; это, наверно, от них.
Когда же человек с окладистой бородой (в лиловом пиджаке и в картузе, как у Мартына, с околышем из Манчестера) направился тоже к балкону, Наталья Львовна толкнула отца:
– Папа, гони его вон!.. Я к нему ни за что не выйду! Тот букет швырнула, – и очень рука болит, – а теперь еще…
– Ага!.. Хорошо! – угрожающе сказал полковник, надевая фуражку.
И, выйдя на балкон к рыжему, он спросил строгим рокотом:
– Кого надо, любезный?
Тот снял картуз и протянул букет:
– Вот прислали тут… барышне…
– То есть дочери моей… кто?
– Точно так… барин, – помещик Гречулевич.
– Гм… помещик?
Полковник покосился на окно, кашлянул и спустился с балкона, медленно размышляя.
– Дочь моя больна… поэтому…
Он совершенно не знал, как поступить с букетом помещика. Он прошел несколько шагов по дорожке, почесал переносье… Рыжий шел за ним.
– Гм… помещик… Что же, он здесь на постоянном жительстве?
– Да… Они… вот там ихняя дача… за косогорьем, отсюда незаметно… на берегу.
– Ага!.. Се-мей-ный? (Еще несколько шагов вперед.)
– Никак нет… Человек холостой.
– Так… служит где-нибудь? Не чиновник?
– Нет, так, по домашности… по хозяйству.
– Вот что, любезный… (Это уж, подходя к калитке.) Дочь моя больна, поэтому… – Он вынул кошелек, долго в нем рылся, нашел, наконец, двугривенный. – Вот!.. Что же касается букета и прочее… скажи, братец, что-о… передал! Только не самой барышне лично, так как больна… Понимаешь? Больна!.. Можешь даже тут его где-нибудь положить… Вот так… С богом теперь!
Ни из окон дома, ни с балкона не видно было, как беседовал полковник с рыжим садовником; когда же он вернулся, Наталья Львовна спросила с явным любопытством:
– Ну, от кого?
– Какой-то, видишь ли, Гречулевич, – по-ме-щик!
– Ну да, – я так и знала! Это из трех из этих… с хлыстом, в ботфортах… А какие цветы?
– Ну уж, не посмотрел… Хотя, если тебе угодно… Букет, конечно, тут брошен – пошли Ивана.
Иван принес букет, оказались тоже огромные хризантемы, только розовые.
– Какая прелесть! – восхитилась Наталья Львовна и поставила их в вазу на стол.
– Сейчас еще принесут, – вот увидите! Это они сговорились! – уверяла она Ундину Карловну.
Но суровый Макар Макухин не догадался прислать букета.
Глава восьмая
«Догоню, ворочу свою молодость!»
В начале декабря на Перевале часто слышны были короткие револьверные выстрелы: это Алексей Иваныч занимался стрельбою в цель. Он ставил вершковую доску-обрезок в два с половиной аршина то на двадцать пять шагов, то на тридцать и выпаливал в него пачки патронов. Обрезок он расчертил и разметил, завел было сложную ведомость, куда заносил тщательно каждую пулю: такая-то в голову, такая-то в грудь, в бедро, в живот, в ногу, – но ведомость эту скоро бросил. Собаки сначала встревоженно лаяли, потом привыкли (только прибегал на время стрельбы чей-то гончак с нижних дач, должно быть Гречулевича, и все скакал около). Потом увлекся этим старый полковник: он тоже укрепил рядом подобный же обрезок, становился перед ним по всем правилам стрелкового устава и палил.
– Человек должен всегда уметь защищать себя от оскорбления, – не так ли? – говорил Алексей Иваныч.
– Дорогой мой, это – сущая правда, – соглашался Добычин.
От старости у него сильно тряслись руки, но стрелял он все-таки лучше Алексея Иваныча и после особенно удачного выстрела говорил:
– По-нашему, по-армейски, – вот как… а как по-вашему?
– Кажется, есть особые какие-то дуэльные револьверы… есть? – спрашивал его Алексей Иваныч.
– Конечно, непременно есть, мой дорогой: пистолеты… на один заряд.
– И как их… в каждом городе достать можно? Конечно, где есть магазин оружейный…
– Ну, само собою разумеется, наверное… Хоть две-три пары да есть: на любителей.
Потом, к случаю, он вспоминал, какие были стрелки в его батальоне:
– В этом отношении у меня знамя высоко держали – о-о!.. На офицерской стрельбе даже, – у кого пять пуль в мишени или четыре, – я всех обхожу по фронту. «Спасибо, капитан. Спасибо, поручик…» Но три пули – это уж нет, – позор и стыд… У меня в третьей роте чудеса делали: из старых солдат без значка ни од-но-го!.. По шестидесяти пуль в колонну залпом на тысячу пятьсот…
– Да, это хорошо, – рассеянно поддерживал Алексей Иваныч.
Вскоре Алексей Иваныч исчез: и агент пароходства, и пристав, сам всегда провожавший на пароход лодки, озабоченный жуликами, и Павлик даже, и Добычин – знали, куда он поехал ночью. Но собрался он как-то неожиданно, еще за час до отъезда не думая, поедет сегодня или нет. Наскоро захватил маленький чемодан, бурку и вдруг пошел своим суетливым шагом через Перевал, когда уже сияли перед самой пристанью цветные огни: на мачте – зеленый, на левом борту – красный, на правом – голубой. Думал было уехать незаметно и не мог, конечно.
Ночь была тихая, спать не хотелось, да и очень беспорядочно было на душе. Бродил по палубе, по привычке во все вглядываясь: в бочки с маслом, в ящики с поздними фруктами, в рогожные тюки с размашистыми надписями и скверным запахом.
На палубе, в теплой близости трубы, спало несколько человек простонародья и грузин, и когда Алексей Иваныч остановился около них, всматриваясь и обдумывая каждого, поднялась какая-то лохматая старая голова и проговорила не спеша:
– Как благий, той ночью спить, того, как ночь, у сон клонить… а злодий, – вин встае и ходе.
– Что-что? – удивился Алексей Иваныч.
– Злодий, кажу, – злодий… вин ночью встае и ходе.
Алексей Иваныч даже пощупал рукой фуражку, – есть ли на ней инженерский значок и кокарда, и повернулся к фонарю так, чтобы старику их было отчетливо видно. Потом вздохнул и проговорил кротко:
– Спи, дурак.
Потом он подумал, что едет он только затем, чтобы отомстить Илье. Может быть, старик это самое и угадал (кто их знает, этих стариков, что у них за чутье?), угадал, потому и сказал о нем: злодий… Ночь была светлая, и берег прозрачно чернел, и дрожало над черно-серебряным морем такое множество звезд, что было страшно.
На грязном дворе палубы, на носу, стояли быки – при тусклых, закопченных фонарях что-то многорогое, безумно странное, а около камбуза широкий кок и узкий буфетчик спорили, один круглым голосом, с рокотком, другой колючим:
– Осип Адамыч, вы ведь этого не знаете, а говорите: быть не может. Я же больше вашего плавал, значит, я больше видал. Если говорю я, что в Бейруте есть русское училище, – значит, я это точно знаю, что говорю.
– Быть не может.
– Опять начинай сначала: быть не может… Вы говорите: быть не может, а я вам говорю, что даже учат там по-русскому, если хотите знать.
Оттого, что где-то в Бейруте действительно, может быть, есть русское училище, Алексею Иванычу стало так тоскливо: зачем? Даже плечами пожал и прикачнул головою.
Глядел на мачты возносящиеся, на шипучую воду, – могучий стук машины слушал, все было ненужное, чужое.
Таким же чужим и странным показалось все, когда проснулся на другой день в каюте: не сразу вспомнил, куда и зачем едет.
Когда же, умываясь, ощупал он свой револьвер, почему-то вспомнился стишок: «Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал…» Каждое слово тут было такое шипящее и звенящее, как косы на сенокосе. Так и звенел по-комариному, надоедливо, этот стишок весь день: вдруг возникнет откуда-то и зазвенит.
Все время отчетливо представлялся Илья: лицо выпуклое, бритое, волосы длинные, черные, пенсне, галстук пестрый, на часовой цепочке штук двенадцать брелоков (теперь, должно быть, еще больше), – большая уверенность в себе и во всем, что делает.
Это к нему теперь он. Стук парохода, почти бессонная ночь, потом еще такие же ночи, все дорожные дрязги, неудобства, гостиница – все для него. Хотелось долго, до устали ходить по палубе; пелось про себя и вполголоса: «Ползет на берег, точит свой кинжал!» Была какая-то неловкость в кисти правой руки, в плечах, в левой стороне шеи. И что-то похожее на Илью было в полном бритом лице актера, который ехал в одной с ним каюте.
С этим актером он обедал, пил чай, ему говорил о своем близком знакомом, лесничем, который убил любовника своей жены.
– Он всадил в него четыре пули: раз, два, три – таким образом – и сюда четвертую: в грудь, – две безусловно смертельные, в плечо – легкая рана, и в голову – навылет…
– Пус-стяк! – радушно отозвался актер.
– Предупредил его честно: все, что было раньше, – прощаю, но-о… если придешь еще раз, и я застану, то, любезный, – вот! Это всегда при мне, видишь – вот!
И Алексей Иваныч зачем-то с силой выхватил и показал актеру свой револьвер.
Тот взял его, повертел в руках, осторожно спросил: «Заряжен?» – и поспешно отдал его назад.
– Он предупредил его честно, – продолжал Алексей Иваныч, – и если тот – вне всякого сомнения, негодяй – не подумал даже так же честно уйти, навсегда оставить в покое, то он полнейшее имел право так поступить, как поступил. И никаких разговоров. Иначе не мог и… иначе никак не мог… Да разве это не огромное мужество, скажите, предупредить спокойно?.. Это – огромнейшее мужество, вне всякого сомнения… И как от человека требовать больше? Кто смеет требовать большего? Даже и закон не смеет!.. И вот в результате – четыре пули!
– Пус-стяк! – добродушно поддержал актер.
– Я понимаю, – взяв его за борт пиджака, продолжал горячо Алексей Иваныч, – что он не разглядел, он не догадался, не подумал даже, что посягнул на святое, на святыню – да еще на какую святыню, негодяй! Иззуй обувь с ног твоих, – вот на какую!.. Но раз ты посягнул, – закон возмездия, ты – труп.
– Пустяк! – весело улыбнулся актер; должно быть, это было его любимое слово.
Алексей Иваныч приехал днем. Обедал в пустом ресторане, где на стене висело чучело сороки, а под ним подпись: «Прошу снимать шляпы». Пес толстый и пестрый стоял около его стола и, как чучело, тоже совершенно спокойно, даже не виляя хвостом, избочив слюнявую морду, ждал подачки.
Три музыканта играли на маленькой эстраде: лысый флейтист-дирижер, с лихо закрученными желтыми усами, молодой лунноликий, цветущий скрипач, с платочком на левом плече, и барышня-пианистка, с такими темными, такими глубокими кругами около глаз, что у Алексея Иваныча сжимало сердце.
А за стойкой сидела неимоверной толщины старуха, жирно глядела, сложив обрубки-руки на пышном животе, сидела мирно, думала, что ли, о чем? О чем она могла думать? И вся прозрачная, горбатая носатенькая девочка костляво считала на счетах, звенела деньгами, хмурясь, вносила что-то в книгу, часто мокая перо в гулкую чернильницу, и вполголоса выговаривала что-то франтоватому половому, обиженно сердясь.
Пахло красным перцем. За окнами шел игольчатый льдистый мелкий снег, очень холодный на вид, потому что кутался от него зябко в башлык чугунный городовой на посту; споро дул ветер со взморья, и качалась, как маятник, скрипучая вывеска: «Номерую книги, лакирую картины».
Дом Ильи нашел Алексей Иваныч в тот же вечер: ведь затем и приехал. Дом был простой, устойчивый, двухэтажный, внизу лавка. Он сосчитал окна вверху: восемь, – три темные, в пяти свет. Несколько раз прошелся по другой стороне улицы, – не увидит ли его в окне; никого не увидел; складки белесых штор не поднялись ни разу.
Подымаясь по лестнице, был он осторожен и скуп в движениях. Подметил дешевую лампочку в маленькой нише на площадке, несложный узор перил – крестиками, деревянный стук ступеней, затхлый запах снизу из лавки.
Вспомнил и представил, как вот по этой же самой лестнице подымалась она так же зимою, год назад здесь наступила ногою или здесь, ближе к перилам?.. За это место перил держалась рукой или за это?
Перед дверью его долго стоял, читая на вычищенной ярко дощечке так знакомое имя из кудрявых букв. (Она тоже стояла перед этой дощечкой и читала.) Потом решительно кашлянул и надавил два раза клавиш звонка (звонок был воздушный). Потом расслабленно часто застучало сердце… И пока за дверью слышались чьи-то неспешащие тяжелые шаги и густое откашливанье, все стучало с перебоями сердце, и ноги немели.
Первое, что сделал Алексей Иваныч, когда лицом к лицу столкнулся с Ильею, было то, чего он никак не мог себе ни объяснить, ни простить: он улыбнулся… Хотел удержаться и не мог. Криво, больше левой стороной лица, чем правой, но судорожно длинно улыбнулся.
После, когда он подъезжал уже к своей гостинице, он вспомнил на улице, что читал однажды о каких-то бразильских обезьянах-хохотунах: большие, ростом футов в шесть, шатались в лесах и, чуть завидев человека, подбегали к нему прыжками, а подбежав, хватали его мертвой хваткой за запястья рук и начинали хохотать сыто. Хохотали минуту, две, фыркая, давясь от хохота, брызжа слюною, потом, успокоившись, выламывали руки, ноги, – увечили и убивали наконец.
Но он не так улыбнулся: он как будто заискивал, извинялся, что потревожил, как будто рад был, что так долго хотел все увидеться, поговорить дружески и вот, наконец, увиделся, сейчас пожмет ему крепко руки, разговорится.
Илья смотрел на него недовольно и недоверчиво и, пока раздевался он, не сказал ни слова; неловкость была и с той и с другой стороны; и удивило еще Алексея Иваныча то, что это был уже не прежний Илья, которого он знал: этот новый Илья был коротко острижен, с небольшой бородкой и редкими вьющимися усами, плотен, спокоен, шире стал, и только за старое дымчатое пенсне ухватился глазами Алексей Иваныч, только здесь и был старый он, остальное все было незнакомое, и хоть бы цепочка часов на жилете, густо унизанная брелоками, – не было даже жилета, была просторная черная суконная тужурка со шнурами.
Чтобы невзначай не подать ему руки, Алексей Иваныч крепко взялся за спинку стула, – подвинул его, громко застучав, и, садясь, спросил тихо и учтиво:
– Вы позволите?
Комната, – кабинет Ильи, – была большая, мягко освещенная сверху лампой; темные степенные обои, яркая кафельная печь, шкафы с книгами. На столе бросилась в глаза фарфоровая статуэтка – слон с поднятым хоботом, и в хоботе свежая еще красная гвоздика.
Алексей Иваныч поспешно пощупал в боковом кармане свой револьвер, вытер пот на переносье, вынул портсигар и, так же учтиво, как прежде, спросил Илью:
– Вы позволите?
– Пожалуйста! – сказал громко Илья; это было первое его слово.
Алексей Иваныч ждал, что и голос будет другой, но голос остался тот же: крепкий, круглый, жирный немного, густой.
В комнате было тепло, даже пахло печью. Зажигая, Алексей Иваныч сломал две спички, третья, загоревшись было, потухла тут же, и он суеверно спрятал портсигар.
Глава девятая
Илья
Когда входил к Илье Алексей Иваныч, он как-то не удивился совсем, что отворил ему дверь сам Илья, не какая-нибудь горничная в белом переднике, и не старушка в мягких туфлях и теплом платке, и не человек для услуг – белобрысый какой-нибудь парень в кубовой рубашке из-под серого пиджака, – а сам Илья: было так даже необходимо как-то, чтобы именно он, а не кто-нибудь другой отворил дверь. Но случилось это совсем неожиданно для Ильи: прислуги как раз не было в это время дома, ушла за мелкими покупками, и Илья думал, что вернулась она, что отворяет он ей, – так разъяснилось это впоследствии.
Алексей Иваныч, усевшись на стул в кабинете Ильи, переживал чувство очень сложное и странное. С одной стороны, была успокоенность, как у пловца, переплывшего через очень широкую реку и ступившего уже на тот берег; с другой стороны, – вялое бессилие и стукотня в груди, как у того же пловца, с третьей, – и самое важное было это, – полная потеря ясности, связи с чем-нибудь несомненным, какая-то оторванность от всего, даже от этого вот человека, к которому ехал и который вдруг – неизвестно кто, неизвестно где и неизвестно зачем это – стоит у стола напротив, сбычив голову, раздавшуюся вширь у прижатых маленьких ушей, заложив руки в карманы так, что видны одни только большие пальцы с круглыми ногтями. Круглые ногти с яркими от лампы рубчиками, – это понятно, а потом что?
Это бывало с ним раньше, только когда он внезапно просыпался ночью и не сразу находил себя, но так терять себя днем, бодрствуя, как потерял себя вдруг он теперь, – он и не знал, что таилась в нем эта возможность. Как будто стоял какой-то неусыпный часовой на посту в душе, и от него была точность и цель, и вдруг пропал часовой, – и вот никакой связи ни с чем, никакого места в природе, ничего, не он даже, – не Алексей Иваныч, – неизвестно, что, какая-то мыльная пена в тебе, и она тает, и это на том месте, где было так много! – тает, и ничего не остается, а тебя давно уже нет…
Это тянулось всего с полминуты, – больше бы и не могла выдержать душа, – и вот как-то внезапно все направилось и нашлось в Алексее Иваныче, когда он глянул не на Илью уже, а на дверь, плотно прикрытую за ним Ильей. Дверь была обыкновенная, раскрашенная под дуб и не очень давно раскрашенная – с год назад – и очень скверно раскрашенная, но, всмотревшись, он узнал ее, и тут же вслед за дверью всю комнату эту узнал, потому, конечно, узнал, что была здесь Валя, совсем недавно ведь – месяцев семь, – и дверь тогда была уже именно вот такою, скверно под дуб, и те же обои темненькие, та же кафельная печь… Только это было весною, в мае, и топкой не пахло, как теперь…
И так как лестница, по которой он только что поднялся (по следам Вали), ясно встала дальше за дверью, то Алексей Иваныч, положив ногу на ногу и обе руки закинув за голову, светло глядя на Илью, сказал отчетливо:
– Вне сомнения, дом этот вы получили по наследству?.. Советую вам заменить вашу лестницу каменной… или чугунной… Это удобнее в пожарном отношении, – верно, верно…
Сказавши это, Алексей Иваныч почувствовал, что окончательно вошел в себя, что теперь ясно ему, что он должен сказать дальше и скажет. Лицо у него все загорелось мелкими иголками, но сам он внутри стал спокоен.
Илья ничего не ответил. Рук из карманов тоже не вынул. И глядел на него неясно – как, потому что сквозь пенсне дымчатое, – только по нижней челюсти видно было, что очень внимательно.
– Вы, может быть, тоже сядете? – сказал Алексей Иваныч.
– А что?
– Потому что мне приходится смотреть на вас снизу вверх, а вам на меня сверху вниз.
– Ну так что?
– Нет-с, я этого не хочу! Тогда и я тоже встану!
Алексей Иваныч вскочил и прошелся вдоль по длинному кабинету обычным своим шагом, – мелким, частым, бодрым.
И вдруг, остановившись среди комнаты, сказал тихо:
– Моя жена… умерла, – это вы знаете?
– Д-да, к несчастью… Это мне известно.
Илья поправил шнурок пенсне и кашлянул глуховато.
– Ах, известно уж!.. Родами, родами умерла, – вам и это известно?
– Известно.
Алексей Иваныч раза два в сильном волнении прошелся еще, стуча каблуками, смотрел вниз и только на поворотах коротко взглядывал на Илью; оценивал рост, ширину плеч, уверенность, подобранность, прочность и ловкость тела, – только это.
Прежде, каким он видел его два раза, Илья был похож на сырого ленивого артиста, из тех, которые плохо учат роли, много пьют и говорят о нутре. Это тот, прежний Илья вошел в его дом, и вот – нет дома, нет жены, нет сына, – тот Илья сделал его таким неприкрытым, обветренным, осенним, – а этого, нового Илью он даже и не узнал сразу.
И, подумав об этом, сказал быстро Алексей Иваныч:
– Вы себя изменили очень… Зачем это?
– Вам так не нравится? – медленно спросил Илья.
– Нет!.. И прежде, прежде тоже нет… Всегда нет!
Илья подобрал в кулак бородку, поднял ее, полузакрывши рот, и спросил:
– А ко мне вы зачем?
– О-о, «зачем»!.. Зачем! – живо подхватил Алексей Иваныч. Еще раз прошелся и еще раз сказал: – Зачем!
– Я понимаю, что вы хотите объясниться, и я не прочь, только…
– Что «только»?
– Не здесь, потому что я здесь не один… Здесь дядя мой, сестра. Ведь я в семействе.
– Ах, вы в семействе!.. То я был в семействе, а теперь вы в семействе!.. Значит, вы меня куда же, – в ресторан позовете?.. Это где сорока, – а-а, это где собака слюнявая, и потом горбатенькая такая за стойкой?.. И у таперши подглазни вот такие?.. Спасибо!.. Нет, я туда не пойду, – я уж здесь.
– M-м… да… Но-о… ко мне сейчас должен прийти клиент… Лучше мы сделаем так… (Илья вынул часы.)
– Ах, у вас уже и клиенты!.. По бракоразводным делам?.. Вообще мой визит вам, кажется, неприятен? Что делать! Мне это больше неприятно, чем вам, – да, больше… в тысячу раз, – верно, верно… И мы «как лучше» не сделаем, а сделаем «как хуже».
– Хорошо.
Илья пожал плечами, сел на стул, кивнул на кресло Алексею Иванычу, сказал густо, как говорил, вероятно, своим немногим клиентам:
– Присядьте! – и подвинул к нему спички и большую коробку папирос.
Когда много накопилось против кого-нибудь, трудно сразу вынуть из этого запаса то, что нужнее, главнее, – так не мог подойти сразу к своему главному и Алексей Иваныч. Он обшарил глазами весь обширный письменный стол Ильи, ища чего-нибудь ее, Валентины, своей жены, – ничего не нашел: обыкновенные чужие вещи, толстые, скучные книги, чернильница бронзовая, пресс-папье в виде копилки – все, как у всех, а от нее ничего. На стене, над столом, была карточка девочки-гимназистки с толстой косой и самого Ильи, теперешнего, – больше никаких. От этого и на душе стало пустовато, тускло… даже неуверенно немного, холодно…
Но совершенно независимо ни от чего, что в нем было, чуть дотронулся Алексей Иваныч до подлокотников кресла, привстал и спросил тихо:
– Она тоже в этом кресле сидела?
– Кто?
Но уж почувствовав сразу, что именно в этом, и потому приподнявшись во весь рост, Алексей Иваныч впился белыми глазами в купеческое лицо Ильи:
– Это здесь, в этой вот комнате, вы дали ей двадцать пять рублей на дорогу?
– Кому?
– Ей, ей, а не «кому»!.. До кого-нибудь мне нет дела! Не «кому», а ей!
Об этом написала ему сестра Валентины и уж давно, тогда же, как Валентина приехала к ней, но тогда он не обратил на это внимания, тогда как-то много всего было, тогда не до того было, а теперь это неожиданно прежде всего вытолкнула память резко и крупно, и теперь он сам был оглушен обидой: ее кровной обидой, – это ей пришлось вынести от Ильи, именно это и вот именно здесь.
Он представил ярко, как Илья из этого вот стола доставал бумажку. Должно быть, в левой руке держал папиросу, вот такую, с длинным мундштуком, а правой выдвинул ящик стола, не спеша (он все не спеша делает) взял бумажку за угол двумя пальцами и, когда давал ей, экал густо… экал потому, что – что же он мог говорить?
– И она, такая гордая, – она взяла?!. Двадцать пять рублей. Ей!.. Как нищей!.. Бедная моя!..
Он сам это чувствовал (и Илья это видел), – у него стали совсем прозрачные, как слезы, глаза. В первый раз теперь это тронуло его до глубины, – глубоко изумило, – так глубоко, что совершенно отчетливо он представил всего себя ею, – Валей, – и этих слез, которые набежали на глаза, не было даже стыдно: это ее слезы были, Вали, – и этого, чуть отшатнувшегося, укоряющего безмолвно, немужского совсем наклона тела тоже не было стыдно: это ее тогдашняя поза была, – Вали, – и так он стоял и смотрел на Илью долго, а Илья был как в белом тумане, почти и не было Ильи, – так что-то неясное, – и не было комнаты, ни слона с гвоздикой, и печью не пахло: было только одно это, найденное теперь, ощутимое, живое: оскорбили смертельно.
– И вот, жить ей стало нельзя… – проговорил, наконец, Алексей Иваныч, опускаясь на стул рядом с креслом, потому что обмякли ноги.
– Валентина… Михайловна?.. у меня была, – глуховато, но твердо сказал Илья, – это так…
– Здесь?.. В этой вот комнате?
– Здесь, и нигде больше… От поезда до поезда… Ехала она к сестре.
– А-а… а двадцать пять рублей? (Мелькнуло: может быть, и нет?.. Анюта, она – честная, но… может быть…)
– Да, у нее не хватало на дорогу, и я ей, конечно, дал.
– Дали!.. Больную… беременную… К вам она уехала от меня совсем, – потому-то и денег у меня не взяла, что ехала к вам, совсем, – понимаете?.. А вы ее… не приняли! – изумился и опять вскочил со стула Алексей Иваныч.
– Нет, это не так, – сказал Илья, кашлянув.
– Как же?.. А как же?
– Ко мне она только заехала, а ехала к сестре.
– Больная? Перед тем как родить… Совсем ведь больная!.. Я ведь останавливал ее, предупреждал… Что вы мне говорите: к сестре!.. Зачем?
– По крайней мере мне лично она именно так сказала.
– Ах, вот как!.. Сестра на Волыни, а к вам она заехала по дороге! Хорошо «по дороге» – тысяча верст крюку!.. Правда, мне она не сказала даже, куда едет… Мне она сказала только: «Тебе нет до этого никакого дела!..» Но вам она так и сказала: к сестре?.. Она могла именно так и сказать – из гордости… чтобы вы сами уж догадались понять ее иначе… Вам же это было ни к чему; зачем догадываться, когда можно и не догадываться? Не так ли?.. Я разве не знал, что так именно и будет? О, как еще знал! Отлично знал! Но она – женщина ужасно большой веры в себя… Я ее не осуждаю… Она все время говорила о свободе, а искала рабства. Все женщины всю жизнь говорят о свободе, а ищут рабства… Мне она была только… ну, просто часть меня самого, и я над ней не имел власти… Разве я мог бы заставить ее взять какие-то двадцать пять рублей? Как это?.. Даже и представить не могу. А от вас она взяла, как подаяние… и… может быть, еще и руку по… пожала?
Он хотел сказать что-то другое и сам испугался вдруг: «Нет, другого она не могла все-таки сделать»… – так хотелось поверить в это, а глаза впились в руку Ильи, легшую тяжко на стол. «Что, если вдруг высокая, гордая, но ведь измученная, но ведь брошенная, – наклонилась и поцеловала?»
– За что же она вас настолько любила? – тихо сказал Алексей Иваныч и даже усмехнулся грустно. – Вы для нее ничего не сделали, ничем не поступились, а она… О, я понимаю, конечно, что каждый человек – свой мир, и я не судья ей, – нет, нет… Я даже и вам не судья… однако… Должно же было что-то быть в вас такое, если Валя… И вы поверите ли – я ведь до сих пор ничего не знаю, как это у вас вышло, когда, где вы познакомились даже, – ничего она мне не сказала… Но до чего вы мне чужой!.. До чего вы мне ненавистны! И череп этот ваш… и пенсне, – все!..
– По-зволь-те!
– Нет уж, теперь вы позвольте!.. Вы пришли откуда-то, неизвестно откуда, и вот… Моего сына, Митю, вы помните? Вы его должны были видеть, не правда ли?.. Вот… Он умер – месяца три назад.
– Как?.. И Митя?
Илья посмотрел небезучастно, и Алексей Иваныч это заметил.
– Да, и Митя… Если бы был материнский, ее уход, он бы, может быть, и поправился, – не так ли?.. Вне всякого сомнения, если бы жива была она, и он был бы жив… Это, это ведь вне сомнений… Предупреждал ее, уговаривал: «К этому негодяю ты едешь, Валя? А если он не примет?.. У всякого своя правда: у тебя своя, у него своя… А если эти две правды, твоя и его, не совпадут?.. И какая же правда у него? У негодяев какая правда?»
Илья снял пенсне и посмотрел на него щуро.
– Это вы обо мне так?
– А?.. Да, – рассеянно сказал Алексей Иваныч. – Она ведь забыла даже проститься с Митей, когда уезжала, – так спешила к вам: боялась опоздать на поезд… Везла вам нового, вашего сына, а вы ей – двадцать пять руб-лей и помахали на прощанье шляпой… А может быть, вы даже и на вокзал не проводили ее?.. Я даже убежден, что нет!.. Она ушла, вы затворили за нею дверь… и выругались: все-таки двадцать пять рублей!.. Негодяй!
– Да вы… вы сознаете ли ясно, что вы говорите, или вы бредите?!
Илья поднялся. Алексей Иваныч только поднял голову.
– А-а!.. Я оскорбил все-таки вас?.. Это хорошо. Я думал, что у меня не выйдет. Издали это казалось легче, а здесь… Я ведь, главное, не знаю, как она… Ведь самое важное для меня это, а не вы… Вы – нуль. Даже то, что Митя… Этого я также не могу поставить вам в вину: может быть, это она так хотела и взяла… Что мы знаем в этом? Но я сам за себя, я лично вас, лично – ненавижу! Для меня лично вы всегда, ныне и присно – негодяй!.. И вовеки веков!.. Вы слышите?
– Сейчас же идите вон! – сказал Илья тихо.
– Ага! Хорошо, мы будем драться с вами… Вы думаете, вы сильней меня физически? Нет… И я красивее вас гораздо, замечу в скобках… Да и моложе-то вы меня на очень немного… Значит, то, что называлось – суд божий… Я готов. Вот! – и он сунул руку в боковой карман, чтобы выхватить револьвер, как в каюте, но нащупал рядом с ним какой-то плотный конверт и вспомнил, что это последнее письмо Анюты о маленьком Лепетюке, который носит зачем-то и будет носить фамилию Дивеев.
Он вынул письмо, посмотрел на него забывчиво, протянул Илье:
– У вашего сына режутся зубки… Если вам интересно, какие именно, то вот.
– Нет, мне это неинтересно, – повысил Илья голос, не взяв письма. – Интереснее будет, если вы уйдете. Сейчас же!
– Не-ет уж, нет… Нет, это нет… Я не уйду! Не уйду, – нет!
Алексей Иваныч прошелся по комнате уже совершенно спокойный, а в это время зазвенел очень слышный отсюда дверной звонок, и Илья привычно сделал два шага к двери, чтобы открыть, но остановился:
– Самый удобный момент вам выйти… Это или клиент, или…
– Для меня безразлично, кто, – перебил Алексей Иваныч и продолжал мерять комнату своими стукотливыми шагами.
Звонок повторился, и Илья вышел, прихлопнув двери, и слышно стало потом два женских голоса и еще чей-то мужской – очень веселый, но старый.
«Не это ли дядя?» – подумал Алексей Иваныч.
«Нет, это все что-то не то у меня вышло… То или не то? – думал он дальше, никакого уже больше внимания не обращая на кабинет Ильи, шагая в нем, как в своих комнатах на даче Алимовой. – Нет, не то; я говорю все время сам, а он молчит… Узнать нужно мне, а не ему, а говорю все время я, а не он… Нет, я буду теперь спокоен… совершенно успокоюсь… – Остановился, сжал голову руками и опять: – То я делаю или не то?» (Это уж он ее спрашивал робко, Валю.)
Ильи что-то долго не было. Разделись в прихожей и прошли в другую комнату: это слышно было по топоту ног. Алексей Иваныч еще походил немного, остановился перед письменным столом, понюхал гвоздику, посмотрел на девочку с толстой косой и опять походил с минуту. Потом подумал, что Илья и не может скоро прийти, если это гости. «А я от него не уйду так, ни с чем… Все равно, и я буду сидеть с гостями»… И он, поправив галстук и пригладив волосы, двинулся уже было к двери, как вошел снова Илья.
– Ну что? Кто это? Клиенты? – спросил Алексей Иваныч очень участливо, увидя, что Илья переоделся.
– Н-нет… Это свои.
– Ну, и хорошо… Мы еще поговорим с вами.
Илья посмотрел на него искоса и густо вздохнул; Алексей же Иваныч заметил, что правый карман его пиджака сильно отдут, догадался, почему именно, и не сумел удержать беглой улыбки.
– Если вы можете говорить спокойно… – начал было Илья, но Алексей Иваныч его перебил:
– Совершенно спокойно!.. Я именно этого-то и хочу, спокойно! – и сел на стул, но оперся рукою о подлокотник кресла, которое было ему знакомо.
Илья тоже сел, но глядел на него подозрительно, – боком, хотя руки не держал в правом кармане.
– Только все это все-таки странно, чтобы не сказать больше, – проговорил он.
– А как же? В жизни все странно! – живо подхватил Алексей Иваныч. – Или совсем нет ничего странного!.. А то, что было между нами тогда, – разве это не странно? И неужели вам так и не хотелось никогда узнать, почему же я так отнесся к этому тогда, тогда ничего не предпринял, не старался увидеться даже с вами?.. А вот только поэтому: я ошеломлен был… И ведь вы, конечно, тут главное, а она… Непостижимо!
– И об этом лучше не говорить, – сказал Илья, поморщась.
– Нет, нельзя «лучше»… И когда-нибудь с вами случится то же самое, что со мной, и вы будете так же… Вы от кого узнали о смерти… Валентины Михайловны? От Анюты, конечно, – это она вас известила… Нет, я не то хотел спросить… Вот что я хотел: она, Валентина Михайловна, писала ли вам, когда уехала от вас, отсюда вот?
– Ничего.
– А-а… Неужели?.. Ничего? А мне она написала, чтобы я… А вы тогда ждали письма? Только откровенно, ради бога!
– Ждал, и это вполне откровенно.
– Ничего? даже карандашом?..
Какая-то бодрость, если не веселость, заметно проступила на лице Алексея Иваныча, и он погладил пальцами подлокотник кресла, но вдруг вскочил:
– Что же у нее на душе тогда было? Какой ужас!
И опять заходил по комнате. А Илья как будто уж привыкал к нему и не так напряженно следил за ним, и Алексей Иваныч это заметил. «Это хорошо, – думал он, – теперь он мне все расскажет»… И сам он не притворился (это не притворство, а что-то другое было), когда сел снова на стул и спросил просто, как у хорошего знакомого:
– У вас, конечно, герметические печи?
– Д-а… а что?
– Но уж давние… Теперь они, как простые: потрескались. Купите для них задвижки, – печник вставит… А так и тепла много пропадает и опасно, – верно, верно… Ходы нужно выкладывать изнутри кровельным железом, а не так.
И потолок и окна он оглядел внимательно и только потом уже спросил внезапно и поспешно:
– Когда вы были у моей жены, а я шел с Митей из церкви, это первый раз вы у нас были?
Илья пожал плечами, вздохнул почему-то, но все-таки ответил:
– Да, и в последний… – Но тут же спросил сам: – Вы сюда по какому-нибудь делу?
– То есть? – очень удивился Алексей Иваныч.
– Сюда, то есть в наш город, по делу?
Алексей Иваныч ни минуты не думал:
– Конечно, я сюда совсем! Не только по делу, а совсем… А дело ближайшее: одно частное лицо строит здесь за городом лечебницу… это – врач один.
– Здешний? Как фамилия?
– Мм… Крылов… Не здешний, нет… Мы с ним в Харькове договорились.
– Вы прямо из Харькова?
– Да… Да, я сюда совсем… Ведь уж мне все равно, где… У меня уж нигде ничего не осталось… У вас хоть сын растет… на Волыни, а у меня?.. Вы ударили надо мною, как гром! Почему именно вы?
– Мог быть и другой, – сказал Илья вяло.
– Как вы смеете? Как другой?.. Всякий другой?.. Как вы смеете? – вскочил Алексей Иваныч.
– Зачем же кричать?.. Дело прошлое: теперь мы никаким криком не поможем, – и Илья тоже встал.
– Но так говорить о моей покойной Вале я вам не позволю, – прекратите! – поднял голос Алексей Иваныч. – И прошу не обобщать! И прошу прекратить! Совсем!.. Ничего не надо больше, решительно ничего! Аминь!
– Конечно, аминь, – сказал Илья, а Алексей Иваныч вновь в сильнейшем волнении заходил по комнате, и, сделав несколько кругов в то время, как Илья спокойно курил, он заговорил снова:
– Я вижу теперь одно: это несчастие!.. Вы ударили, как гром, но громом вы не были, конечно, – ни громом, ни молнией… а просто это ошибка, – несчастие… Например, когда синица залетит осенью в комнату и потом в стекло бьется… Она-то думает, что небо, а это стекло только, а небо дальше… Мы это видим и знаем, а она не может понять: хватит в стекло головой с разлета, – и на пол, и из носика кровь… Пошипит немного, – и конец… Так и Валя. Она не знала, но мы с вами – мы это видели и знали: и я видел и знал, и вы тоже… Вы еще больше, чем я… Я все-таки так же, как Валя, тогда думал, что-о… Вы говорили ей когда-нибудь, что на ней женитесь?
– Никогда, – спокойно сказал Илья.
– Никогда?.. Как же это?.. Нет, вы откровенно? – умоляюще поглядел Алексей Иваныч.
– Никогда, – так же повторил Илья.
– Вы были только несчастие наше… Вам даже и мстить нельзя: дико… Вы – как тиф, как дифтерит, вот от которого Митя умер!.. Верно… Это верно…
Илья побарабанил пальцами по столу и спросил скучно:
– Ну-с, значит, вам теперь ничего уж от меня не надо больше? – и поднял ожидающе круглое вялое сытое лицо.
Алексей Иваныч долго смотрел на него, пока не заговорил сбивчиво:
– Никогда, вы сказали… Что ж это было? Но она с вами все-таки была же когда-нибудь счастлива? Должно быть, была… Разумеется, была… И вот приехала к вам сюда вот, в эту комнату… (Алексей Иваныч положил руку на спинку кресла.) Что же она вам говорила здесь?.. Передайте мне что-нибудь, ведь вы помните?.. Больше ничего мне не нужно, – только это. Только одно это… Вот, вошла… так же, как я вошел… Вы были изумлены, конечно, неприятно… Я уверен, вы и не знали, что она приедет: она про себя решила это, и ей казалось, что это – все. Это могло быть… Вошла…
Алексей Иваныч попятился к двери и стал так же, как могла стать она, войдя, и опять ясно показалось ему, что и теперь это не он совсем, что это она пришла снова к Илье: ведь только в нем, в Алексее Иваныче, жила еще она на земле, – он ее принес сюда. Так же, как семь месяцев назад, вот вошла она опять к Илье, стала у порога и… и…
– Что же она вам сказала, кроме того, что едет к сестре?..
Илья побарабанил по столу, сбычив голову, поглядел на него пристально, дотянулся до папирос, закурил не спеша и спросил:
– Вы в какой гостинице остановились?
– То-то и есть… Вы не хотите этого сказать мне… Почему же?.. Конечно, я так и думал, что не скажете.
Ему казалось, что одна половина его самого – темная, ночная – знает, что тут произошло, а другая – дневная – никогда не узнает. Он так и сказал Илье:
– Стало быть, этого я не узнаю?.. Вы могли бы сочинить что-нибудь, и, может быть, я бы поверил, но вы и этого не хотите сделать?.. Не хотите?.. Нет?.. Нет?..
Он ударил кулаком по дужке кресла, а лицо его опять – точно кто исколол иголками; и Илья снял со стола правую руку и поднялся наполовину.
В это время отворилась смело дверь в кабинет, и девочка с толстой косой, лет пятнадцати, вся, и лицом и фигурой, похожая на Илью, остановилась в дверях и сказала по-домашнему:
– Сюда подать чаю, или… – и тщательно осмотрела Алексея Иваныча с головы до ног.
– Конечно, сюда, – сказал Илья недовольно. – Сто раз говорить!
– Нет, отчего же?.. Это ваша сестра? – Алексей Иваныч вдруг поклонился девочке и решил с той общительностью, которая его всегда отличала: – Мы придем сейчас оба… Через две минуты… Вы нас ждите.
Девочка улыбнулась одними глазами и ушла, оставив дверь полуоткрытой.
Илья смотрел на гостя немым рыбьим взглядом поверх пенсне, раздув ноздри и губы поджав.
– Что, – вы не хотите меня познакомить с вашим семейством? Почему это?.. Нет, непременно пойдемте к ним туда… Отчего же?.. Или у вас церемонно очень?
– Нет, не церемонно… Напротив, бесцеремонно… Но-о… разговор наш личный окончен, надеюсь?
– Ну, конечно, он не окончен еще, но там его не будет, – даю слово: это я умею.
И Алексей Иваныч опять поправил галстук и опять пригладил волосы, хотя они у него были небольшие и негустые и совсем не торчали вихрами: это просто осталась прежняя привычка к волосам упругим, сильным и весьма своенравным.
А сердце у него все-таки нехорошо билось, и рука дрожала.
– Вот-во-от!.. Итак, – мы сегодня с го-остем! То-то Марья не ножик даже, а цельный самовар уронила, хе-хе-хе-хе!.. Посмотрите же, любезный приезжий, на самовар этот: он уж сам припал на передние лапки, он уж молит (слышите, – поет жалостно как?), он уж со слезами просит (видите, – слезки из крана капают?): да выпейте же из меня чайку! Хе-хе-хе-хе-хе!..
Это дядя Ильи так угощал Алексея Иваныча с первого слова.
Он был совсем простой, этот дядя с большой-большой сереброкудрой головою, с широким добродушнейшим красным носом и с бородкой, как у Николы-угодника. Из тех стариков был этот дядя, на которых смотришь и думаешь: «Что ж, и стариком не так плохо все-таки быть… Да, даже очень недурно иногда стариком быть…» Так и Алексей Иваныч думал.
Самовар, действительно, несколько пострадал, бок у него был погнут, с краном тоже что-то случилось, и под передние ножки подложена была скомканная газета.
Кроме дяди, одетого в серую домашнюю просторную блузу, две девочки сидели за столом: сестра Ильи и, должно быть, подруга-однолетка, которая все не могла удержаться от смешков и все прятала личико (очень тонкое и нежное) в толстую косу сестры Ильи, Саши.
Хорошо, когда смеются весело подростки: подростки должны быть солнечны, веселы и бездумны, – и всегда любил это Алексей Иваныч. Столовая оказалась тоже какая-то располагающая к добродушию: два сытых архиерея из стареньких рам глядели со стены напротив; у большого посудного шкафа был отбит кусок фанеры, и одной точеной шишечки не хватало наверху на фронтоне; блюдечко, которое подала Алексею Иванычу Саша, было со щербинкой и желтой трещиной; большая висячая лампа над столом чуть коптила, и Алексей Иваныч сам поднялся и старательно прикрутил фитиль насколько было нужно.
В этой комнате не была Валя, – это чувствовал Алексей Иваныч, – поэтому здесь он был другой. Он рассказал, конечно, – вложил в ожидающие серые глаза дяди все, что придумал насчет лечебницы доктора Крылова, добавив при этом, что с местностью здесь он незнаком и не знает еще, где именно будет строить, но ждет самого доктора, который приедет не сегодня-завтра из Харькова.
– Наконец, – добавил он, – имеется возможность мне здесь поступить и на постоянную должность, но куда именно, пока сказать не могу: это тайна.
Тайны для веселого дяди, конечно, были священны, да он как будто и доволен был, что сам может теперь порассказать гостю о своем. Только это свое у него было… Таня, подружка Саши, все бесперечь хохотала, и когда останавливала ее Саша, что-то внушая шепотком, – она говорила с перерывами, как от рыданий, вздрагивая крупно узенькой рыбьей спинкой.
– Ну, когда я… не могу – так смешно!
Должно быть, в свежем зимнем воздухе, которым он досыта надышался недавно, развеяны были нарочно для него, для этого дяди, разные легкие зимние мысли (зимою ведь гораздо легче думается земле – и людям тоже), – и хоть сам он был на вид важный, с носом широким и губами толстыми и с шеей четыреугольноскладчатой, как у носорога, но, видимо, теперь он иначе не мог говорить, как только по-легкому.
Должно быть, перед тем, как прийти в столовую Алексею Иванычу с Ильей, здесь говорили об абиссинцах, потому что дядя вдруг вспомнил о них и, прихлебывая с блюдечка, сказал:
– Этих басурманов абиссин я очень хорошо знаю.
– Они, дядя, – христианской религии, – возразила Саша, а дядя притворно осерчал:
– Басурманы, говорю тебе! Какая там христианская?.. Танцуют в своих природных костюмах и все, – только ихней и религии, что танцуют до упаду, – вроде шелапутов наших, и кто больше вытанцует, тот, конечно, считается у них главный угодник, – хе-хе-хе…
– Абиссинцы, – сказал Алексей Иваныч, – кажется, еретики какие-то… монофизиты, а? – посмотрел он вопросительно на Илью. (А в памяти мелькал ночной кок с парохода: «В Бейруте есть русское училище…»)
Илья пожал плечами, степенно мешая ложечкой в чаю, а дядя повторил убежденно:
– Шелапуты, будьте уверены!.. Только в гимназии своей, чудесные девицы, этого не говорите, а то сочтут это вольнодумством. Многих вещей на свете люди стесняются, однако к чему это? Шелапуты и шелапуты, – что ж тут такого?.. Я вот одну попечительницу приюта знавал, старую княжну – до того была, можете представить, деликатно воспитана, что даже «куриное яйцо» стеснялась выговорить, а вот как называла: куриный фрюкт!.. Ей-богу-с!.. Чем же это лучше, любезный приезжий, «куриный фрюкт»?
Смешливая Таня упала головой на колени Саши, твердя, что она не может, а вслед за нею и сам дядя пустил затяжное – «хе-хе-хе-хе…»
Когда же несколько успокоился, то, весь еще красный и ражий, начал еще о чем-то:
– Уж из свиного уха никак не сделать шелкового кошелька… А я вот один раз в жизни был шафером и один раз ездил из Ростова в Таганрог… Мало, а? Очень это мне мало! Вот уж теперь меня в шафера никто не возьмет, шабаш! Только и утешения мне осталось, что из Ростова в Таганрог я еще раз могу всегда поехать, если захочу… Держу это утешение про запас, – тем и жив… А отчего же вы, любезный и милый приезжий, ничего не кушаете? Я ведь не говорю вам: нашего не тронь! – И, сделав глаза задумчиво-хитрыми, добавил: – А что же именно наше-то? Наше только то и есть, – я так думаю, – что еще покамест не наше, а что наше кровное, то уж, пожалуй, и не наше – то уж другого хозяина ищет, а?
– Как-как? Что-то вы запутанное такое: наше – не наше? – очень заспешил Алексей Иваныч.
– Ага, запутал я вас? Вот как! (Старик был очень доволен.) А ржевской пастилы не хотите ли? Без этого понять меня мудрено и даже нельзя.
– Нет, я почти понял… Да, это так и есть, конечно! – и Алексей Иваныч не мог удержаться, чтобы долго не посмотреть на Илью.
Но Илья сидел скучный и чинный, как будто тоже в гостях.
– А бывает и так еще, – думая все о своем, добавил живо Алексей Иваныч: – что уже не наше, то опять стало наше.
– Это, любезный приезжий, так оно и должно быть, – согласился старик.
– Дядя, любезного приезжего зовут?.. – вопросительно поглядела на гостя Саша.
– Алексей Иваныч.
– Зовут Алексей Иваныч, дядя.
– Легчайшее имя!.. Счастливый вы человек… Алексей Иваныч!.. А вот я… Никак к своему имени привыкнуть не могу!.. Да-а!..
Дядя оглядел всех веселыми глазами, и Таня фыркнула, расплескав чай, Саша вобрала губы, чтобы не засмеяться вслух, и от этого заметней смеялась глазами и красными щеками; только Илья был по-прежнему скуп на улыбку.
– Видите ли, история эта давняя (я ведь уж очень старый хрен), и если б я акушер был, я бы вам бесплатно объяснил, почему у родительницы у нашей вот с их отцом (кивнул поочередно на Илью и на Сашу) не стояли дети, – человек пять подряд, а? Отчего это? Но, к горести моей, на акушера я не обучался: не стояли, и все: до году не доживали… А родители мои – ах, чадолюбивые были! Огорчение для них! А?.. (Отчего не пробуете, Алексей Иваныч, печенья миндального? Скушайте, вот это на вас смотрит…) И вот, как мне-то родиться (ох, давно это было – очень я старый хрен!), заходит к нам в купеческий дом монашек… Натурально, к нему за душевным советом родительница: ведь дом купеческий, а он – монашек… «Календарь, – ее спрашивает, – имеешь?» – «Как же календаря не иметь!» – «На той странице, где имена мужские, возьми и шарик хлебный кинь – как на „Соломона“: где остановится, – то имя и дай… И непременно же лик того святого повесь ему в голова, а то – без значения…»
– А вдруг бы девочка! – фыркнула Таня и закатилась, ткнувшись в толстую Сашину косу и твердя: – Когда я не могу!..
– Ан, то-то и есть, что он, монашек, все и угадал! Родился я (как будто и мальчик, а? – где она там спряталась, смешливая?), и имя вышло мне… А-скле-пи-о-дот! Гм? Каково имечко-то, любезный приезжий… Алексей Иваныч? (Экая смешливая!..) Ну, это не все еще, это бы еще так и быть, – но ведь иконку святого моего – лик надо мне в голова: это уж монашек строго-настрого… И вот поехали мои отцы, по-е-хали вместе со мной зимою, на лошадках (железных-то дорог тогда ведь не было) по монастырям разным – лик моего святого отыскивать… Полгода ездили, – а? – по обителям-то, – а? – и в морозы и в метели, и все со мной, главное: ведь вот не боялись же, что меня извести могут! Что значит вера-то: горами двигает!.. Однако… Алексей Иваныч, – куда ни придут – нет да нет, нет и нет: святой очень редкостный и лика не имеет. Не помню уж, как говорили, сколько страданий перенесли – только в Почаевской лавре нашли наконец… Нашли лик! Тут, конечно, радость неописуемая и молебны… За иконку эту, так вершка в два иконочка, – она у меня и сейчас цела, – четыреста рублей взнесли!.. И вот, поди же ты, – вера ли это, или что еще, только я, как видите… а?.. А их отец тоже так, по хлебному шарику, – он Галактион, как вам известно, – гораздо проще… И тоже ничего: долго жив был… Ничего… Одним словом, – способ этот оказался очень хорош, хе-хе-хе-хе!.. И когда у вас заведутся дети (он оглядел поочередно всех веселыми глазами, разыскал и смешливую), то вы… не пренебрегите, хе-хе-хе-хе… Только вы уж даже и по железной дороге не ездите, не советую, а лучше по почте насчет лика, по почте, и даже могут прислать посылкой, хе-хе-хе-хе…
«В этом доме, с этим дядей как могла бы ужиться Валя? – думал между тем Алексей Иваныч. – Нет, не могла бы… Архиереи на стене, шкаф этот, измятый самовар и все такое, – неуютно как-то, нет, – не могла бы…» Поэтому он глядел бодро, – именно, как приятный гость. Незаметно для других он зачем-то все подмечал, что тут было кругом, и ни одной черточки ни в Саше, ни в дяде не пропустил, и все их примерял к Илье. Видел он, что Саша кропотливо, по-женски повторила Илью: такая же широкая лицом и белая, с цветущими щеками и невысоким лбом; вот так смотрит из-за самовара одним глазом, вот так матерински останавливает тоненькую Таню, вот так привычно слушает дядю Асклепиодота… Еще раньше, чем Илья, станет совсем теневой, вечерней.
Столовая как будто устроена была на очень большую семью: широкая, длинная, – и весь дом дальше представлялся таким же незаполненным, разве что старый Асклепиодот зайдет куда-нибудь один, что-нибудь вспомнит смешное и зарегочет. А Валя так любила вещи, и такая это была для нее радость: стильная мебель, статуэтки, красивые безделушки… И вдруг вот теперь остро так жаль стало всего этого своего, прежнего, всех этих милых, никчемных, бесполезных вещей, точно не сам даже, а Валя в нем по ним вздохнула (и по тому городу, и по той улице, на которой жила, и по всей земле), – вздохнула, и вот грустно стало ему: уничтожено, разбито, ничего не склеишь снова, не соберешь… Зачем это случилось?.. И, выбрав время, когда отвернулся к девочкам, шутя с ними, старик, наклонившись, тихо сказал Илье Алексей Иваныч:
– Помните гостиную розовую?.. Столовую нашу?.. Картины?.. Все раздарил и продал за «что дали»… Помните?
– Не представляю ясно, – ответил, подумав, Илья.
Тут вошла зачем-то Марья, которую дядя, указав на самовар и на гостя, назвал Марьей-пророчицей. Обличье у этой Марьи было грубое, – глаза узенькие, нос большой и рябой, руки толстые, красные… «И верно, пьет втихомолку, – подумал Алексей Иваныч. – Нет, не могла бы с ней Валя…» Все, что ни встретил здесь Алексей Иваныч, все, что ни слышал он здесь, – все было не по ней…
«А как же Илья?..» – И опять он всматривался в Илью.
Тем временем старик Асклепиодот сыпал и сыпал свое отчетливое и густое и все смешил Таню, хотя обращался к Алексею Иванычу, как к весьма приятному гостю.
И, видимо, старику он был действительно приятен, потому что вдруг тот как будто искренне сказал:
– Вот какой вечер сегодня удался: дал бог с хорошим человеком увидеться и поговорить!
А Илья сидел совсем далекий.
«Он всегда здесь с ними такой или только сейчас, при мне?» – старался разгадать Алексей Иваныч.
Только раза два за весь вечер обратился дядя прямо к Илье. В первый раз он сказал, хитровато покосившись:
– А Шамов-то!.. На мое же и вышло: теперь рачьим ходом ползет.
– Ну, что ему теперь: заработал, – вяло сказал Илья.
– Ух, за-ра-бо-тал!.. Заработал кошке на морковку, а кошка морквы и не ест, хе-хе-хе.
Во второй раз тоже так, – назвал какое-то имя и коротко бросил Илье, как о чем-то хорошо им обоим известном:
– Он мне: «Ваша миссия математически ясна…» и так дальше. А я ему сказал потихоньку: «Душевный мой паренек… Вы свою мате-матику знаете, но вы моего папаши не знали, да-с… Характер мой природный надо сначала узнать!..»
– Это уж ты, кажется, напрасно, – проронил Илья.
– Не-ет-с, он отлично понял: не напрасно вышло.
«Что это у них, общие торговые дела, что ли?.. И сюда приехала Валя!» – подумал Алексей Иваныч. Он написал украдкой в своей записной книжке: «Пойдемте в ресторан» – и протянул Илье. Тот, прочитав, кивнул головой, и только что хотел встать Алексей Иваныч, как дядя, поглядев на часы (было девять без четверти), сказал, вставая:
– Ну-с, кончено… Кому говорить – говори, кому спать – спи, всяк своим делом занимайся.
Алексей Иваныч тоже поднялся, чтобы проститься с ним, но он защитно поднял руки:
– Нет, не прощаюсь! Совсем не имею привычки прощаться на сон грядущий… Завтра в добром здравии встанем, увидимся, – поздороваюсь с вами с большой радостью, а прощаться – считаю это за напрасную гордость! Точно до завтра мы с вами не доживем, а? Прощаться!.. Считаю, что это – грех!
И ушел, шмурыгая мягкими сапогами и блестя упрямым серебряным затылком, а вскоре вышли из дому и Алексей Иваныч с Ильей.
Когда Алексей Иваныч встречался с очень спокойными людьми, он всячески старался растревожить, растормошить их и, если не удавалось, – недоуменно смотрел, скучал и потом стремительно уходил. Спокойствие, даже и чужое, удручало его. К совершенно незнакомым людям он подходил так просто, доверчиво, весело, как будто и понятия такого – «незнакомый» совсем для него не существовало; и, глядя на него со стороны, довольно ясно представлял всякий, что люди как будто действительно – братья. Но вот теперь ехал он на одном извозчике с человеком, который разбил его жизнь и тем стал единственным для него, ни на кого не похожим. У человека этого был такой необычайно спокойный упругий локоть и все остальное, даже пальто и меховая шапка – необычайные, и куда он его везет, это знал он сам, а Алексей Иваныч ловил себя на мелком бабьем любопытстве: что «выйдет» дальше? Почему это случилось так, – он даже и не задумывался над этим: потому что здесь же, рядом с ними, как бы ехала она, Валя.
И во всю дорогу, пока ехали они (трое), ни Алексей Иваныч, ни Илья не сказали ни слова; да дорога и не была длинной.
Город был не из больших, уездный, только портовый, и везде бросалась в глаза эта умная людская расчетливость в постройках – вместительных, но лишенных всякой дорогой красоты, в тесноте и сжатости улиц, в чрезвычайно искалеченных тяжелыми подводами, но так и оставленных мостовых. Как будто все стремилось отсюда куда-то к отъезду и отплытию: со стороны вокзала свистали поезда, со стороны моря гудели пароходы, – с суши подвозили пшеницу и тут же грузили ее на суда… И суша и море тут были только для транзитной торговли.
– Неуютный у вас город, – сказал Алексей Иваныч, когда Илья остановил извозчика, а посмотрев на ресторан, добавил, удивляясь: – Да ведь это как раз, кажется, тот самый ресторан, в котором я обедал!
– Не знаю, тот или не тот… А вам разве не все равно?
– Нет, это, кажется, другой… Зайдемте…
Однако ресторан оказался действительно тот самый. Так же, как и давеча, сидела за стойкой толстая, сложив на животе свои обрубки, и так же горбатенькая щелкала на счетах, и сорока, чтобы снимать шляпы, и слюнявый пес, и та же самая таперша с кругами, и скрипач с платочком на левом плече, и флейтист-дирижер, лысенький, но с залихватскими усами.
– Нет, я не хочу сюда! – решил Алексей Иваныч, испугавшись, и остановился у входа в зал.
– Да уж разделись, – неопределенно сказал Илья, хотя разделся только он сам, а Алексей Иваныч все оглядывался в недоумении.
Тут человек с приросшей к локтю салфеткой, согнутый, как дверная скобка, вдруг подскочил, впрыгивая в душу глазами:
– Имеются свободные кабинеты… Угодно?.. Хотя и в вале не сказать, чтобы тесно… Пожалуйте.
В зале действительно не было тесно, но, конечно, взяли кабинет.
Теперь просто сидели друг против друга два человека, из которых один был обижен другим, как это случалось на земле миллионы раз, и к чему, несмотря на это, люди все-таки не могут привыкнуть, как не могут привыкнуть к смерти. Кажется, просто это для всех вообще, но почему же не просто для каждого? И почему Алексей Иваныч все всматривался белыми глазами своими в спокойного, – теперь уж совершенно спокойного, даже как будто веселого слегка Илью? Этой веселости Илья не выказывал ничем, – ни лицом, ни движением, ни голосом, – но Алексей Иваныч ее чуял, и его она несколько сбивала с толку: никак нельзя было напасть на правильный тон.
– Что же, возьмем ужин? – вопросительно говорил Илья, принимаясь разглядывать карточку, а Алексей Иваныч думал оскорбленно: «Как? Ужинать с ним? С негодяем этим? Ни за что!» – и, поспешно обернувшись к человеку-салфетке, сказал:
– Мне белого вина… простого… семильону… Мне ужина не надо.
Но тут же поймал себя: «А чай-то у него в столовой я все-таки пил? А ехал-то сюда на извозчике я не с ним ли рядом?» И так же быстро согласился с Ильей вдруг:
– Впрочем, можно и ужин.
И когда ушел человек, лихо тряхнув фалдами фрака, как будто неслыханно осчастливили его тем, что заказали два ужина, Алексей Иваныч оглядел дрянной кабинет, видавший всякие виды, поглядел на себя в зеркало, исцарапанное перстнями и с желтым большим каким-то тоже подлым пятном наверху, и сказал Илье:
– Ваш дядя, он – нечаянно мудрый человек… Похож он на тех, про которых поется, – знаете? – «И на главе его митра и в руцех его жезл»… Верно, верно… в нем что-то есть такое… Я мудрых стариков люблю… А вот вы не из мудрых, не-ет, – хоть он вам и дядя!
Илья в это время обкусывал ноготь, но, обкусив его, сколько надо было, спросил:
– Это вы почему знаете?
– Что вы – не из мудрых?
– Да.
– Вижу… Это видно.
– Кстати… О мудрости говорить не будем, а кстати: мой патрон, – он довольно известный в округе адвокат, – он именно на днях вот нуждался в вас.
– Как во мне?
– В архитекторе, то есть… называю вместо лица – профессию.
– Нет, я только лицо! Только лицо! – заспешил Алексей Иваныч. – Здесь, с вами, я только лицо… И всегда лицо… И, пожалуйста, не надо архитектора, пожалуйста! – Он привскочил было, но увидел, что ходить тут негде, и сел. – У меня была Валя, теперь ее нет, только об этом.
– Со временем и нас не будет… Что же еще об этом?.. Представьте, что я только место, по которому она от вас ушла.
– Тропинка?.. Торная тропинка?
– Пусть тропинка. Важно было то, что она от вас ушла, что вы не сумели ее удержать у себя…
– Не сумел?.. Не мог, да… вернее, не мог.
– А остальное должно быть для вас безразлично.
– Нет!.. Это – нет!.. Это уж нет… Мне не может быть безразлично.
– Но ведь она просто ушла от вас, навсегда ушла!
– Перед тем как умереть, она ушла навсегда, – это верно… но когда умерла, – пришла снова, – сказал медленно, но уверенно Алексей Иваныч, так же медленно и уверенно, как Илья говорил.
А в это время человек внес бутылку вина под мышкой и прибор на подносе. Он показал бутылку Алексею Иванычу: того ли вина он хотел, и Алексей Иваныч с одного взгляда увидел, что вино не то, но сказал: «Это самое». Илья его и без вина пьянил.
В кабинете тапершу из зала (и скрипача, и флейтиста) было слышно слабее, конечно, но все представлялись страшные круги около глаз и как-то связывались крепко с гнусным желтым тусклым пятном на зеркале вверху, и с этими выцарапанными надписями внизу, и с этим обшарпанным диваном, и с этой пыльной занавеской окна во двор, и с затхлой сыростью, идущей из углов, и с Ильей.
В сером франтоватом пиджаке Илья теперь казался моложе, чем раньше, у себя, когда был в черной венгерке, – но сколько ни искал Алексей Иваныч, что в нем могла полюбить Валя, не мог найти. Иногда он отводил от него глаза, старался забыть, что он сидит напротив, старался совсем забыть его и взглянуть на него внезапно, как на совершенно новое лицо… – нет, ничего, – даже страшно: одни тупые углы.
За дымчатым пенсне не видно было только, каковы были глаза Ильи, может быть, он улыбался теперь одними глазами, как умела улыбаться Саша, его сестра? Только Саша улыбалась неопределенно или лукаво, по-девичьи, а он – насмешливо…
Стряхивая пепел с папиросы, спросил, как будто между прочим, Илья:
– Вы не знаете, как… вот вы приехали с севера, а были у вас там метели, заносы… Поезда теперь правильно приходят? – И, видя удивленный взгляд Алексея Иваныча, добавил: – А то мне завтра ехать на север и как раз тоже в Харьков, и надо успеть вовремя.
– Завтра?.. Зачем?.. Нет, вы завтра… не поедете.
– Потому что сегодня умру? – вдруг рассмеялся Илья.
«Ага, вот оно!» – мелькнуло у Алексея Иваныча, и он непроизвольно поднялся, поглядев.
– Вы сядьте-ка, – сказал Илья весело. – Я говорю с вами не потому ведь, что боюсь вас, а только потому, что вы будете жить здесь бок о бок со мной, и все между нами должно быть ясно…
– Так что если бы я все выдумал насчет доктора Крылова?..
– Тогда незачем было бы нам здесь и сидеть… Все нужно делать целесообразно и планомерно.
– Почему?.. И что это значит, что вы сказали?
– Плано-мерно и целе-сообразно, – повторил сочно Илья. – Иначе это будет только потеря времени.
– Потеря времени?.. Значит, вы тоже ощущаете: вот идет мимо меня время… сквозь меня и потом дальше… И ни одного качанья маятника нельзя вернуть… Вы часто сознаете это?
– Что именно?
– Вот оно уходит, – и вернуть нельзя! (Алексей Иваныч сделал рукой свой хватающий жест.) И вы ощущаете это ясно: вот еще нет одной возможности, вот еще нет одной, еще…
Илья налил медленно ему вина и себе тоже, потом сказал:
– Нет, я не о том… Значит, вы придумали насчет Крылова? Я догадался.
– Однако… Я вам, кажется, не сказал, что придумал?
– И дальше: ведь вы не из Харькова сюда приехали?
– Это безразлично, откуда я приехал… Я приехал к вам!
– Но только не из Харькова… Ничего, что ж… Это, конечно, неважно, откуда… Это я между прочим.
«Я напрасно сказал ему: безразлично, откуда», – подумал Алексей Иваныч, но Илья уже улыбнулся опять, теперь откровенней и длиннее.
– Может быть, это вот, как вы улыбаетесь, понравилось Вале? – присмотрелся к нему Алексей Иваныч. – Нет, так вы еще невыносимее, нет!
– Вижу, что больше вам от меня ничего не надо, – сказал Илья, опять улыбаясь.
– Вы действительно только место, по которому она ушла от меня.
– Это я вам сказал.
– Вас даже, – черт знает, – и убить нельзя!
– А вы собирались?.. Не стоит. И трудно ведь.
– Нельзя!.. Нет, нельзя совсем, потому что вы – земля, – вы понимаете? Земля, – поэтому бессмертны… – И, на момент остановясь, спросил неожиданно: – В каком платье была у вас Валентина Михайловна?
– Ну, не помню уж… Пейте же свое вино!
Заметив, что Илья как будто хочет чокнуться с ним, Алексей Иваныч поспешно отставил свой стаканчик.
А в это время как раз прекратилась музыка в зале (музыканты позволили себе отдых), и зачем-то поднялся Илья и позвонил.
Человек принес ужин, но, не дождавшись, пока он расставит его на столе как следует, Илья что-то сказал ему вполголоса, и он понимающе закивал заводной головою с тоненьким золотистым детским пушком на темени.
– Ну вот… как же можно было не заметить платья? – говорил между тем Алексей Иваныч.
– Должно быть, оно было то же самое, в котором… в котором она уехала от вас, – сказал, усаживаясь, Илья.
– Она не от меня уехала… То есть, я при этом, при ее отъезде не был.
– Зачем же вам платье?
– Видите ли, когда умерла она, – я это почувствовал раньше, чем получил письмо от Анюты, и… Я не знаю, как объяснить вам, что это такое было, но я ее увидел в тот же день и, главное, в совершенно незнакомом мне платье, на это-то я больше всего и обратил внимание, – непрочного такого цвета – кремового… Не было при мне у нее такого платья… Знаете, светлокремового такого цвета, каким вот на чертежах дерево кроют… Да, и ничего больше, посмотрела издалека – и тут же ушла… Только мне очень больно и страшно стало. Письмо получил от Анюты, когда уже похоронили там ее. Спрашиваю телеграммой: в каком же платье хоронили? Получаю ответ: в кремовом.
И Алексей Иваныч еще смотрел на Илью совсем белыми, переживающими это прошлое глазами, когда отворилась дверь в кабинет и вошла та самая таперша, с жуткими подглазнями, невысокая, худенькая, а волосы густые, светлые, – видимо, свои, – и еще за нею слюнявый пес думал было войти, но его отпихнул человек с пушком, и еще успел заметить Алексей Иваныч в просвет дверей на один момент показавшийся в узкой щели других дверей, ведущих в залу, беспокойный рыжий, туго закрученный ус лысенького флейтиста.
– Зачем? – спросил Илью Алексей Иваныч, изумясь безмерно, но Илья уже усаживал ее на диван рядом с собою, в то время как она улыбалась ему, как близко знакомому, и в сторону незнакомого мужчины кивнула прической.
– Зачем вы это сделали? – тихо спросил все еще изумленный Алексей Иваныч.
– А чтобы было не очень скучно, – так же тихо ответил Илья.
И таперша метнула в Алексея Иваныча обиженный взгляд, очень сложный по вкрапленным в него чувствам и догадкам, и спросила язвительно:
– Что, вы так боитесь женщин?
И, не дав ему ответить, добавила, обращаясь к нему же, а не к Илье:
– Я хочу немного вина… только хорошего: пиногри… или муската.
Положила на стол вылезшие из атласной белесой кофточки сухие чахоточные горячие, должно быть, руки, с некрасивыми, как у всех таперш, пальцами, и лихорадочными глазами глядела на него, а не на Илью, чуть кривя губы, тонкие и плоские, как будто расплющенные бесчисленными тошными, жалкими ночными поцелуями.
Алексей Иваныч встал и, хоть бы одно слово, – ничего не сказал больше. Теперь уж он определенно чувствовал, что это не он здесь, в этом кабинете, совсем не он, а Валя; что это она видит, изумленная: вот кто заместил ее! – что это уж последнее для нее, – больше ей нечего тут делать, не о чем говорить, что нет уж и ненависти к Илье, – только брезгливость, из которой не может быть никуда выхода, кроме как в еще большую брезгливость, и когда выходил из кабинета, – не выходил, а выбегал стремительно, не простясь с Ильей, – Алексей Иваныч, он опять ясно чувствовал, что это она выбегает и что это она внизу одевается так поспешно.
Так он вынес это ощущение и на улицу, на которой моросило что-то, – не то крупа, не то снежок, не то дождь. И скользя по выбитому щербатому тротуару, Алексей Иваныч не шел, а почти бежал к той гостинице, в которой остановился, то есть бросил в номере свой саквояж. И думал отчетливо, а может быть, и бормотал вслух: «Вот оно!.. Теперь ясно?.. Говорил, предупреждал, доказывал… А теперь ясно?..»
Вот по этим же улицам ходила и она или, вернее, ездила на извозчиках. А так как он забыл уж, где именно его гостиница – помнил только название «Палермо», то пришлось взять извозчика, который ехал долго, колеся по плохо освещенным и очень гулким переулкам, и, наконец, выехал к тому самому ресторану, в котором сидел с Ильей Алексей Иваныч, миновал его и остановился у другого подъезда. Только теперь вспомнил Алексей Иваныч, что действительно и ресторан этот был «Палермо» и обедал он в нем, просто спустившись вниз из своего номера, – а потом это забылось в суете.
Из гостиницы он поехал прямо на вокзал (как Валя), но вокзал был пуст теперь, и даже зал первого класса был заперт, так как ближайший поезд отходил только утром, а Алексею Иванычу хотелось двигаться, переживать все снова, обдумывать, и, едва узнав, что пароход на восток отходит в три часа ночи, он поехал на пристань. Пароход же только еще грузился, и до трех часов было далеко, – поэтому опять пошел он по пустым полутемным улицам. Случайно наткнулся снова на дом Ильи. В окнах уж не было света. Илья, должно быть, тоже пришел уже и тоже спал. От фонаря на кривом столбе – обыкновенного среднеуездного фонаря – падали на стену между окон вдоль две слабых зеленоватых полосы кувшинчиком: какое-то дерево, может быть акация, колюче торчало из-за стены на дворе, ворота чугунные были в нише, и за ними никого: каменная тишь и купеческий сон. Серо, убого, плоско, уныло, скучно, – очень больно стало за Валю… Полюбопытствовал, какой же магазин помещается в нижнем этаже, и прочитал на вывеске: «Готовое платье Шкурина, Боброва и Ватника»… Сказал вслух: «Вот какие подобрались, – точно нарочно!..» Постоял еще немного, походил по тротуару… Вспомнилось – миловидное, пожалуй, по-уличному, но такое жалкое, но такое страшное, испитое лицо таперши, балагурящий попусту дядя, Сашина толстая коса, рыбья вздрагивающая спинка смешливой Тани, флейтист, щербатое блюдечко, гвоздика в фарфоровом хоботе, – все такое мелкое, случайное, но не Илья: почему-то все это как будто хранилось в Илье, как в футляре, – все это его было, и во всем этом он, поэтому-то сам он лично как-то стирался, точно не в нем лично было дело.
На пароходе не нашлось места в каютах, переполненных кавказцами, да оно и не нужно было, пожалуй, Алексею Иванычу: хотелось быть на воздухе, где просторней. А когда начало светать, то странно было, – точно в первый раз в жизни пришлось следить, как все меняется в небе, на море и кругом. Все следил и не мог уследить за этой сетью измен, и вот уж край солнца выглянул, и по рябому морю до парохода доплеснул первый луч. На Алексея Иваныча луч этот подействовал так: показалось, что ночью прошедшей сделано было что-то важное для него, трудное что-то, как какая-то сложная чертежная работа, но нужное, и сделано достаточно удачно, так что, если бы он вторично поехал бы туда же, он ничего больше не мог бы сделать.
От этого успокоенность появилась и захотелось спать, и тут же на палубе, на скамейке, завернувшись в бурку, заснул Алексей Иваныч.
А когда под вечер причалили к пристани городка, близ которого ревностно разделялись стихии, в душе Алексея Иваныча появилась ко всему, что он увидел, какая-то нежность, и только что успел он поздороваться с приставом, озабоченным жуликами, как поспешил на работы, а оттуда бодро поднялся на Перевал.
Глава десятая
Времена и сроки
За те два дня, которые Алексей Иваныч провел в отсутствии, здесь, на Перевале, ничего особенного не произошло. Проступила, впрочем, чуть-чуть, бледно-бледно и робко стародавняя царица с Таш-Буруна: Павлик о ней рассказывал Наталье Львовне.
День выдался очень задумчивый и даже, пожалуй, какой-то благословенный. Вообще в этом году здесь случилось то, что изредка посещает землю: вторая весна. Летом от сильных жаров в конце июня и в начале июля был листопад, и в августе деревья стояли совсем почти голенькие и имели неловкий, смущенный вид. Но в конце августа пошли ливни, столь глубоко поившие землю, что в сентябре цветочные почки вновь раскрылись, – забелели черешни, выбросили сережки орешник, ясень и клен, а что особенно странно было видеть, так это то, что на грушевых деревьях поздних сортов появились бойкие цветочные пучки рядом с созревшими плодами и уж тоже начали давать завязь, и видно было, что такая излишняя бойкость молодежи старичков обижала. И вообще эта несвоевременная весна внесла большую сумятицу в природу, и птицы, которым давно бы уж нужно было лететь отсюда куда-нибудь в Малую Азию или за Суэц, задержались здесь, приятно удивленные, чуть не на месяц. Но к ноябрю все улеглось, разобралось во времени и успокоилось, а на декабрь осталась только вот эта задумчивость, благословенность, ясность, широта и тишь.
Павлик и Наталья Львовна шли тихо от Перевала в сторону, все время ввиду красивой горы Таш-Буруна.
Над горой же в это время воткнулся в голубизну неба настоящий султан из белых перистых легких облаков, и облака эти долго держались так султаном, восхищая Наталью Львовну.
– Знаете, Павлик, – говорила она, – иногда другой человек нужен, очень нужен, просто необходим, и без него никак нельзя. Знаете, зачем? А чтоб было кому сказать вот это, например: как султан!.. Сказано: как султан!.. и довольно, и больше ничего не нужно, и потом опять можно молчать, даже очень долго.
А Павлик посмотрел на нее пытливо и вставил несмело, но значительно:
– А ведь там три монастыря было: святого Прокла, святого Фомы и еще один… Вот на горе с султаном с этим… Не знали?
Наталья Львовна не знала, и Павлик ей разъяснил в подробностях, что «тысячу двести лет назад – еще при Юстиниане», – если смотреть бы отсюда, с Перевала, видны были бы стены и главы церквей – «византийского стиля» и потом крепостца с башней, это ближе к обрыву в море. Такая же, должно быть, и тогда закрученная проложена была по ребру горы дорога, и по ней сходили и подымались монахи до старости без морщин на лицах, потому что не улыбались никогда и не искажали себя гневом и ничем мирским, – и вот, среди этих монастырей и черных монахов – опальная царица такой красоты, что пастухи (молодые) бросались под копыта ее лошади, когда она съезжала верхом вниз, к морю… Бросались всего только затем, чтобы она, обеспокоясь этим, на них взглянула…
– Насчет пастухов молодых, это уж, конечно, легенда, – пояснил Павлик.
– Нет, отчего же, бог с ними, пусть, – протянула Наталья Львовна. – Это ничего, а то без них скучновато… И двор при ней был какой-нибудь?.. Фрейлины?
– При опальной царице?.. – Павлик добросовестно задумался было, но решил, улыбаясь: – Ну уж, какие фрейлины!.. Фрейлины все в Византии остались…
– За что же она вдруг стала опальная?.. Впрочем, это известно – а вот… Такую красивую, – ну, зачем ее в мужские монастыри? Только искушение лишнее… – И, заметив четкую белую кошечку, пробирающуюся мягко по темному сырому шиферному скату в балке, внизу, оживленно дернула за рукав Павлика:
– Поглядите, какая прелесть!

Павлик поглядел и сказал: «А-а… вижу…» Он думал о том, что монахи тоже любили, должно быть, когда выезжала из своих покоев царица… Может быть, она напоминала им Георгия Победоносца… Конечно, конь у нее был белый, с крутой шеей, с точеными ногами, а хвост трубой…
– Это чья-то с нижних дач!.. Здесь ни у кого нет такой белой…
– Должно быть, с нижних, – согласился Павлик.
– Ну, и что же эта царица, как?.. Она здесь и умерла?.. Или ее простили все-таки?
– Нет, нет, – умерла здесь.
– Не про-сти-ли!.. Бедная женщина!.. Вам ее жалко, Павлик? А почему бы ей и не здесь умереть?.. Чем плохо?
– А вы?..
– Что «я»?.. Эти вон человечки черные, – зачем они там? Вон около барки…
– Турки… песок грузят на фелюгу.
– Зачем?
– Куда-нибудь повезут.
– А-а… посыпать дорожки?
– Нет, на штукатурку, кажется…
– Ну, вы сами не знаете!.. На шту-ка-турку!
– Так мой Увар мне говорил. Я его спрашивал, – я не сам…
– Ну, все равно… «Что я», – вы спросили?.. Нет, мне ее как-то не жалко, эту царицу. Как ее звали, кстати?
– Вот имени я не нашел… Почему-то имени нигде не было… Не нашел… И Максим Михалыч не знает.
– Не все ли равно?.. Дарья, например – царица Дарья.
Павлику это имя не понравилось, и не понравилось ему еще то, зачем шутит Наталья Львовна. Ему же и теперь, днем, припомнилось, – глядят со стороны моря (это было странно, что именно со стороны моря, а не оттуда, с горы) иконописно-широкие грустные глаза, и над ними, прикрывая весь лоб, простая, только непременно с жемчужинами, темная кика, вроде скуфейки.
– Схоронили ее все-таки где же? – спросила Наталья Львовна.
– Здесь. – Павлик представил было, что тело ее вот на таком же паруснике повезли хоронить в Византию (при попутном ветре могли бы доехать за одни сутки), и добавил поспешно и недовольно, точно его обидели: – Конечно, здесь.
– А могила ее, конечно, не сохранилась?
– Ну еще бы! Какая же это могила: ведь тысячу двести лет назад!.. И монастыри-то уж растаскали по камешку.
– Может, мы по ним ходим?..
А в это время нанятые Иваном Гаврилычем дрогали, подвод десять, гужом выползали, спускаясь с лесной верхушки горы как раз на открытую упругую желтую дорогу, и на заторможенных колесах, как на связанных ногах, медленно поползли вниз.
– Ну, конечно, монастыри эти пошли на мостовую! – живо ответила себе Наталья Львовна. – И крепость, и эти «покои» (воображаю, какие там могли быть «покои»!) этой царицы Дарьи, и… что там еще?.. И плита, конечно, с надписью: «Здесь погребен прах…» «Прах» – красивое слово!.. Прах!.. И совсем это не идет к мертвому телу.
– Это по-гречески было написано.
– Ах, да… Ну уж, конечно, по-гречески… И как же именно? Не знаете?.. Ну, все равно.
– Или, пожалуй, и по-латыни, – задумчиво сказал Павлик.
Султан в небе растаял, и гора сделалась спокойнее и как-то ниже: будничный – совсем рабочий вид стал у этого Таш-Буруна, похожего на слоновью голову с покорно опущенными бивнями, – как будто и у него появилась сознательная мысль: растаскивают по камешку, сволакивают вниз… время!
– А вы, Павлик, не верите, что кто-нибудь в самом деле под коня бросался?.. Вот вы сказали: легенда. Не верите?
Павлик отвернулся, потому что об его ноге была уже речь раньше, и он сказал, что упал с крыши, со второго этажа, а Алексею Иванычу зачем-то объяснял, что упал будто бы с высокого дерева, и принялось болеть. Теперь ему стыдно стало, что когда-нибудь Наталья Львовна узнает правду; он ответил обидчиво:
– Зачем же в это верить?!. Хорошо и то, что красиво придумано. – Тройка, искалечившая его, представлялась ему иногда огненной, как где-то в Ветхом завете; а отец его знал о тройке, что она – купцов Шагуриных, и уж давно вчинил иск за увечье сына, и дело это должно было разбираться весною.
Они вышли к белому шоссе, не тому, которое проводил внизу Алексей Иваныч, а к другому, верхнему, по которому вечно двигались, страшно тарахтя, груженые и пустые длиннейшие арбы. Теперь тоже тарахтело несколько, – везли куда-то на виноградники новые желтые дубовые колья и пустые перерезы, прикрученные веревками.
Павлик видел, что Наталья Львовна не замечает или показывает, что не замечает тех усилий, с которыми он переставлял свои костыли рядом с нею: от этого ему было хорошо с ней, и казалось нужным еще рассказать ей, где и какие тут были тогда селения, крепости, и чем торговали тогдашние купцы по всему этому берегу.
– Да откуда вы все это знаете? – спросила, наконец, Наталья Львовна.
– А вот… есть тут такой Максим Михалыч, он – бывший историк гимназический… У него в книгах роюсь… А откуда я его выдрал?.. Это меня раз повез Алексей Иваныч на свои работы, а он как раз с базара ехал… увидел: гимназическая шинель, – очень обрадовался (здесь ведь нет гимназии), – ну и к себе завез.
– Ишь ты!.. Хороший какой.
– Да, он… вы не улыбайтесь так, – он действительно хороший.
– Павлик, вы будете ученым, – сказала убежденно Наталья Львовна. – И вот, для вас у меня имеются конфеты, я сейчас найду… Не для меня уж, нет – для вас именно.
– Не хочу я быть ученым… и конфет не хочу, – буркнул Павлик, обидясь. Но, покопавшись в сумочке, нашла Наталья Львовна несколько длинных леденцов в серебристой обертке и с красной надписью: «Будущность». Слово это Павлика примирило.
По шоссе было легче идти, и отсюда другое было видно, не то, что всегда видел с Перевала Павлик. Здесь вправо вниз бесчисленные, на вид очень легкие и мягкие, сплетаясь, стелились гусиными лапами лиловатые балки, поросшие кустами, и переходили в долину, всю из одних садов, недавно перекопанных, и потому теперь тепло-разодранно-рыжих, с четкими, рабочего вида, деревьями, обмазанными известью с купоросом; влево вниз, тоже за гусиными лапками балок, мрело море, уводящее душу, потому что был редкостный для зимы штиль и горизонт расплылся по воде и небу (на такое море смотреть всегда почему-то нехорошо было Павлику). А прямо перед глазами в лесу на горах, в трех разных точках и очень далеко одна от другой, белели лесные сторожки.
Павлик подумал, что от этих именно трех белых точек, растерянных в огромной пустоши, в лесу, стало грустно Наталье Львовне, потому что она повторила, задумавшись:
– А у меня вот уж будущности нет.
И даже ниже ростом вдруг она показалась Павлику, и меховая шапочка ее… как будто такую же точно носил кто-то очень родной… И только что придумал он, как спросить ее о будущности, как тут двое, не то бродяжек, не то пришлых рабочих, – один в чувяках, подвязанных на манер лаптей бечевкой по суконным чулкам, и в пушистых волосенках из-под старенького картузика, другой – в толстых сапогах-бахилах и в шапке, надвинутой на оттопыренные красные уши, нагнали их, тихо идущих, и второй хриповато крикнул Павлику:
– Эй, парнишка! Это мы на Биюк-Чешму идем?
– Какой тебе здесь «парнишка»!?. Это – панич, а он – «парнишка!». Обращения не знает! – выговорил ему первый, с изумленными мелкими глазками и маленькой бородкой. – Вы ему, господа, извините: он – деревенский, – обращения еще не имеет.
Деревенский, с желтыми усами, с носом кривым и длинным, оглядел Павлика и Наталью Львовну, задрав голову, и пошел себе шагать дальше, а пушистоволосый топтался около и говорил, точно комарик пел:
– Он – невежа, он этого не понимает, что нужно вежливо с господами… Нам, стало быть, по соше все итить, – куда соша?
– Да, по шоссе, – сказал Павлик. – Тут верст десять ходу.
– А ночевать там нас пустют, спроси! – крикнул, не оборотясь, невежа.
– Они-то почем же знают, во-от!.. Эх, с таким товарищем прямо мученье!.. Ну, раз село, – значит… пятак дашь, – и пустют… – вкрадчиво поглядел было, как умный пес, потом двинул картуз за козырек и зашлепал дальше.
– Им нужно что-нибудь дать… У вас мелочи нет ли?.. У меня нет, как назло! – заволновалась вдруг Наталья Львовна.
– У меня тоже ничего нет, – Павлик сконфузился было, но добавил брезгливо: – И незачем им давать, таким…
– Какой вы!.. Непременно, непременно нужно! Нужно! Вы знаете, что для меня значил пятак, когда я шаталась? Я ведь побиралась под окошками, вы знаете? Я пела какого-то там Лазаря, – вот вроде как маленькие поют, неизвестно о чем, – сама и сочиняла, только бы пожалостней, а мне краюшки черствые, яйца печеные тухлые, – все бабы, конечно, – и хоть бы кто когда-нибудь этот пятак дал!
– Что вы выдумали?
– Да, «выдумала»!.. По копейке, впрочем, подавали.
Павлик не знал, зачем она говорит это, и смотрел на нее, нерешительно улыбаясь, а она продолжала упрямо:
– Грязища была – по колено, – и действительно ведь ровно по колено, – в селах всегда грязнее, чем в поле, – дождь (тогда весь июнь дожди шли), а у меня всего и теплого было одно одеяло, так я и щеголяла в одеяле, как цыганка… Старик один со мной тогда ходил, Горбунков Кузьма… Вы что так смотрите? Правда!.. Это уж давно было… Это я вот на этих посмотрела, – вспомнила, а то я уж забыла…
– Так вы это что же, серьезно?
– Я – всегда серьезно.
– Зачем же вы?..
– Шаталась?.. Потому что боялась этого… Я всегда все делаю, чего боюсь. Боялась, боялась, как это так ходят люди? Вот, взяла да сама и пошла… Ну, ошибка, – ну, глупо вышло, – ну, черт с ним, – не все ли равно?.. – Помолчала и добавила: – А в одной избе три дня прожила, – разболелась… Там хозяева оказались хорошие: меня удочерить даже хотели: я сказала, что я безродная… «Мы, говорят, тебя замуж выдадим, – касат-ка!..» Я у них там печку петухами разрисовала, – очень были довольны, – и стихи им читала наизусть… «Какая, говорят, девка-то, золото! Должно, где-нибудь в горничных жила, ума набралась…» Я ведь и зайцем ездила в угольных вагонах… а версты за две до станции нас высаживали кондуктора: тихий ход, – и прыгай себе на шпалы…
Павлик смотрел на нее, и веря и не веря: очень как-то непохоже было, чтобы она ездила в угольных вагонах, ходила в одеяле под дождем, побиралась… Только вспомнив, какие у нее бывали иногда глаза грустные, поверил, наконец, и несмело спросил:
– Вы зачем же это все-таки?.. Чего хотели?
– Ну-у – «чего хотела»!.. Никогда я не знала, чего надо хотеть, и тогда не знала… Пошла и все… Так, что-то мерещилось: монастыри, странники, богомолки… Просто – это было красиво… казалось красиво, издали… Ну, хорошо. Не надо… Красиво и жутко…
– А вблизи?
– Сказала: не надо больше?.. И не надо!.. Вот расскажите лучше еще что-нибудь про свою царицу… как она?..
– Я больше ничего не знаю, – буркнул Павлик.
– И не надо – будем молчать.
Проволокли мимо ребятишки на ручных тележках сушняк из лесу и что-то полопотали громко и весело.
Павлик решил, что это, наверно, о нем, об его костылях, но не счел этого обидным, только подумал: были ли тогда, при царице опальной, такие тележки?.. И вдруг высчитал в первый раз правильно, что тому уж не тысяча двести, а тысяча триста лет. Так удивила его эта ошибка, которую чуть было он не допустил, что тут же, остановясь, обратился он к Наталье Львовне:
– А знаете, штука какая: я сказал вам – тысячу двести лет?.. Гораздо больше: в конце шестого века, в начале седьмого, – значит тысячу триста лет.
– Ну?
– Ошибся… на целую сотню лет!
– Павлик, Павлик!.. Разве не все равно? Тысячу двести, тысячу триста, тысячу четыреста, – какая же разница?
– Не тот век, – бормотнул Павлик.
– Ах, Павлик!.. Это очень скучно быть ученым… И, главное, историком! Вот уж безнадежная наука!.. Что было – было, ну и черт с ним! И зачем вспоминать? Никому не легче, и только всем скучно… Посмотрите, заяц!
Но это не заяц, – это просто рыженькая собачонка мелькнула в кустах, а недалеко в кустах же паслись коровы; коровы были больше все рыжие, и в рыжих кустах мало заметные, как будто копошились сами эти кусты.
Потом потянулись виноградники, попались крашеные ворота, ведущие вниз, в чей-то сад; потом шоссейная казарма в версте от Перевала.
Наталья Львовна сказала весело:
– Вот как хорошо – чинно мы гуляем… Очень сегодня мило… И какие-то загадочные всадники мчатся нам навстречу – совсем, как в вашей сказке!.. Видите?
Шоссе здесь шло, пересекая балки, крутыми изгибами: то появлялось белым треугольным куском из-за срезанного выступа, то пропадало, и так же появлялись и пропадали на нем неясно видные, потому что солнце било в глаза, звонкие верховые. Потом вымахнули грудью из-за последнего поворота, и ясно стало, что верховой-то был один, а другая лошадь в поводу, – иноходцы, – караковый и буланый, – ростом небольшие, но красивые сухие лошадки. Верховой издали еще показался знакомым Наталье Львовне, но шагов за десять он и сам заулыбался ей и закричал:
– Замечательно!.. Здравствуйте!.. Не узнали?
И тут же Наталья Львовна узнала Гречулевича.
Поровнявшись, Гречулевич, весь радостно сияющий, еще раз сказал:
– Замечательно! – Ловко спрыгнул, забрал оба повода в левую руку, поздоровался радостно с Павликом, хотя и не знал его, и просительно наклонился к Наталье Львовне:
– Вы умеете верхом?.. А?.. Наверно, умеете?
– Ого! Еще как!
Павлик даже изумился тому, как вся переменилась вдруг Наталья Львовна, стала ребячливой, задорной, и голос звучал низко, по-мальчишески:
– Это здорово!.. И даже седло дамское! Зачем у вас седло дамское? А?
И глядела на этого в глупой жокейке, в зеленой спортсменской куртке, красного, с наглыми глазами навыкат, с колкими усами, с зубами, как у лошади, и с носом, точно серп, – глядела так, показалось Павлику, восхищенно, что за нее сразу стало неловко, а за себя больно почему-то.
– Я давно не ездила!.. Ах, я страшно люблю ездить! Я и в детстве даже… Павлик, вы вот что, голубчик… Мы долго будем кататься?.. Ну, только не фыркай мне в лицо, противный… Влюблена в иноходцев!
– Смирнейший! – говорил, тоже сияя, Гречулевич. – О-о, он любит, когда его дамы гладят!.. Нет, не кусачий, не бойтесь… Кататься? Сколько угодно!.. Хотите, в Биюк-Чешме проедем? Замечательно, что я вас встретил, – один восторг… Сегодня уже мое число: девятнадцатое… Мне по девятнадцатым всегда везет!
– В Чешме! Да… в Биюк-Чешме… Это я так сказала? А-а, это – куда те двое пошли, Павлик? Что это значит: Биюк-Чешме?.. Павлик же, скажите же, – вы ведь все знаете!
«Что с ней такое? Точно ее щекочут!» – удивленный, думал Павлик и бормотнул угрюмо:
– Нет, я не знаю, что значит.
– О-о, это просто, – подхватил Гречулевич очень живо и очень весело. – Биюк значит – большой, а Чешме – источник, родник… А то есть еще Кучук-Чешме – малый родник – тоже деревня.
И глядел на Павлика, как и на Наталью Львовну, одинаково сияюще и красно, с большой готовностью объяснить все на свете.
– Нет, откуда же у вас лошадь с дамским седлом, точно нарочно?! Вы отвозили куда-то какую-то даму? Правда?
– Конечно, если… от вас не скроешь!.. Ну, уж лошади не хотят стоять… Садитесь, я помогу… Давайте сумочку.
– Нет, я ее так вот… Ну, гоп!
Поддержанная Гречулевичем, Наталья Львовна ловко (Павлику не понравилась эта ловкость) вскочила на своего буланого.
Буланый, откачнувшись, перебрал сухими ногами, закивал головой и на товарища косился: скоро ли? Гречулевич поймал стремя ногой, попрыгал немного, как воробей, кстати выправляя подпругу, невнятно подбросил ладное, нетяжелое тело и вот уже уселся гусаром, а Павлик остался на дороге; он еще не вполне осознал, что чувство, его охватившее, была едкая зависть. Показалось только, что слишком много солнца на них двоих, и на уздечках и на стременах, и на рукоятке хлыста Гречулевича, и на подковах внизу, и на белом шоссе под ними.
Наталья Львовна закивала ему весело головой, – точь-в-точь, как ее буланая лошадка, и Гречулевич тоже кивнул раза два или три, коснувшись рукой с хлыстом своей противной жокейки, и уж тронулись было, когда вдруг вспомнила что-то она:
– Павлик! Павлик! – повернула буланого боком. – Павлик, а как же царица ваша?.. Тогда ведь не было дамских седел? Как ей неудобно было, бедняжке!
И засмеялась (первый раз слышал Павлик, как она смеялась – незвонкий, грудной смех), – и, уж не посмотрев на него больше, оба двинулись разом, застучала точная дробь иноходцев, крылом черным отвернуло платье Натальи Львовны, мелькнули кругло лошадиные крупы с хвостами, завязанными тугим узлом, и сухие ноги, снизу белые от известковой шоссейной пыли (с неделю не было дождя) – и вот все пропало за поворотом. Павлик подождал, когда опять зачернели, вырвавшись на белое, – хорошо скакали! – и опять скрылись за другим поворотом, потом опять вырвались выше.
Но на этом белом треугольнике остановились, и, всмотревшись, увидел Павлик тех двух бродяжек, невежу и вежливого, – показалось, что снимали шапку и картузик.
«Значит, у этого лупоглазого нашелся пятак!» – подумал Павлик. И смотрел, пока не пропали они совсем, точно растворились в горах, теплых от рыжего дубового кустарника, в свете, в буре бега, в радости, в неизвестном, – и гремучие арбы, поднимаясь за его спиной, заглушили точное цоканье копыт, которое еще улавливало ухо.
И вот только теперь, когда увез от него куда-то лупоглазый Наталью Львовну, Павлик ясно и полно почувствовал, что он – калека, и что он несчастен, и что он – один.
Он достал «будущность», посмотрел на нее и бросил на дорогу.
День был настолько тепел, что очнулись заснувшие было синие мухи и не только ползали, а даже летали, хотя и очень грузно, около окошек дачки Носарева. Белоголовый Максимка поймал ящерицу и теперь, когда приковылял Павлик, со всех ног бросился к нему с ней, точно и в самом деле сокровище: «Глянь! Глянь-ка-сь!.. Гы-ы!» И сам не мог от нее оторвать глаз. Он только недавно начал говорить и теперь всему на свете чрезвычайно изумлялся вслух: глаза же у него были синие до черноты и склонные к передаче двух только чувств: крайнего восхищения и немого испуга.
– Ишь, хвостом она как! И-ишь!.. Рот разевает!.. Какой у ней ротяка-то, глянь!.. Гы!..
Травы зеленой было много кругом, но ящерка была еще серенькая, и вся пульсировала с головы до хвоста; хвост, отломленный в конце лета, теперь отрастал, однако Максимка попробовал, не втянулся ли он в живот, и подергал.
Так как было воскресенье, то к Увару пришел Иван с дачи Шмидта. Он сидел на верстаке, занявшем почти весь балкончик, аистовым носом своим уперся в Увара и говорил ему вполголоса, чтобы не очень слышно было Павлику:
– Я ведь… разве ж я свово дела не понимаю?.. Почему это так, у всех руки с перекопки ломют, а у меня нет? Потому, секрет этот надо знать: шерстяной ниткой вот против сгиба завязывать, – ну, известно, красной, – и аминь…
Увар, хоть и воскресенье, что-то сбивал заклепками, орудуя киянкой, стучал, кажется, больше, чем надо было, потому что был сердит: это он делал сундук околоточному Жовмиру и наперед знал, что Жовмир скажет: «Не-ет, ты по столярной части не ходок!»… – и сундук-то возьмет, а денег не даст, – разве что когда-нибудь через месяц, через два сунет двугривенный.
Устинья с маленьким ушла куда-то к соседям, и Павлику можно было посидеть в комнате своей на свободе, подумать над «Патологией бога», помечтать.
От солнца ли, или еще от чего, – все в нем было яркое и звенело. Даже и не штиль представлялся на море, а огромный белый прибой, и зачем-то (так вдруг показалось) будто бы канаты были натянуты, как струны, между этим прибоем и верхушкой горы, а там как-то хитроумно соединялись канаты с языками колоколов, и когда прибой бился внизу – наверху шел ответный трезвон, – так говорили между собой две стихии – горы и море.
Кому же нужна была эта капризная затея с канатами? Опальной царице, конечно – это она упросила чернобородых. Ведь она была молодая и красивая, и ей было скучно, а монахам не все ли равно? На то и колокола, чтобы звонили… Может быть, это напоминало ей Византию в праздник… Может быть, хоть пять, шесть волн каждого прибоя побывало когда-нибудь в Золотом Роге, – кто их знает, как далеко бродят волны?
И кому же не милы сказки, хотя бы и самые чудесные?
Но и белевская тройка представлялась теперь особенно ярко. Иноходцы ли напоминали ее, – только все неотвязно лопались бубенцы в ушах и пылали морды гривастые перед самыми глазами.
Павлик в больнице уж узнал от товарищей, что в санях тогда сидели сестры Шагурины, – две купеческие барышни, – тетка старая их, всем в Белеве известная, очень вздорная и очень сырая женщина, и еще какой-то, тоже Шагурин, дальний их родственник, не белевец, а приехал откуда-то на смотрины, да и сестры-барышни, хоть и белевские, тоже долго жили то в Твери, то в Туле, так что их и не знал совсем Павлик, а потом они тут же уехали в Тверь, и он их никогда не видел. Все вылетели из саней на раскате, и только барышни отделались легко, старая же тетка и теперь еще все болела, а у родственника вышибло несколько передних зубов и рассекло губы на манер заячьих. Пьяный же кучер как-то уцелел и хоть тоже жаловался, что отшиб все печенки, но это уж просто так, из приличия.
К Павлику в больницу никто из Шагуриных не зашел, а старая тетка даже бредила в первое время им, как каким-то злоумышленником, который погубил ее на всю жизнь, до последнего испугав лошадей: всех уверяла, что лошади должны были отойти, если бы не какой-то шалый гимназист, захотевший воспользоваться удобным случаем, чтобы покончить жизнь самоубийством, конечно, из-за плохих отметок. И, хотя отметки у Павлика были неплохие, – так думали почему-то все, и директор, «Рыжий Павел», и товарищи, и даже вначале отец, – и никому ничего он не мог объяснить: всем казалось, – покушение на самоубийство; и, наконец, самому ему стало понятно, что тут что-то не так, и очень неловко за отца, вчинившего иск, и ни за что не хотелось являться к разбору дела.
Отца было очень жаль: он был обыкновенный, сросшийся со своей формой почтовый чиновник по виду, но Павлик знал о нем не это, а то, что душа у него была нежная, любящая и теперь пораженная донельзя, раненная насквозь, и когда он приходил к нему в больницу и усаживался на белый табурет около койки, Павлик нарочно закрывал глаза, чтобы не видеть, как он старается держаться бодро, даже покручивает иногда зачем-то усы, которые висят себе честно и не знают, откуда это с них требуется бодрый вид: щеки у него дряблые, отстающие от скул и желтые, и руки сухие, канцелярские, и дрожат, и сединки проступили в бровях, – раньше не было, – и все теперь кажется у него так ненадолго, так просится на пенсию, и вот говорит он вдруг в десятый раз:
– Эх, Паша, Паша!.. Как же это ты так неосторожно? Зачем?
А он отвечает, не открывая глаз:
– Так.
– «Так» – это ты говорил, когда был ты еще совсем маленький, а теперь тебе уж, слава богу, почти пятнадцать лет.
Это было горько и стыдно слушать: он был один у Павлика, как и Павлик у него один, – и даже ему, единственному, все-таки ничего нельзя было ответить, кроме «так».
Раза два к окошку Павлика с надворья подбегал Максимка и показывал теплое, солнечное: то крылышки крапивницы, которая очнулась было, попробовала поползать и попалась востроглазой синице; то плеть неожиданно распустившегося мышиного горошку (ящерицу он уж задергал). Он прилеплял к стеклу, нагретому солнцем, свой нос и кричал гнусаво и радостно: «Глянь!»
А из-за окна с балкончика жужжал Иван:
– Я вот в Кизильташе в монастыре служил, в садовщиках, так я… хочешь знать, что сделал?.. Аж и игумен, отец Макарий, того не знал, что я знал! Там, округ конюшни каменной, виноград изабел посадили, – посадили и думать забыли: он свое возьмет, а он сидит! Два года сидит, три года сидит, – как квочка… А я ж этого терпеть не могу, чтоб у меня дерево капризы свои показывало!.. Взял я, срезал всю эту забелу долой и таким манером – только корни ей оставил: пошел, от дикого плюшша, – плюшш такой есть, вьющий, – четыре черенка обчистил, привил до тех корней и думать забыл… Как пошел, брат, чесать плюшш по стене, как пошел рясный да жирный, – смотрят монахи – вот какое святое-то место ихнее, что из себя оказывает: изабел сажали, а чешет плюшш! Отец игумен даже сам смотреть приходил. Я ему говорю: «Плюшш привил до винограду…» – «Этого, говорит, быть никак не может, через то как плюшш до винограду не принимается; ты, говорит, еще до вербы грушу привей…» – «А хотите, говорю, корни откопаю: корень, он и скажет, ежель не верите…» Настоящим садовникам потом говорил, и те не верют…
Увар постукивал своей киянкой так, что и Павлику было понятно, что для работы его это не нужно, а просто он не в духе, и Иван ему надоел.
Было очень ярко перед глазами Павлика: и как давала ему «будущность» Наталья Львовна, и как искоса глядела при этом, ребячась (глаза ее он и сейчас еще ощущал на себе неотвязно, так что хотелось почти отмахнуться от них), и какие кругом стелились резиново-мягкие плывучие тающие лиловые балки, как будто это горы стекали в море.
И даже в окно не хотелось теперь глядеть, чтобы не заслонить новым прежнего: так оно казалось красивым.
Но возникал лупоглазый со своими иноходцами, этот, – в жокейке дурацкой, в ботфортах, с хлыстиком, – и вот уж хотелось при новой встрече с Натальей Львовной сказать ей серьезно и вежливо: «Пожалуйста, только не зовите меня больше Павликом… Гораздо лучше по фамилии: Каплин».
И вспоминалось с чувством какого-то превосходства над нею, что познакомилась-то с ним ведь она сама: скучно стало ходить одной, подошла и заговорила о погоде, а ему было все равно.
В «Патологии бога» Павлик записал крупно: «Байрон был хром, Ярослав Мудрый был хром, Тамерлан – Железный Хромец и другие»… Впрочем, сколько ни напрягал памяти, никого больше припомнить не мог; но, непосредственно вслед за этим, занес в тетрадь поубористей: «Красоту мы замечаем только потому, что она очень редко попадается; красота – это простая случайность, как, например, сердолики здесь на пляже: если бы весь пляж состоял из одних только сердоликов, их никто не стал бы и собирать. Красота – временна и случайна, а то, что мы называем „безобразием“, – основа основ. Но ведь бог – основа основ?.. Значит, безобразие – одно из свойств божиих». Мысль эта показалась ему хоть и не ценной, – все-таки такою, над которой стоит когда-нибудь подумать, а с балкончика добирался сюда жужжащий голос Ивана:
– Земля тут, например… Ее если в поливном, конечно, месте взять в аренду, – ты не смотри, что все – камень, шалыган, – така ж родюча! – на ней все идет в лучшем виде, чего и на хорошей земле не дождешь…
– Да ты это к чему мне все торочишь? – отозвался, наконец, и Увар, – потому, должно быть, что стучать уж попусту надоело.
– А я к тому это, – несмело жужжал Иван, – что вот, сказать бы, жена – всегда бы я мог ее оправдать.
– Так ето я тебе што?.. Сват?
– Нет, я без шутков всяких…
– Я тебе сват?
– Не к тому я, шо ты сват, а только ты здесь – давний житель, а я внове здесь…
Помолчав, Иван добавил:
– Конечно, – невестов этих везде, как лободы собачей…
Когда, не усидев уж больше в комнате, потому что начинало вечереть, Павлик вышел опять под небо и солнце, до него долетел отрывочный разговор Ивана с Уваром, в который он не вслушался как следует, – только Увар будто бы сказал свирепо:
– Я тебе вот возьму, да старуху выпишу, женину тетю Аришу, – желаешь?.. Так она не особо старая – твоих лет… Только чтобы ты правильно женился уж, а то что же ей на проезд расход лишний?
А Иван на это будто бы ответил кротко:
– Что ж, – выпиши.
Откуда-то, – из лесу, должно быть, – налетело очень много лозиновок, и теперь они порхали везде, как зеленые листики, и кричали, а Максимка за ними бегал, раздувая пузырем розовую новую рубашку.
Уставший от прогулки с Натальей Львовной, Павлик уселся теперь на единственную скамейку на носаревской земле и долго сидел, разглядывая море, которое наряжалось поминутно во все цвета, какие есть в природе, так быстро меняясь, что уследить за ним было нельзя. Он думал о подвиге и самоубийстве, и ему начало казаться, что и он прав, и сырая купчиха Шагурина тоже, пожалуй, права, и что отцу нужно, наконец, в письме разъяснить сегодня же, что жажда подвига – это действительно, может быть, и есть тайное желание смерти, такое тайное, такое скрытое, что человек даже и самому себе не хочет сознаться в этом, а выдумывает какую-то ненужную постороннюю цель.
Над этим хотелось думать как можно больше, потому что это казалось безусловно важным, но когда на Перевале застучала, наконец, гулкая точная иноходь, Павлик забыл, о чем он думал: он даже привстал взволнованно, чтобы было виднее, как около калитки соскочит со своего буланого Наталья Львовна. И он видел и ни одной мелочи не пропустил. Когда же, отказавшись, должно быть, сейчас же зайти на чай, потому что не на кого было оставить лошадей, лупоглазый уехал, наконец, с Перевала, Павлик не удержался, чтобы не проковылять по дороге до дачи Шмидта как будто просто гуляя, и Наталья Львовна, как он и ожидал, была действительно на близкой от дороги и открытой веранде. Должно быть, она только что умылась, что-то делала с волосами. Он ждал, позовет она его или нет, и услышал:
– Павлик! Павлик!.. Идите сюда, я вам что-то скажу!
«Нет уж, – не Павлик, а Каплин», – твердо решал про себя Павлик, подходя вплотную к ограде.
Наталья Львовна стояла на веранде, закалывая шпильками волосы, и говорила, вся еще возбужденная ездой:
– Вы знаете, Павлик, где мы были?.. Вот угадайте!
– В Биюк-Чешме.
– Нет, – ага!.. На вашей горе любимой, – на Таш-Буруне!
– А-а!
– Да-с… От шоссе туда есть отличная дорога, – и вот… Монастырей там, конечно, ни следа, ни звания, – гробниц, конечно, никаких, – цариц тоже никаких… Но… там очень хорошо, очень!.. И вид… дивный!.. Ах, широта какая!.. А море оттуда, – поразительно!.. Адски красиво!.. Я, конечно, растрепалась очень, шпильки порастеряла, хотя я подвязалась платком!.. И то еще хорошо-то, что так… Зато здорово!.. Я там в два пальца свистела, так… Вы так умеете, Павлик?.. Ух, спать теперь буду!..
– А лупоглазый этот? – зачем-то свысока и небрежно спросил Павлик.
– Ка-кой лупоглазый?.. Это Гречулевич-то лупоглазый? Ах, Павлик, Павлик! – Наталья Львовна засмеялась грудным своим смехом и опять: – Ах, Павлик!
Павлик только что хотел сказать, что он для нее и не Павлик вовсе, а Каплин, и что так несравненно будет лучше: Каплин, – когда Наталья Львовна вдруг ошеломила его:
– Да вы знаете ли, несчастный, что это все его, этого лупоглазого?.. Вот вся верхушка, где монастыри эти ваши, – да, да, да! – и царица Дарья… это все его!
– Он наврал! – с негодованием сказал Павлик.
Наталья Львовна засмеялась еще веселее.
– Вот тебе на!.. Там и каменоломня его, только теперь он ее уж продал какому-то… Макухину… Я там все видела… Ничего особенного нет, – дико, но… красиво зато!
– Откуда же это у него? Что вы?
– Господи! По наследству, конечно!.. Какой-то вымерший генерал троюродный… А тому тоже по наследству… Он мне что-то объяснял… да: за боевые заслуги… Одним словом, это теперь все его… Вы довольны?
Она нашла место для последней шпильки, оправила волосы с боков и сказала:
– Очень голодна и адски устала… Пойду чай пить… Прощайте!
Кивнула ему и ушла с веранды.
Глава одиннадцатая
Штиль
Полковник Добычин был уже в том устойчивом равновесии душевном, в котором бывают обычно здоровые, много и бодро на своем веку походившие по земле старики, когда они начинают вглядываться прощально во все кругом. Это длится иногда довольно долго, смотря по крепости сил, и всегда бывает трогательно и значительно. Если бы были у Добычина внук или внучка, – он был бы отличнейший нежный дедушка из таких, у которых на руках засыпают, как в удобной кроватке, ребятишки, а они относят их в детскую, раздевают сами, выслушивают, как тянет плаксиво разбуженный карапуз: «Глаа-за-а не смотрют!» – и советуют безулыбочно: «А ты протри их… Малы они еще, – вот поэтому и не смотрят… Протри их хорошенько, – будут они большие, будут лучше смотреть… А то ничего уж, – завтра протрешь… спи с господом!» И перекрестят набожно, и уйдут на цыпочках, и в детской сон.
Но ни внука, ни внучки не было, – только Нелюся.
В саду к Ивану Щербаню подходил иногда, и когда тот, суеверно перевязав запястья широких лап красной шерстяной ниткой, выворачивал на перекопке жирные, ноздреватые, глинистые, горьковато пахнущие корнями глыбы, – полковник стоял около и хвалил: «Та-ак!.. Брависсимо!.. Вот это так – на совесть!» – «Ну, а то как же?» – польщенный, отзывался Иван, плюя на ладони. Но случалось – Иван выхватывал заступом сочный и сильный, – аж капало с беломясого корня, – побег вишни, черешни яблони, – и Добычин весь порывался к нему:
– Голубчик мой, – да как же ты его так?!
– Шо «как»? – удивлялся Иван.
– Да зачем же ты его так неосмотрительно?.. Эх, бра-ат!
– Это? Да это ж волчок!
– Какой волчок?
– Такой, самый вредный волчок и есть от корня… Гм! Чудное дело – как же его допустить?.. Он же дерево глушит! – И Иван выдергивал и далеко отшвыривал волчок; но когда он отходил, полковник, несколько конфузливо и хитровато, чтобы он не видел, подымал отверженца, прятал его под полу николаевки и, отойдя куда-нибудь в угол за деревья, осторожно сажал его снова в мягкую от дождей землю: «Бог, мол, с ним… Отчего же ему не расти? Чем он виноват, что волчок? Пусть себе растет, хоть и волчок…» А однажды, когда в помощь себе для работ в саду Иван принанял поденного турка, и турок этот, слишком широко размахнувшись киркой, сорвал кусок коры с молодого конского каштана, Добычин даже за руку его ухватил: «Ты что же это? Ты как…» Оторопелый турок все прикладывался к феске и бормотал: «Фа-фа-фа… звиняй, козяин!.. Гм… фа-фа… никарош!» И хоть и не хозяин был здесь Добычин, и хоть и не так уж было это важно для каштана, – все-таки занялся раной он сам, замазывал глиной, обматывал тряпкой, – очень был озабочен, – и хоть турок не понимал, что он такое говорил, все-таки по-стариковски обстоятельно усовестить его Добычин почел своим долгом.
В тот день, когда Наталья Львовна ездила с Гречулевичем на Таш-Бурун, полковник, прельстясь тишиною, ясностью, теплом, штилем на море, пошел сам с Нелюсей в городок за табаком, – за хорошим табаком, чтобы можно было потом похвастаться: «Вот какого я контрабандного табаку добыл, – и совсем за пустяк!» (Есть это, – бывает у таких кротких стариков подобная слабость.) Полковник не знал даже, каким образом он достанет непременно «контрабандного» табаку, но думал, что стоит только шепнуть кому-нибудь, подмигнуть, – посмотреть в душу, – и сразу поймут, что надо, и укажут, где и как достать: о городишке он думал, что он, хоть и маленький, а должно быть, достаточно продувной.
Кроме того, так давно уж не был он на народе, не видал никакой суеты, а он любил суету, толчею, только издали, разумеется, – для глаз. И теперь, придя в городок, он не прямо за табаком направился, а на пристань, к которой за день перед тем подошли трехмачтовые баркасы с лесом и желтым камнем для построек…
На пристани, действительно, была суета, но под солнцем все очень ярким, необходимым казалось полковнику, единственным и, главное, умилительно вековечным: бежит ли по зыбким сходням с судна на пристань грузчик с огромным пряничного вида камнем на спине, на подхвате: «Молодец – люблю таких, – гладкий!», – стоит ли выпуклошеий, явно могучий серый, с красными крапинками битюг и одним только перестановом ноги пробует дроги, – много ли ему навалили, и косится назад высокомерным глазом: «Молодец, – люблю таких, – строгий!», – ругается ли кто-нибудь необычайно крепко, на два выноса, – и по-сухопутному и по-морскому, – и это нравилось полковнику: «Молодец, – работа свирепость любит!» Пристань стояла вся на железных широких балках, и сваи эти над самой водой были густо окрашены белилами, киноварью и ультрамарином, отчего у воды, их отражающей, был до того радужный, пестрый вид, что как-то не верилось сразу, что может быть такая вода, такая мелкая, под цветной мрамор, павья вязь; ведь во все эти краски примешивалось еще и небо, и оно их как-то невнятно обмывало, слоило, дробило, обводило пепельными каемками; потом тут же еще плавало жирное и тоже радужное машинное масло, а сквозь воду просвечивало дно, все из разноцветной гальки, и вся эта невыразимая пестрота расчерчивалась вдруг, точно поджигалась снизу сверкавшей, как фосфорная спичка, зеленухой… Бычков на дне тоже было видно: эти таились, как маленькие разбойники, за камнями и елозили осторожно по дну тоже с какими-то, ох, темными, должно быть, целями… А недалеко на берегу, возле лодок, затейный народ – мальчишки пекли на скромненьком огоньке камсу. От моря пахло арбузом, а с берега – паленым, а на набережной гуляла здешняя мастеровщина, – веселая уж, но еще не очень, – прохаживались почтовые со своими барышнями, и весьма был заметен по привычке стоявший у закрытого входа в свой склад извести и алебастра пузатейший и в маленькой шапочке грек Псомияди. В городке, набежавшем с горки, нестерпимо для глаз сверкали окна, и подымалась на самой вышке круглая историческая развалина, вся пестро унизанная голубями, потому что это единственное было место, откуда их никто не гонял. А выше исторической развалины стояли горы, и потом вправо они уходили грядою в море, неясно клубились, как розовый дым, – те самые горы, на которые полковник привык любоваться по вечерам с Перевала.
Чтобы использовать штиль, который мог ночью же смениться прибоем, все три баркаса с разных сторон пристани разгружали разом, камень тут же свозили лошадьми, а лес – кругляк, обзел, тонкую «лапшу» для ящиков, – все это, подмоченное немного, шафранное по цвету и, как пасхальные куличи, вкусное по запаху, бросали звонкой грудой на пристани, лишь бы не свалилось в море. По сходням так и мелькали в шуме, и полковник все восхищенно скользил глазами по этим спинам, и красным шеям, и мокрым теплым рубахам… И какие все были разнообразные! А один даже в вытертой студенческой фуражке над мокроусеньким от поту лицом.
Ему и самому хотелось бы как-нибудь проявить себя в этом, – во всем, – ну, хоть покричать там в самой толчее: ведь в кадыке его жестком жив был еще командирский зык, – и, конечно, без злости всякой покричать, а только единственно для порядку.
Когда же, насмотревшись, наконец, – да и солнце уж начинало садиться, – и вспомнив про контрабандный табак, полковник вышел с пристани на набережную, он встретился с Сизовым.
Сизов как будто давно уж заметил его на пристани и ждал его, и когда он проходил мимо, он не только обменялся с ним честью, он еще успел и представиться, чем заставил Добычина сделать то же.
– На наш легкий лечебный воздух приехали? – спросил капитан, вздернул лицо клюковно-свекольного цвета и поблистал очками. Мог бы и не с «воздуха», а с чего-нибудь и другого завязать разговор, так как и сам Добычин был очень расположен с кем-нибудь побеседовать теперь дружелюбно, а тем более с моряком, почти равным по чину, почти равным годами… (Сизов очень берег свою форменную пару, а теперь был еще и в плаще, вполне приличном, только чуть-чуть около застежек тронутом молью.) «Кстати, – подумал еще полковник, – вот у него-то по-товарищески и можно будет узнать относительно табаку, контрабандного… и прочее»… И спросил учтиво:
– А вы, капитан, давно здесь изволите… проживать?.. Насколько помнится, я вас встречал здесь и в конце лета?..
Оказалось, что Сизов имел здесь свой дом, – не доходный, нет, для себя только, – особняк, – однако жить очень роскошно не мог при скромной пенсии и обширной семье… Добычин хотел к слову что-нибудь вставить насчет семьи, но тут же подумал, что Сизов, должно быть, все, что он мог бы сказать о семье, отлично и сам знает, и вставлять не нужно; для приличия же только сказал горестно: «Да, семья!»… Сизов, действительно, знал: это было видно уж потому, что он поминутно дергал головою и все безостановочно шевелил мизинцем правой руки, непроизвольно, должно быть, как паук-сенокосец, а голос у него был грубый, непослушный, с сильной хрипотой, каждое слово его пахло спиртным. Он был выше полковника и грузнее, но не потому, конечно, полковник после небольшого колебания согласился зайти с ним даже и в ресторан, а вот почему: солнце, садясь, раздробилось на тополе, стоявшем поодаль от ресторана, около речки, и мелкие веточки с почками были совершенно поглощены прянувшим золотом, а толстые сучья стали черные, как уголь, и четкости необычайной, – точно плавилось все это важное дерево на солнечном огне; речка внизу под тополем бросалась, хлобыща, через камни, ледяная даже на глаз, крепкая, узловатая, а по цвету взмыленно-стальная; чрезвычайно торопилась засветло, – главное, засветло, – добраться, наконец, до моря; мост в этом месте был занят подводами как раз с тем самым желтым камнем, который свозили с пристани на склад, и битюги, один за другим, два, – гнедой и серый, с красными тряпичками, вплетенными в гривы, – зазолотели и засеребрели на ушах, на гребне шей, пятнами круглыми на широких крупах, на бляшках упряжи, и мост под ними ответно бунел, и ресторан (на вывеске по синему полю золотом) скромно назывался «Отрада», а на веранде его стоял сам хозяин, головастый Иван Николаич, и приветливо кланялся, насколько позволяло полное отсутствие шеи… Так – последнее солнце на тополе и на всем, свежий горный запах речки, запах проехавших битюгов, сытый Иван Николаич, не говоря уж о ярком капитане Сизове, – все это показалось вдруг полковнику умилительно неповторяемым, небывалым, единственным в его жизни, – поэтому-то и зашел в «Отраду».
А не больше как через час, когда уже стемнело, его, сильно опьяневшего и смутно представлявшего, что было кругом, усаживал на извозчика Федор Макухин. Полковник только о Нелюсе все беспокоился, но и Нелюсю посадил ему на колени Макухин, и сам сел рядом, а из дверей, выходящих на веранду и освещенных изнутри, порывался все выбежать с самым боевым видом, без плаща и без фуражки, Сизов, но с обеих сторон его держали сам Иван Николаич и человек, а он, дергаясь, хрипуче кричал:
– Грробо-копа-тель!.. Уничтожу!.. Ха-ам!..
И кто-то еще толпился сзади за ним, а полковник бормотал: «Какой буян!» – и извозчик спрашивал, перегибаясь: «Это Сизов?» А Макухин отвечал: «Трогай!..»
Что же случилось в «Отраде»?
Сначала все шло как нельзя лучше: Иван Николаич был очень гостеприимен, усадил их в комнате, отделенной от зала простенком, – небольшой, всего в три столика, – и особенное внимание оказывал Добычину, что его даже немного стесняло. В этот день почему-то в «Отраде» пеклись блины, и Иван Николаич важно сам подносил их и приговаривал: «Эх, блин румяный, как немец на морозе…» Даже улыбаться пробовал, но это у него выходило так, как если бы, например, заулыбался волкодав. Человек в фартуке, несколько похожий на хозяина, но до чего же стремительный, носился, как буря, все отбрасывая косицы со лба, и нагружал стол всяким рыбным, а капитан… на капитана просто любовался Добычин, до того он напоминал ему много старого своего, армейского, хоть был и моряк (известно, что все моряки презрительно относятся к армейцам, а армейцы не выносят моряков). Он даже и граммофон завел, разыскавши какой-то необыкновенно хрипучий, как гулящая девица, марш.
Ивану Николаичу он говорил: «Ты, сатана, крокодил…» – трепал его по животу и при нем же аттестовал его Добычину: «О-о, какая же это умнейшая скотина!.. Вы не смотрите, что… бу-бу… взирает он дураком: это – министр!»
Без фуражки и плаща Сизов потерял что-то в своем облике, зато стал ближе размягченной теперь и ко всему снисходительной душе Добычина. Конечно, здесь он был своим человеком, и уж по всему видел Добычин, что это – убежденный пьяница, – недаром и такой красноносый, – но и сам решил сегодня несколько разойтись; так и говорил, чокаясь с капитаном: «Ох, разойдусь!..» А капитан поддерживал его: «Б-б-бу… люблю!» – и очень сложно дергал головой, блистая очками, а мизинцами работал безостановочно: то правым, то левым, то опять правым. Добычин подумал как-то: «Может ли он обоими сразу?» Оказалось, тут же он заработал обоими сразу.
– Один сын у меня, – бубнил он, – увлечен спортом… Он – с рыбаками все… Ни-че-го, я не противоречу… бы-бы-бу… спорт!.. Спорт – это благородно!.. О-он всегда в море… И в самый жестокий шторм, б-б-бы, когда ни один из рыбаков не решается, – он один!.. У него свой ялик… Не противоречу, – нет! Сын моряка пусть будет моряком… А? Если я на мели, проискам, подлостям благодаря, прохвостам благодаря, – бу-бу-бу, – пусть он – на глубине… Верно?.. Ваше имя-отчество, полковник?..
Добычин только позже узнал, что это именно сын Сизова, о котором он говорил теперь, попался ему на глаза на пристани, – мокроусенький, в студенческой фуражке, – выгружал лес, – и что он, действительно, иногда рыбачил, только было это – просто промысел и отнюдь не спорт; но теперь Добычин следил за раздвоенной бородой капитана, прилизанной в обе стороны, и думал: «Хорошо, что он имеет сына: с сыном можно говорить о разном – сын поймет…» А Сизов, точно только что вспомнил, что у него не один сын, посмотрел на него, ярко блеснув очками, и круто переложил руль:
– Другого не похвалю вам – болван!.. Другой – ничтожество, – бу-бу-бу!.. Также и мать их, моя жена: ничтожество умственное, нравственное и физическое… круглое, б-б-бу! – и обвел большими пальцами круг сомнительной правильности: очень уж дрожали руки.
Это не понравилось полковнику: для него теперь в жизни не было ничтожества: ничего ничтожного не было, все было значительно и единственно, ни с чем не сравнимо, и он сказал это Сизову, – сказал мягко и ласково, как сам понимал; Сизов же отверг это решительно и шумно, и как будто совершенно был прав. Однако полковник что-то нашел еще, что уже было похоже на отвлеченную философию; так они разговорились было, – впрочем, ненадолго, и, чокаясь еще только третьей рюмкой, заметил Добычин:
– Какие мы с вами совершенно разные люди!
Но все же нравилось Добычину, что моряк – такой шумный, бубнивый и подвижной, что нос у него картошкой, а глаза под очками ястребиные, хоть и дергает его всего вроде Каина. «Он-то уж, наверно, знает насчет табаку, он такой, – думал полковник, – только бы не забыть спросить».
Но Сизов очень уж часто и много двигался: то он разыскивал хрипучие пластинки и накручивал граммофон, то он уходил на кухню ругаться с поваром, то услышал звонкий голос зашедшей к буфету земской прачки Акулины Павловны и все порывался затащить ее к полковнику, чтоб она показала ему какой-то кафрский танец, но Иван Николаич решительно ее не пустил дальше буфета и выгнал своевременно и собственноручно.
Очень удивляло полковника еще и то, что не только с Акулиной Павловной, но и со всеми рыбаками, дрогалями, плотниками, которые, видно было, заходили с улицы на ту половину – к буфету, Сизов был как-то на очень короткой ноге. Все это были люди неплохие, конечно (не было плохих людей для полковника), но с голосами весьма необработанными и с наклонностью говорить образно, сжато и сильно. Двери на ту половину были чуть прикрыты, и кое-кто подходил даже оттуда и засматривал сюда; иногда Сизов при этом кричал грозно: «Чего суешься?.. Зачем сюда?.. бу-бу… Уходи к шаху-монаху!» А иногда довольно восклицал: «Ага!» – соскакивал с места и выходил сам; приходя же, очень извинялся: «Не могу: люблю простой народ русский… бу-бу… Душевный народ!»
Добычин только после узнал, что Сизов тем и жил, что писал этому душевному народу разные прошения, и именно здесь, в «Отраде», была его контора, и имелся в шкафу у Ивана Николаича запас белой бумаги; здесь же он и оставался ночевать иногда, даже, вернее, редко не ночевал здесь; жена его жила от него отдельно, – ей помогала родня, – а сыновья ютились больше в ночлежке.
Уже успело стемнеть, и в «Отраде» зажгли лампы-молнии; полковник увидел, что он уж достаточно «разошелся» и что пора кончить, и уж начал звякать ножом о тарелки, вызывая стремительного в фартуке, а Сизов удерживал его нож своим и говорил, искренне изумляясь:
– Куда? Побойтесь бога… бб-бу, Лев Анисимыч! Сколько ж теперь часов?.. Шесть? И уходить из такой удобнейшей, дивной комнатки?.. Бу!
Но тут вошел в эту самую комнату Федор Макухин и за ним с почтительностью двигался Иван Николаич, а стремительный человек в дверях, впиваясь в них глазами, приготовился уж куда-то мчаться, как буря, и заранее откидывал со лба косицы. Но никуда мчаться ему не пришлось.
Макухин не спеша уселся за свободный столик, покосился на Сизова и очень внимательно оглядел полковника и его собачку. Полковнику понравилось, что он – молодой, белый, крепкий телом и, по-видимому, спокойный: беспокойный Сизов его утомил уже. Золотая толстая цепочка на куртке и перстни, тоже массивные, и Иван Николаич такой к нему внимательный, – все это заставило полковника потянуться головой к Сизову и спросить любопытно шепотом:
– Это кто же такой?
– Это?.. – весь так и вскинулся Сизов. Он и раньше все сопел презрительно и дергался в сторону Макухина, а теперь указал на него пальцем и крикнул: – Это гробокопатель!
Полковник, благодушный даже больше, чем раньше был, подумал, что сейчас он аттестует весело и этого так же, как Ивана Николаича, и уж заранее улыбался рассолодело (он много выпил), но Сизов вдруг вскочил и затопал ногами, яро крича:
– Нижний чин, хам, – ты как смеешь со штаб-офицерами… б-б-бу-бу… в одной комнате?.. Прочь! Прочь отсюда!.. Прочь!
Добычин понял, что выйдет не то, что он думал, он даже как-то оторопел, – до того не вязался с его теперешним настроением никакой скандал; он тоже вскочил, поморщился, положил руку на плечо Сизова:
– Ну, зачем, зачем это, капитан? Что вы?.. Голубчик!..
Но капитан был неукротим:
– За пятнадцать тысяч, – только! только! – купил мой дом и тут же! тут же! – продал за тридцать пять… вот этот, грабитель этот… б-бу… гробокопатель!.. Каменщик!
– Это и все мое преступление, – сказал Макухин чрезвычайно спокойно, обращаясь к Добычину, и вдруг он сделал то, чего никак не ожидал Сизов: он притворил, поднявшись, двери в общий зал, – откуда уж придвинулись на шум, – подошел к Добычину и спросил:
– А как, позвольте узнать, здоровье Натальи Львовны?.. Вот, что собака укусила не так давно?.. Мы ведь знакомы с ней… – И такой принял ожидающий вид, что растерявшемуся Добычину ничего больше не оставалось, как пробормотать:
– Благодарю вас… Она, – ничего, хорошо… А как же вы меня?.. Полковник Добычин!
– Узнал как?.. Мудрено ли: у нас тут все наперечет… тем более зимой.
Дверь из зала пытались приоткрыть, и он нажал на нее локтем. А в это время оправившийся Сизов опять подскочил к нему, весь пылающий и боевой.
– Ростовщик!
– Верите ли, – это было три года уж назад, и куплено с торгов, и все вот одно и то же, одно и то же… – жаловался полковнику Макухин и повел плечами. – Как это мне надоело!
– И мне!.. И мне тоже!.. – вдруг также вспылил полковник. – Это нужно оставить… закончить!
– Ка-ак-с?
– Да-да-да!.. Счеты эти… э-э… личные счеты, – не нужно! Оставить!
Сизов блеснул очками на полковника и уж дальше сдержать себя не мог: кинулся на Макухина, – тут же был отброшен, свалил столик с закусками, горчичница, отлетев, попала в Добычина, Нелюся залаяла изо всех сил, набежал народ, захлопотал Иван Николаич, заметался стремительный человек… Так закончилось все это тем, что Макухин привез полковника на дачу, и, конечно, тронутый такой заботливостью, полковник убедительно просил его навестить их, как только выберется свободное время.
Вот почему, когда Алексей Иваныч, поднявшись на Перевал после поездки к Илье и немного отдохнув у себя, пошел, в силу своей общительности, к полковнику, он застал там, к крайнему удивлению своему, Макухина и Гречулевича. Он даже в дверях несколько задержался, не сразу входя в комнаты, так как увидел странную картину. Гречулевич и Макухин, оба как-то непривычно для глаз приодетые, сидели со слепою за ломберным столиком и играли, видимо, в преферанс; за слепою поместился сам полковник и что-то шептал ей на ухо, отгородясь рукой, подымал брови и страдальчески морщился и тыкал в ее карты глянцевитым пальцем; а на диване, подобрав ноги и накрывши их клетчатым пледом, с папиросой в левой руке сидела Наталья Львовна и следила за дымом, который выпускала вверх тщательными кольцами. Справа от слепой стоял другой столик с пивом и стаканами, а около полковника на плетеном стуле спала, свернувшись белым комочком, Нелли. Все это было освещено щедрым верхним светом висячей лампы и имело какой-то чрезвычайно далекий от того, что ожидал увидеть здесь Алексей Иваныч, вид, – до того далекий, что он хотел даже повернуться и уйти незаметно, но его увидал Гречулевич и сказал громко и весело:
– Замечательно!.. А-а!
Потом в его сторону обернулись все, и залаяла Нелли, и полковник сказал: «А-а» – и Макухин сказал: «А-а» – и даже Наталья Львовна сказала «А-а» – и все почему-то радостно; только слепая, сложив карты рубашкою кверху и обернувшись к пиву, проговорила спокойно и не спеша:
– Что бы там ни случилось, – ход все-таки мой… прошу пом-нить…
Этот вечер оказался почему-то очень тяжелым для Алексея Иваныча. Еще полон он был своей поездкой, Ильею, Валей, которая теперь стала ближе, совсем близко, почти невыносимо близко, так что даже и в комнатах своих оставаться с ней было мучительно, и сюда он пришел, думая, что от Натальи Львовны, может быть, незаметно как-то отольется в его сторону какая-то неосязаемая женская нежность, что-то паутинно-мягкое, чему на мужском языке не подберешь и названия, – и опять можно будет сказать несколько слов о Вале, потому что они, эти слова, будут поняты ею, и, может быть, поможет она объяснить что-нибудь: мерещился все почему-то тот, раньше замеченный, по-ребячьи сутуливший ей спину мослачок, и была к нему какая-то доверчивость.

Но когда он увидел Наталью Львовну с папиросой, он почувствовал, что его будто обидели, и со всеми поздоровался он, как всегда, а ей сказал тихо и именно обиженно:
– Как?.. Вы курите?
– Иногда… Очень редко… – ответила она, не улыбнувшись.
– Зачем?
– Что «зачем»?.. Просто мне нравится кольцами дым пускать: актерская привычка.
– Ах, да… вы ведь были… артисткой? – замялся Алексей Иваныч.
– Да, была, конечно! Была актрисой… И даже… вот у меня – новый антрепренер: Макухин!.. Представьте, он полагает, что здесь можно устроить театр, – и вот, я могла бы быть на главных ролях… Вам нравится?
Алексей Иваныч удивился даже, – так это было непохоже на нее зло сказано, а папиросу она скомкала и отшвырнула в угол.
– Здесь летом много бывает публики, – виновато сказал Макухин и добавил в сторону слепой: – Вист.
– Я тоже… – лупоглазо глядя в упор на Наталью Львовну, сказал Гречулевич и как будто осекся, как будто еще хотел что-то добавить.
– Что «вы тоже»? – так же зло спросила она.
– Я?.. тоже вист, – скромно ответил Гречулевич.
– Ага… кого-то из вас, голуб-чики, об-ре-ми-жу, – прихлебнув пива, сказала слепая и, действительно, обремизила даже обоих: поделилась бубновая масть.
Так как это озадачило игроков, то полковник начал горячо объяснять, что немыслимо было назначить больше шести – например, – поделись бубна так, чтобы вся на одной руке?.. И почему-то раза два повторил при этом: «Если бы знатьё, играли бы восемь…»
«Знатьё… знатьё», – думал, стараясь попасть как-нибудь в тон, Алексей Иваныч, но все не мог угадать – какой же здесь тон?.. Зачем тут Гречулевич с Макухиным? Чем так расстроена Наталья Львовна? Как все это относится к тому, что было сейчас в нем самом, и как это все согласовать и в какую сторону направить?
Но вскоре кое-что разъяснилось, и то, что разъяснилось, именно и сделало для Алексея Иваныча этот вечер неожиданно тяжелым.
Глава двенадцатая
Вечер
Каждая минута человеческой жизни – целый мир, сложный и темный, и что ни скажи о ней – все будет не то.
Скажем так, что была это просто усталость души, и оттого Алексей Иваныч как-то робко переводил глаза с одного на другого из этих пятерых несколько знакомых ведь ему людей: с полковника, Гречулевича, Макухина на Наталью Львовну и ее мать – просто они как-то раскачивались в его сознании, как мачты на недавно оставленном им пароходе, казались гораздо шире себя, и приходилось поработать над ними значительно, чтобы придать им обычно-людской расхожий, разменный, удобный, урезанный вид.
«Какие красивые руки у Гречулевича! – думал Алексей Иваныч. – И карт так далеко от себя совсем не нужно держать – щеголяет руками… Какие твердые глаза у Макухина, по-мужицки умные, с ленцой!.. И непременно выиграет даже и теперь: всегда ему везет… А слепая-то, слепая!.. Значит, она, действительно, страстный игрок… вот поди же!.. Ни за что бы не догадался…»
Следил за летучими вспархивающими бровями Добычина и за его жестким, желтым, острым, как копье, кадыком, – как будто еще туже за эти два дня окостенел кадык и выдался еще дальше… И тут же старый дядя Ильи очень отчетливо представился («хе-хе-хе-хе!..»), и Саша, и смешливая девочка с рыбьей спинкой, – просто к этому располагали похожая висячая лампа и стол… А на Наталью Львовну опасался долго глядеть Алексей Иваныч – иногда посматривал искоса, но тут же отводил глаза. Он понимал, конечно, что только ради нее здесь Гречулевич с Макухиным, – и это почему-то было ему неприятно. Как теперь поговорить с ней? Не удастся, пожалуй. И кому из них из всех можно что-нибудь сказать о своем? Никому, конечно… И кого можно выслушать внимательно, с верой? Никого, конечно… Отчужденность стала закрадываться с самого начала, когда входил сюда, – и все росла.
На Наталье Львовне было черное платье, но какое-то непривычно ловко сидящее: чувствовалось за ним крепкое, подтянутое, цирковое тело. Да, цирковое, – несмотря на белый кружевной воротничок и белое же кружево на рукавчиках, лицо ее не стало наивнее и моложе – нет: бледное, злое, беспокойное и беспокоящее.
Это было раньше в натуре Алексея Иваныча – в подобных случаях придумать что-нибудь, растормошить как-нибудь всех, растолкать, однако теперь и в голову не пришло никакой затеи.
Ставни здесь были нутряные, и их еще не успели закрыть, и в одном окне, как раз против дивана, на котором сидела, прикрыв ноги полосатым пледом, Наталья Львовна, заметил Алексей Иваныч лапчатую, похожую на липовую, ветку иудина дерева, такую четкую и так круто изогнутую, точно совсем ей не в окно и смотреть-то нужно было, а это она просто из любопытства, на один только вечер, из бабьего соглядатайства, а к утру опять отшатнется.
Из соседней комнаты, в которой не было жильцов, теперь доносилось сюда звяканье тарелок и ножей: должно быть, Ундина Карловна готовила там стол для ужина гостям, а через окна снизу сюда входили, как бесконечный бой часов, слабые еще пока удары начинавшегося прибоя.
Слепая играла семь треф и приговаривала, выхаживая козырей:
– А ну, по-дой-дите, дети, – я вам дам кон-фет-ти…
Очень у нее был уверенный вид, – точно это сама судьба играет; но сзади колыхал бровями озабоченный донельзя полковник и подборматывал:
– Гм… гм… вот нам и дают, что нам надо…
Однако это была только его хитрость, а давали то, чего было совсем не надо. Взял он кряду шесть взяток, но все остальные забрал Макухин. И, отдавая несчитанную, полковник огорчился бурно:
– Ах-ха-ха! Вот!.. Вот она где, собачка! – сморщился и зачесал за ухом.
А слепая, пригубив пива, спросила, голоса не повышая:
– Да ты хорошо ли за ними смотрел-то?.. Они, голубчики, может, и плутуют!
Когда смеялся Гречулевич, он показывал все свои зубы наездничьи сразу: великоваты они были несколько, широки и желты; а Макухин смеялся, чуть подымая тяжелые подусники, как-то носом и горлом, не открыто, нет – он тут еще не освоился, видно, и больше наблюдал и слушал, чем показывал себя и говорил. Волосы у него – рыжие, с красниной, лисьи, – острижены были под польку, с небольшим хохлом спереди, отчего голова, при широком затылке, казалась очень упрямой. На один из его массивных перстней с бриллиантовой розеткой загляделся полковник и сказал, улучив время, когда Макухин тасовал колоду:
– …Сходство поразительное!.. Подобный же точь-в-точь перстень купил я у ксендза одного, когда был еще плац-адъютантом в Киеве… По случаю, по случаю… и в рассрочку, конечно, в рассрочку… По сорока рублей в месяц… полгода выплачивал… Вот она помнит… А вам сколько стоит? Ей я купил серьги (у того же ксендза), а себе перстень.
Перстень Макухина оказался дороже вдвое, и полковник торжествующе постучал пальцами по плечу слепой:
– Ты слышишь? Две капли воды – мой, две капли воды, а цена ему уж не та-а-а… Значит, ты мне напрасно тогда голову грызла…
– Я понимаю: перстень у ксендза… но почему же у ксендза серьги? – спросил весело Гречулевич, зачем-то подмигнув Алексею Иванычу.
– Ну уж… так – по случаю! – и поиграл бровью, как кобчик крыльями, полковник.
– Не-ет, ксендзы не носят серег… не-ет, не носят!.. Тут что-то не так!.. – Посмотрел, что дал ему Макухин при сдаче, и огорчился весело: – Сколько уже раз ты мне сдаешь, и все шиперню! Я же тебе тузов всегда даю?
– Характер у меня такой, – отвечал Макухин.
После запитой купчей он стал на ты с Гречулевичем и с Алексеем Иванычем, но теперь Алексей Иваныч старался избегать заговаривать с ним о чем бы то ни было; густой черный бобрик на голове Гречулевича тоже был ему сегодня почему-то неприятен; и еще – ясно было, что все, что он слышит теперь, слышал он уже тысячу раз… Вслушивался, всматривался (а мачты в душе все качались), – и вдруг: не у него ли когда-нибудь в гостях это было: те четверо за столом, а одна, подобрав ноги, на диване?.. И лицо бледное и беспокойное, и сломанную папиросу швыряла в угол… Непременно когда-то, когда-нибудь это было… и так же, как теперь, кто-то за дверью ножами звякал и стучал тарелками… Но это недолго так казалось, а потом не менее ясно стало, что все это чрезвычайно ново и странно и неизвестно зачем. И когда Гречулевич пожаловался ему: «Вот уж десятую сдачу сижу, как испанский король: окончательно карта изменила!» – Алексей Иваныч удивился участливо: «Изменила?.. Неужели?», но ничего не понял ясно. Он уловил только его припухлые веки и подвижную кожу на отброшенном лбу, как у полковника только вспархивающие брови и копьевидный кадык, как у Макухина только твердый взгляд и красный хохол, как у слепой только бельма и под ними, как груди, висящие щеки, – дальше ни в ком из них ничего не схватывал глаз; и чтобы как-нибудь вернуть самому себе прежнего себя, Алексей Иваныч сказал Наталье Львовне:
– Когда я сюда на пароходе ехал, пристала одна девица к матросу: «Какая, говорит, качка: „киливая“ или „келевая“»? То есть, ей-то хотелось узнать, конечно, как пишется, а тот никак не может ее понять. «Разумеется, говорит, барышня, есть килевая, а то есть еще бортовая… А сейчас так даже совсем почти никакой нет…»
Сказал, и неловко стало, что Наталья Львовна смотрит на него, как тогда, в первый раз, – издалека и совсем безразлично…
Даже жутко стало… Хотелось встать и уйти, но, однако, явно было и то, что уйти некуда. Уйти решительно некуда было… куда же уйти?.. К несчастному мальчику Павлику разве, – а зачем? Спуститься в городок и в клуб разве… а там что? Даже ощутительно холодно стало между лопаток, а руки захотелось зажать в колени, – согреть.
Алексей Иваныч придвинулся ближе к Наталье Львовне (он тоже сидел на диване) и спросил тихо:
– Что с вами?
А она ответила так же тихо:
– Я ведь не затягиваюсь… я только дым пускаю…
И переменила вдруг лицо на виновато-детское, даже губы сделала пухлыми. От этого Алексей Иваныч сразу просветлел и поспешно вытащил и протянул ей свой портсигар.
В это время Гречулевич обернулся к нему, весь смеющийся, готовый уже вынуть что-то из своей неистощимой копилки.
– Вот ты, Алексей Иваныч, напомнил мне своей «килевой» девицей… Жил у меня на даче надворный советник, какой-то Козленко… Пишет однажды на открытке своей жене: «Тут, в горах, – пишет, – есть такие страшные пропасти, что можно упасть и сломать какую-нибудь кость…» А если кто догадается, что он еще приписал, – двугривенный дам… Он, – можете быть покойны, что так именно и было, – поставил тут звездочку и приписал: «свою».
Алексей Иваныч как-то ничего сразу не понял, но Макухин твердо поглядел на него и разъяснил:
– Умный человек писал, – сейчас видно! Мало ли какие кости тут в наших пропастях?.. Хотя бы, например, мамонтов скелет!..
– Упадешь и проломишь! – подхватил Гречулевич; слепая же покачала головою:
– Мм… едва ли… едва ли тут ма-мон-ты!.. Тут есть мамонты?
– Где тут! Тут уж все пропасти, небось, обшарили! – успокоил ее полковник. – Ты сиди себе знай.
А Наталья Львовна посмотрела прищурясь на Гречулевича:
– Ах, как хорошо: читает письма своих жильцов!.. Вот и живи у вас на даче…
Гречулевич оправдался тем, что поведения он с детства плохого, и тут же, к случаю, рассказал, что, когда он был еще в третьем классе гимназии, вызвал директор для объяснения его деда по матери, в семье которого он тогда жил, но которого редко видел, знал о нем только, что очень строгий.
– Пришел, – вообразите, – огромный сивый хохол и еще даже в казакине парусиновом… на всех произвел впечатление! Я на всякий случай под скамейку забился… Вытащили, однако, – свои же, предатели!.. – притащили… Кому же не любопытно, как он меня сейчас крошить начнет?.. Меня держат, а старик огромный… нет, вы вообразите: под вершняк окна росту, а усы, как у пары Макухиных, – покивал главою и загробным таким голосом: «Пэтя! Пэтя!.. Ты и нэ вучишься… и нэ ведэшь себэ!..» Впечатление произвел страшное. Думают все: «Раз так начал, что же дальше будет? Значит, Пете нашему каюк!..» Ждут (и я тоже)… Минуту, не меньше, ждали в полнейшем молчании… И вот он опять покивал главою: «Эх, Пэтя, Пэтя!.. И нэ вучишься ты… та ще и нэ ведэшь себэ…» Чуть все не умерли от крайней веселости, а я, конечно, пуще всех… Если б он не так это смешно, – может быть, из меня что-нибудь и вышло – а?.. А то после этого я совсем погиб…
Гречулевич недаром говорил о себе: «Вы меня только копните…» Он и еще рассказал между делом штук пять-шесть разных подобных случаев из своей жизни.
Он весь был бездумный и весь наружу. Алексей Иваныч знал о нем, что теперь дела его очень плохи: весь в долгах. Должно быть, доставляло ему теперь большое удовольствие подшучивать все время над Макухиным, а Макухин только добродушно отмахивался от него, как большой пес.
– Я тебе вполне доверился, я тебя даже на собственной лошади сюда доставил, – ты же меня ремизишь!.. – нападал Гречулевич азартно.
– Привычка у меня такая, – отзывался Макухин, не меняя глаз.
Похоже было даже на то, что это два очень близких старинных друга, но правда была только в том, что один другому был положительно необходим: это узнал Алексей Иваныч несколько позже, а теперь непонятны казались оба.
Очень было неловко и как-то затерянно. А на ветку иудина дерева даже и смотреть опасался Алексей Иваныч. Сплеталось такое: ходят чьи-то не наши, стерегут жизнь… они-то и старят людей… Гляди на них, как хочешь, или совсем не гляди, – им все равно, – хоть ори и ногами топай: они – глухонемые, и они не уйдут – будут слоняться под окнами, под дверями, ждать своего часу… На один момент Алексей Иваныч представил самого себя точь-в-точь вот таким, как старый полковник, а Валю (на один только момент) слепою, как эта старуха (бог ее знает, отчего она ослепла): сидит Валя вот здесь, с такими вот щеками, неопрятная, губы мокры от пива (кощунство почти, но ведь на один только момент)… И Митя тут же… он вырос, стал студентом – давно уж студент, – сидит на диване рядом вот так же, как Наталья Львовна… Ничего больше, только это.
Вот у самого у него порхающие брови, копьевидный кадык и на пальцах глянец, а Валя… толстая, старая, слепая, неопрятная, любит карты, домино, пиво… Митя скучает, злой, нервный, от одного отбился, к другому не пристал, и кто знает, что у него в душе? Может быть, он замышляет самоубийство?
Чтобы оттолкнуться, Алексей Иваныч кашлянул, поднялся и опять сел, и сказал, не совсем уверенно впрочем, обращаясь к Гречулевичу:
– Сейчас на пароходе познакомился с дивизионным врачом одним… сказал мне фамилию, – не то Чечулевич, не то Гречулевич… У тебя нет такого, дяди, что ли, военного врача?
– Давай бог, – сказал, не удивясь, Гречулевич. – Дядя подобный помешать не может.
И по глазам его видно было, что всех своих родичей отлично он знал и что никакого военного врача между ними нет.
Так же и Макухину сказал что-то насчет выигрышных билетов Алексей Иваныч:
– Новый год на носу, Федор Петров. Ох, непременно ты выиграешь двести тысяч!
И Гречулевич подхватил живо:
– Вот и покупай у меня тогда Таш-Бурун!
– На что он мне?.. Зайцев на нем гонять? – отозвался Макухин.
– Что ты – зайцев!.. Ты на нем целебный источник какой-нибудь отроешь – ты такой!.. Или руду какую-нибудь очень доходную!.. Миллионами будешь ворочать! – и пошел под слепую с маленькой бубновки, сказавши: – Не с чего, так с бубен!
А слепая поставила прямо против него свою неподвижную деревянную маску и возразила:
– Господинчик мой! Кто же под вистующего с маленькой ходит?.. да еще и в чужую масть!
И заспорили о каких-то ренонсах, правилах, исключениях, как всегда бывает при игре.
Алексей Иваныч усиленно задвигал ладонями по коленям, что всегда он делал, когда собирался решительно встать и уйти и когда неясно самому ему было, куда идти. Но в последний раз поглядел все-таки на Наталью Львовну. Может быть, это был очень робкий взгляд, и она поняла его.
– Что же нам здесь сидеть? – сказала Наталья Львовна. – Пойдемте-ка в мою комнату, – и поднялась.
«Нам!» – отметил невольно Алексей Иваныч, и сконфуженно несколько оглядел всех, и зачем-то откланялся, извиняясь.
В комнате Натальи Львовны было так: стоял стол под самым окном (ставни были прикрыты), – обыкновенный женский стол, – не письменный, нет, – с небольшим зеркалом, коробками и флаконами, со смешанным запахом духов, с несколькими пухлыми новыми книжками, пачкой узеньких цветных конвертов, раскинутой веером; тут же чернильница в виде лающей моськи, ручка, чрезвычайно неудобная для письма, и печенье… Успел еще заметить Алексей Иваныч на том же столе вышиванье по канве шелками, но Наталья Львовна скомкала работу и забросила за ширмы.
От колпака на лампе, – матерчатого ярко-желтого полушара – все тут было беспокойного оттенка, а ширмы сами по себе были цвета только что опавших от утренника кленовых листьев (когда они лежат рыхлой грудой и ветер их еще не растаскал по дорожкам). К этим тонам был в последнее время очень чувствителен Алексей Иваныч: он даже глаза рукою прикрыл, чтобы к ним теперь привыкнуть.
Сказала Наталья Львовна:
– Так вот… садитесь… Вы куда-то ездили на пароходе?.. Расскажите-ка.
– Какой же он у вас ядовитый! – отозвался Алексей Иваныч о колпаке и потрогал его рукой; потом он посмотрел жмуро, как желтые отсветы ложатся на белесые обои, на чашку и кувшин умывальника, на ее лицо, ставшее здесь несколько кукольным, как фарфор на солнце, и только после этого ответил:
– Ездил?.. Да, я действительно ездил… – Подумал: «Не рассказать ли ей» – и поспешно закончил:
– Это я по делу, конечно, ездил: насчет места… Я ведь теперь без места, а там выходило.
– А-а… выходило…
– Мм-да… выходило…
– Но не вышло?
– Нет, этого нельзя сказать… Я, может быть, еще и соглашусь… Дело осталось неопределенным… То есть оно почти выяснилось, но не совсем… не совсем… – Посмотрел на нее белыми глазами, бегло припоминая прошлую ночь, и еще раз сказал: – Не совсем!
– О-о, вы, кажется, очень нерешительны!.. Вы как-то так, – мелко перебрала руками Наталья Львовна, как будто что-то рассыпала на пол (и с лицом сделала такое же).
– А нужно как же? – удивился Алексей Иваныч.
– А нужно так! – быстро сжала руки, пальцы в пальцы, крепко вытянула их, точно вожжами правила, и с лицом что-то сделала такое же.
– Вот вы как!.. И думаете вы, что так лучше?
Алексей Иваныч быстро поднялся было, но тут же сел.
– Нет, иногда не лучше… Бывают случаи, что не лучше… Никогда не лучше! – так решил это, наконец, уверенно, что даже Наталью Львовну удивил. Нашел на столе перламутровый маленький перочинный ножичек, который можно было повертеть в руках, осмотрел его, открыл лезвие, попробовал пальцем, насколько остро, опять закрыл, постучал тихо о краешек стола и, забывши уже, что говорит не о том, продолжал:
– С близким человеком так нельзя – решительно… Близкий человек – все равно, что ты сам: всегда бывает ровно столько же доводов за, сколько против, и решить очень трудно… – и тут же вспомнил, что не о том говорит, и поправился:
– А если даже с близким нельзя, то с самим собою тем более.
– Но ведь место-то нужно же вам? – улыбнулась Наталья Львовна, и по этой улыбке Алексей Иваныч догадался, что она поняла его, однако почему-то не хотелось, чтобы поняла.
Из-за двери, хоть и не очень резко, все-таки слышно было, как говорил степенно Макухин: «Ну, пики…», а Гречулевич живо подхватывал: «Опять: „ну“?.. При чем же тут „ну“?..»
Желтый шар абажура неприятно действовал на глаза, и эти ширмы беспокойного какого-то цвета, и запах каких-то духов, и то, что у нее были понимающие глаза, участливые человеческие глаза, те самые, о которых он думал, когда шел сюда, – все это странным образом связывалось со вчерашним Ильею и Валей – как будто они тоже были здесь же, – может быть, за ширмами…
Конечно, это была только усталость души, при которой то, чего нет, кажется столь же ярким, а может быть, и ярче даже того, что перед глазами. Это чувствовал теперь и сам Алексей Иваныч.
– Я, – сказал он робко, – кажется, немного болен: должно быть, продуло на палубе, когда спал… верно, верно: мне что-то не совсем ловко.
– Что же вам такое предложить?.. Коньяку выпить подите, – там, у Ундины Карловны.
– А? Нет… зачем же?.. Место, вы сказали – место каждому нужно.
– Да… И мне, конечно… И вот, этот Макухин… Я, знаете ли, скоро уеду отсюда.
– Вот как?
– Да-а… Уеду… Вы думаете, что я очень скверная, потому что актриса? Нет, не очень. Не думайте обо мне так.
– Я думаю?.. Господь с вами! Что вы! – Алексей Иваныч даже потянулся к ней невольно.
– И ведь я уж теперь не актриса… Что вы на меня так смотрите?.. Нет, я не была очень скверной… Я даже и скверной актрисой не была, поверьте.
Алексей Иваныч несколько был удивлен: он хотел говорить с ней о себе (в нем теперь так много было неясного), а она с ним о себе говорила; и она была новая, – он ее такою еще не видал, и совсем забылось, что у нее теперь цирковое тело: гибкое, ловкое и напоказ.
Говорила она не в полный голос – глуховато; глаза блестели как-то нехорошо, точно и ее тоже продуло на палубе, а руки она как сжала палец за палец, так и держала на коленях забывчиво, не разжимая.
– Вас кто-то сейчас обидел? – догадался Алексей Иваныч.
– Ну, вот еще! Как меня теперь обидеть? Меня уже нечем и негде обидеть больше… И мне ведь не тяжело сейчас, – нет… Вы, кажется, думаете, что тяжело? Не-ет, – это у вас такое уже сердце… бабье. Конечно, вы были превосходным мужем и очень любили своего мальчика… Отчего это у вас одно плечо выше, даже когда вы сидите?.. правое… А-а, – это, должно быть, от биллиарда!.. Я как-то пробовала на биллиарде, и у меня, – представьте, – выходило… даже сукна не порвала. Вы ведь играете на биллиарде?
– Нет, нет, это у меня смолоду так… А как ваша рука? – вспомнил Алексей Иваныч.
– Ничего, зажило уж… вот.
Сдвинула рукав, и опять увидал Алексей Иваныч неожиданно полную крепкую руку с ямками на локте.
Она поднесла ее к самому абажуру, чтобы виднее, и по руке разбежались дразнящие желтые рефлексы.
Алексей Иваныч поднялся даже, так это опять взволновало его странно, как и раньше, – у себя на даче. Глядела она на него вбок, а мослачок был весь открыт. Ранки затянулись, – были как две свежих оспинки у Мити.
– У меня все заживает быстро, – и совершенно уж ко всему на свете я привыкла… Это я говорю откровенно: ко всему… Иногда по ночам мне бывает очень страшно: я никогда не думала, что буду жить, как теперь… И вот живу, и мне безразлично ведь!.. Господи, до чего уж все безразлично!..
(Посмотревши в ее глаза теперь, Алексей Иваныч отвел свои и подумал определенно: «Она какая-то странная».)
– А откуда взял этот Макухин свой театр?.. Это вы обо мне разболтали, что я скрываю?.. Да, я скрываю это, потому… Я очень не люблю, когда мне напоминают разное… Никогда мне не говорите об этом… хорошо?.. Ваша жена покойная часто ходила в театр?
– В театре я их первый раз и увидел… вдвоем с Ильей… – бормотнул Алексей Иваныч.
– А-а?.. В театре?.. Ваша жена, помню, – она – так, – и неожиданно Наталья Львовна опять сделала, как тогда у него в комнате; даже руку она быстро поднесла к шее, чтобы расстегнуть крючки, хотя вся длинная шея ее и без того была теперь открыта, как у Вали.
– Да, да… – бормотнул Алексей Иваныч, – да, да…
– Похоже?.. Я не забыла, значит?.. – И вдруг она пригнулась и спросила тихо, заглянув в него снизу: – Ну что же вы, как?.. Стреляли?
– Я?.. Где?.. – удивился Алексей Иваныч.
– А там… куда ездили… Я ведь знаю, куда вы ездили… Значит, нет?.. Даром только здесь упражнялись… Эх, вы!
– Даром, да… зря… Не в кого было. Совершенно даром.
– Вы его не видели? Не встретили, что ли?.. Не застали дома?
– Видел… Не-ет, я его отлично видел, – вот как вас вижу… Нельзя было… Не в кого было стрелять… Все-таки не в кого!.. Застал и видел… Мы говорили.
– Ничего я не поняла… Скажите просто!
– А?.. Просто?
– Если бы вы знали, с какой завистью смотрела я на вас, когда вы готовились! Так это было… театрально!.. Я не смеюсь над вами, не думайте: может быть, для меня только то и естественно, что театрально – почем вы знаете? И папа с вами… так это было живописно… «Представь, – говорит, – инженер-то наш, – кого-то на дуэль вызывает… Но-о стреляет по третьему разряду!..» Вы все-таки вызвали его или нет, того… вашего? Или нет?
– Нет… То есть, что-то такое сказалось, кажется… Нет.
– Бедная же ваша жена… Тихо так все это у нее кончилось… И некому было защитить, и отомстить некому… Знайте, что я на вас с уважением смотрела целых три дня! А у вас так тихо все кончилось… Эх, вы-ы!
– Еще не кончилось… нет!
– Ну-у-ну!.. Что же вы можете еще?.. Вы? Такой?.. Я очень волновалась, когда вы уехали, – это правда. Я думала, что вы уж не приедете больше… А вы как-то благоразумно все обернули… Я не сумела так… да и не хотела… Нет, я не каюсь.
На столе остались от работы два клубка шелковых ниток: ярко-красный и ярко-светло-зеленый (теперь, от абажура, оба почти одного цвета); Наталья Львовна стала подбрасывать их и ловить; у нее это выходило довольно ловко, но Алексей Иваныч даже зажмурился от этого мелькания, так и сидел, потупясь. Он думал в это время, прав ли он? Верно ли он решил за нее вчера?.. Теперь, когда он сидел зажмурясь, очень отчетливо представилось это, как входила Валя к Илье; как будто эта комната была та, и вот она входит в дверь, окрашенную скверно под дуб. И лицо ее тогда, с потемневшими глазами, и сухие губы, и руки – обе вперед, и тяжелая поступь беременной, – это представилось так ярко, что нельзя было не поверить.
– Вы слышали, что я сейчас?.. Нет?.. Вы о чем-то задумались…
Наталья Львовна положила на стол нитки и сказала, глядя от него в сторону и немного вверх:
– Это было, конечно, то, что называется аффектом… на суде… Но меня не судили… Да никто от этого и не пострадал. Одним словом, я сделала однажды то, что вы не решились… Я сделала это, – слышите?.. Я вас не пугаю этим?.. От этого, впрочем, никто не пострадал, – не бойтесь. Я тоже «по третьему разряду»… как и вы. Была разбита только розовая лампадка в номере… (Маленькая странность, – каприз таланта: вчитываться в роль непременно при розовой лампадке… так она и ездила с ним везде)… До полиции дело не дошло, конечно… Сцену я бросила. Приехала к своим, – куда же больше? Вот и все.
Она посмотрела на него вбок и добавила:
– Вы поняли или нет?.. Или вы мне не верите?
Но Алексей Иваныч не расслышал даже ясно, что она сказала.
Точнее, вышло так, что слова ее запали в память, но до сознания не дошли: он их только гораздо позже услышал. Память их отложила куда-то в сторону, как совершенно ненужное теперь.
Память теперь усиленно работала в нем, – вернее, весь он был только память, но в беспорядочном ворохе своего чужому не нашлось достаточно видного места. Показалось, что она некстати говорит о какой-то розовой лампадке, которая разбилась, и тут же розовая лампадка эта связалась в одно с красной гвоздикой вчерашней, и больше Илье, чем ей, он ответил нерешительно:
– Человек человеку – жизнь и человек человеку – смерть… И разграничить это очень трудно… Вот мы сидим теперь с вами двое и – почем вы знаете? – может быть, вы моя смерть или я – ваша.
– Да-а… это, конечно… – Она посмотрела на него внимательно, вся выдвинувшись на свет, и продолжала о своем:
– Теперь он за границей где-то, а где, – я не знаю. Послала ему десяток писем poste-restante[2]: в Рим, в Париж, в Берлин, в Ниццу, в Вену… еще куда-то… Может быть, он получил хоть одно… Он, наверно, получил, хоть одно… Может быть, он мне ответит…
Она помолчала немного, ожидая, что он скажет, и добавила неожиданно резко:
– Вам надоело у меня сидеть?.. Вам хочется туда, к ним? Можете. Или вы действительно больны?
– А? – очнулся Алексей Иваныч. – Нет, мне хорошо у вас… Нет, вы меня не гоните.
Он поднялся, прошелся по комнате (можно было сделать всего четыре шага), забывчиво заглянул за ширмы и только теперь услышал, что она пишет кому-то за границу poste-restante, и спросил:
– Это кому, кому вы пишете за границу?
Она подняла удивленно брови и ответила медленно:
– Ну уж неважно, кому! – и опять начала подбрасывать шелковые мотки, только теперь выходило у нее неудачно, мотки все падали на пол, и Алексей Иваныч подымал их и подносил ей, пока она не забросила их, наконец, за ширмы, к вышиванью, и вдруг сказала:
– Я очень завидую вашей жене!.. Меня никто не любил так, представьте… Почему? А? Почему? Ну почему?.. – и лицо у нее стало длинно, по-детски, досадливое. – Нет, вы не смешны, – не думайте, что вы смешны… Вы даже трогательны немного… А почему, кстати, вы носите такую фуражку казенную? Вы были где-нибудь… как это называется?.. городским архитектором, да?
– Да… Да, бесспорно, – бормотнул Алексей Иваныч.
– Бесспорно?.. Знаете, – бросьте-ка ее: она противная, – и носите шляпу… Право, вам очень пойдет шляпа… серая с прямыми полями… Тем более, – теперь вы без места… Вот галстук ваш – честный художнический бант, только вы его плохо завязали. Дайте-ка, я вам его перевяжу… Боитесь?.. Ах, это, должно быть, ваша покойная жена научила вас так завязывать?
– Нет, я сам… – бормотнул Алексей Иваныч и несмело глядел, как она, сказавши: «Ну, если сам, тогда я, значит, могу», – начала что-то делать над его широкой батистовой лентой.
Очень близко от его глаз шевелились ее руки, и совершенно нечаянно он сравнил их с руками Вали и отметил: у Натальи Львовны они были моложе… (ничего больше, – только это: моложе).
Перевязавши, она поднесла к нему зеркало и сказала:
– Ну вот… теперь гораздо лучше… И когда вы поедете к вашему… как его зовут, кстати?
– Нет, я не хочу его больше видеть… Не хочу совсем! – твердо перебил Алексей Иваныч. – Зачем он мне теперь?.. Не хочу.
– Ка-ак? Не хотите даже? Что это вы?.. (Она улыбнулась.) Не-ет, вас опять потянет, увидите… Вот вы увидите… Уж это я знаю.
– Откуда вы можете знать?.. (Алексею Иванычу стало как-то неловко под ее взглядом, теперь насмешливым.) – Нет, мы обо всем уже все сказали… Почти обо всем… почти все… Вне всякого сомнения, теперь я его представляю ясно… довольно ясно…
– Можно мне еще одну мелочь вспомнить? (Она дотронулась до его локтя.) Видите ли… Когда разбилась лампадка, тут была, оказывается, в номере пестрая кошка (он очень любил кошек), большая пестрая кошка… и вот, кошка эта тогда – хвост дыбом, уши так (она показала, как), мимо меня в дверь, как буря… как молния! Так это меня испугало тогда, – больше всего на свете. Я ее раньше не видела совсем… Откуда она взялась, – неизвестно. Вдруг – бржжж… мимо ног… Как молния!.. Едва привели меня в чувство через два часа…
Она глядела на него, пожалуй, даже с испугом в глазах и ждала, что он скажет теперь, а он думал, что она некстати как-то говорит теперь о пестрой кошке, как раньше о розовой лампадке, и повторил про себя: «Она несколько странная!..»
В то же время почему-то все представлялся выстрел в Илью, о котором он столько думал все последние дни.
Почему-то теперь с кошкой этой и с разбитой розовой лампадкой упорно связывался выстрел; и ощутительнее всего и заметнее всего был для него теперь маленький револьвер, постоянно лежащий у него в боковом кармане. Показалось, что нужно объяснить ей (или кому-то другому), почему это так мирно обошлось у него с Ильей, так «тихо кончилось», как она сказала раньше, и он заговорил, будто про себя:
– Разве я не мог бы?.. Не рассуждая, мог бы… Для себя лично, – конечно, мог бы… и всегда могу… О-о, эта возможность всегда при мне: вот! (Он прижал пальцы к боковому карману.) Если бы ей это нужно было, я бы мог… Однако – однако я ведь этого не почувствовал… а ведь я его долго видел… Нет, это только ничтожество, тупое, сытое ничтожество, и больше ничего! И когда она умирала, она поняла это… наконец поняла.
– Ваша жена полюбила тупое ничтожество? – живо спросила Наталья Львовна.
– И всякий человек также. Всякий непременно влюбляется в причину своей смерти, – верно, верно… и непременно в какое-нибудь ничтожество… Я так начал думать недавно… Верно, верно… В сущности, всякий человек умирает добровольно…
– Даже когда его душат на большой дороге?
– Даже когда душат на большой дороге.
– Даже во время крушения поезда?
– Да, безразлично, когда и как… Даже боится он смерти или не боится, – все равно.
– Не понимаю… А Митя ваш?
– Митю она взяла.
– Ну, хорошо… А если бы она не умерла, ваша жена?
– Она была бы теперь со мною… и только. И Митя тоже.
Из другой комнаты слышно было:
– Ну, вира помалу, – говорил прочно Макухин, должно быть забирая взятки; а Гречулевич подхватывал:
– Ты опять «ну»?.. И нельзя ли тебе выражаться посухопутней?
Вслушиваясь в это и глядя на завитки темных волос Натальи Львовны – от абажура позолотевших, – Алексей Иваныч разъяснил самому себе вслух:
– Когда самоубийством кончают, – думают, что это – акт свободный, а это все та же любовь к ничтожному… Небытие! Даже просто взять в чистой идее: что ж такое небытие? Ведь его совсем не существует на свете… Что же это за понятие? Откуда оно?.. Это не только абстракция, – это обман! Подойдет смерть и прикинется небытием. Бытие небытия – какой абсурд! Нет, этому я не поддамся… нет!
– Не поддавайтесь! – серьезно сказала она очень тихо, закусив волос. От абажура ли или изнутри это шло, она позолотела вся, – и глаза, и щеки прояснели, – улыбаясь, но это была не снисходительная и не со стороны откуда-то улыбка, а близкая, та самая, которая рождает в душе большую доверчивость, и Алексей Иваныч почувствовал, что ей многое можно сказать именно теперь, что слова его не отскочат, а лягут в нее, как в рыхлую землю посев, и, светло глядя на нее, он проговорил:
– Вы теперь очень хороши собой…
– А-а! Вот как?.. – точно удивилась она. – Только теперь?.. Ну и то хорошо.
– Я что-то не то сказал?.. Простите! – встревожился Алексей Иваныч и сделал рукою свой обратно хватающий жест.
– Нет, ничего, – успокоила она, все так же улыбаясь, и вдруг добавила: – А вы знаете, какая тайная мечта у Гречулевича?.. Он мне говорил: попадать в муху из монтекристо на десять шагов!.. «Больше, – говорит, – ни о чем не мечтаю!..»
– Он – веселый, – бормотнул Алексей Иваныч. – Скоро его опишут за долги…
– Что вы?.. А гора его… Таш-Бурун?
– Все, и гору… С него скоро все стащат… – И, заметив крайнее изумление в золотых глазах Натальи Львовны, добавил поспешно: – Впрочем, я ведь этого не знаю толком – мало ли что о ком говорят…
– А Ма-ку-хин? – живо спросила она.
– Макухин – другое дело… Макухин подберет… Макухин все подберет…
Он опять повертел перламутровый ножичек, раскрыл, попробовал пальцем острие и закрыл и совершенно незаметно для себя сунул его в карман.
– Так вы его у меня еще и унесете – ищи вас тогда! – спокойно сказала Наталья Львовна, покосившись на его карман.
– А?.. Кого унесу?.. – И, догадавшись, Алексей Иваныч не рассмеялся весело над своей растерянностью, не сказал: «простите», не сделал даже своего хватающего жеста, – он только опешил, растерялся и покраснел.
– Видите, как я… – бормотнул он, кладя ножичек на стол. – Это Митя… У Мити такой же был – перламутровый тоненький… и тоже английской стали… Карандаши часто ломал, я ему чинил… Ножик у меня находился, а то он часто терял…
Смущенный, он постоял немного, потупясь, и, несмело взглянув на нее, продолжал о Мите:
– Он очень беспокоился, когда терял… Скажет: «как же это я так мог?..» И руками даже так разведет: «Не понимаю!» – точно большой… Придешь с работ, утомленный, конечно, – на диван приляжешь, а тут Митя: глаза веселые, даже, пожалуй, хитрые немного, – да, именно лукавые: «А ты, – говорит, – что же свою обязанность забыл? А?.. Ты что же это не спросил, как я переписал басню?..» И руки назад, а в руках тетрадка… Басня, что ли, такая есть, или сказка: «Орел и ветер»?.. Приносит мне раз – очень, вижу, красиво написано «Орел», даже с хвостиками везде, где можно… очень много хвостиков… «Ветер» кое-как, а уж «Орел» так и парит по тетрадке… «Что же ты его так, Митя, очень уж старательно разрисовал, этого „Орла“?» – «Ну еще бы, – говорит: – „Орел“!» – «Конечно, – догадываюсь, – орел – царь птиц… Все-таки очень старался ты…» – «Да, – он говорит, – напиши-ка его кое-как, невнимательно, еще заклюет!..» – такое воображение детское, живое… Я понял теперь, почему с ним не простилась Валя (моя жена), когда уезжала… Прежде я не понимал этого… Она нарочно с ним не прощалась: она знала, что он бы ее непременно удержал… Вне сомнения… Она просто боялась…
– Ну ничего, что ж. У вас еще может быть другой Митя, – сказала она беспечно.
– Каким образом? – Алексей Иваныч даже испугался. – Лепетюк?.. Нет уж, другого не будет!.. Лепетюк, вы думаете?.. Это ведь не мой, – это его.
Она отшатнулась на спинку стула, чтобы уйти лицом в тень…
– А можно и мне вспомнить одну мелочь? Очень маленькую, – я недолго… Представьте так: едет в вагоне четвертого класса девочка лет восемнадцати – и всех любит – очень еще, очень была наивна, институтка ведь… Одета она, как простая сельская девка: на ногах лапотки, на голове платочек, белый, с желтым горошком. И вот, – напротив баба, при ней трое ребят… и мешки, конечно: без таких вот грязных мешков ни одна баба никуда не поедет, да и нельзя ей без них ехать… Было у ней десять рублей, – красная бумажка: все ее состояние, – билет четвертого класса и десять рублей. Зачем-то эту бумажку из мешка она вытащила… да, конечно, ребятам хлеба купить на станции, – мелкие уже все вышли… а ребята эти, очень много они хлеба ели… Дала эту бумажку подержать старшенькому, а он, – представьте, – ротозей деревенский, в окно ее упустил на ходу поезда… Что тут было! Денег у бабы уж никаких больше нет… и баба ревет, и ребята ревут… и все кругом ахают… Девочка эта наивная, в лапотках, – у нее тоже было только десять рублей, золотой, на кресте в тряпочке был привязан, – отдала бабе этот золотой… и все. Отдала, а сама осталась совсем без копейки… Одна… представьте! Она пожалела, не правда ли?.. А ее… ее… не пожалели!
– Вы что?.. Плачете?.. – удивился Алексей Иваныч.
– Разве?.. Вот еще новости! (Она быстро вытерла слезы со щек.) Действительно ведь!.. Только я не плачу, не делайте скорбного лица… Это просто от того разу осталось, – помните? Ну вот, когда вам очень хотелось, чтобы я заплакала.
Посмотрела на него долго и добавила:
– Расскажите еще что-нибудь о вашей покойной жене… У вас это так хорошо выходит!
– Как «хорошо»?
– Ну, живо, что ли… трогательно… Я сказала, что ей завидую? Нет, – что же хорошего завидовать человеку после его смерти?.. Мне ее очень жаль… Я на нее ничем не похожа?.. Ни капли?
– Нет, конечно… Вы… другая совсем… – Алексей Иваныч дернул плечом, правым, которое было выше левого, оглядел прикрытую дверь и сказал вдруг: – Может быть, уж пойдемте туда, к ним?
– А-а… вот как?.. Соскучились?..
Улыбаясь широким несколько ртом, Наталья Львовна быстро встала, и Алексею Иванычу сделалось очень как-то неловко, когда она сказала тихо:
– Никогда больше не говорите мне о жене своей покойной, – право! Зачем это мне, а?.. Мне это совсем не нужно!..
И сама отворила дверь.
В синеватую от табачного дыма муть этой комнаты Алексей Иваныч вошел с тоскливым желанием сейчас же уйти к себе и уж продвинулся было к полковнику прощаться, когда Наталья Львовна, взявши из рук Гречулевича колоду (он только что приготовился сдавать), бросила ее на диван.
– Будет уж вам! – сказала. – Думаете, очень весело на вас глядеть? Нисколько!.. Очень гнусно!.. Да, гнусно и надоело! Противно!
Бывают лица, которые очень милы, когда приветливо спокойны, красивы, когда улыбаются весело, невыразительны, когда задумчивы, неприятны даже, пожалуй, когда про себя тоскливы, и положительно прекрасны во время злости: тогда они будто длинные голубые хвостатые искры мечут…
Как раз такое лицо было теперь у Натальи Львовны, и Алексей Иваныч видел, что это не только он один отметил, но и другие, кроме слепой, разумеется, которая пока потянулась к своему пиву, сказавши на всякий случай:
– Сдача с правой руки… ход мой. Прошу помнить.
И не успел еще Алексей Иваныч определить как следует, что это с Натальей Львовной, – как она сказала вдруг, обращаясь сразу ко всем трем гостям – и к Гречулевичу, и к Макухину, и к нему:
– Сейчас извольте сказать: зачем это вы сюда притащились? Вы – в карты со старичками моими играть?.. Оч-чень мило и весело! Другого места для этого не нашли?
Алексей Иваныч потупился и, взглянув исподлобья, заметил, как криво улыбнулся Гречулевич, а Макухин густо покраснел вдруг и тяжело засопел, что было у него признаком большого волнения.
– А если это вы ради меня приволоклись, – продолжала между тем Наталья Львовна, – то не угодно ли не канителить!.. Вы что из себя представляете? Женихи все? Холостой народ? Извольте-ка мне предложение делать вслух и публично, а я посмотрю, как это у вас выйдет… И вы, и вы, Алексей Иваныч! Непременно и вы! Нечего подымать руки: вы тоже жених: вдовец – значит, жених! Кто первый предложение сделает, за того и пойду. Н-ну!
У Алексея Иваныча даже не только руки сами собой поднялись для защиты, – он вообще отшатнулся и отступил на шаг, на два: для него не только неожиданно было, – нет, это показалось святотатственно-страшным: у него даже дрожь прошла между лопаток.
Гречулевич сидел, так же криво улыбаясь и загадочными, немного прищуренными глазами глядя на Наталью Львовну в упор.
Старик, видимо, был поражен выходкой дочери чрезвычайно; высоко вспорхнули его брови, выкатились глаза и открылся чернозубый рот… А слепая бесстрастно прислушивалась, отпила два-три глотка пива и снова прислушалась.
– Здорово! – сказал вдруг Макухин, бурно поднявшись с места. – Полагаю я тоже: зачем зря дорогое время терять? Бо-ольшие дела мы с вами вместе делать будем, – верно я говорю!
И, как игрок, охваченный азартом, с загоревшимися и нездешними уже глазами, Макухин отставил упругим движением свой стул и подошел к Наталье Львовне.
– Вот! – сказал он решительно.
– Что «вот»? – безжалостно спросила она. – Это где вы видели, чтобы так предложение кто-нибудь делал?.. «Вот»!..
Макухин покраснел еще больше, оглянулся на Алексея Иваныча, который стоял на прежнем месте, и на Гречулевича, по-прежнему сидевшего за столом, и проговорил глухо:
– Много чего я не знаю… и не привык… и думаю даже, что лишнее… а хуже людей не буду.
– А Таш-Бурун у него купите? – сказала вдруг Наталья Львовна, показав пальцем на Гречулевича.
– Конечно, куплю, – просто ответил Макухин.
Наталья Львовна хлопнула в ладоши и протянула ему руку, сказавши:
– Так как вы, конечно, не знаете, что с этой моей рукой делать, то я вам подскажу…
Но Макухин вдруг крепко поцеловал ее руку, обхватил ее плотно своей широкой лапой и, повернувшись к старику, сказал проникновенно:
– Благословите, папаша!
– Благословите, папаша! – деревенским говорком повторила Наталья Львовна, несколько церемонно и нараспев.
Все еще не понимая, что это происходит перед ним, полковник поднялся и переводил глаза с дочери на Макухина.
– Да благословляй же!.. Долго мы стоять будем! – крикнула Наталья Львовна.
Только теперь старик понял, что это уж не игра, а что-то серьезное, и торжественно и медленно перекрестил обоих, а Наталья Львовна поцеловала Макухина в потный лоб.
Что было потом, Алексей Иваныч не видел, он задом продвинулся к двери и ушел незаметно и бесшумно, унося с собою острое чувство какой-то большой щемящей тоски. Точно подломилась ступенька лестницы, на которой он стоял, и покатился он куда-то вниз, а внизу темно, тесно, скользко… и, может быть, даже бездонно.
Глава тринадцатая
Поздний вечер
Ночь Алексей Иваныч провел плохо: болело сердце, были частые перебои, приходилось мочить в холодной воде платок и класть на грудь.
Все представлялась Наталья Львовна, как она стояла положительно прекрасная в своей неожиданной и странной злости… И в возможность брака ее с Макухиным почему-то не хотелось верить.
И обидным даже это казалось, – вот что было совсем уже странно: обидным казалось, что Наталья Львовна вдруг с Макухиным. Зачем? И какие-такие «большие дела» с нею вместе думает делать Макухин? Набрать труппу, устроить театр и давать Наталье Львовне главные роли? И почему это вырвалось у Натальи Львовны, что он, Алексей Иваныч, «тоже жених»? «Вдовец – значит, жених!..»
На половине Алимовой, разбуженной поздним приходом Алексея Иваныча, слышна была какая-то воркотня: упрекала ли она в чем-нибудь своего невозмутимого Сеид-Мемета или ворчала на беспокойного жильца, но доносились через тонкие, в полкамня, стены рокочущие звуки ее низкого голоса, и это тоже мешало успокоиться наконец и заснуть, хотя и была сильная усталость во всем теле.
Снова и снова вспоминалось, как они говорили с Натальей Львовной в ее комнате, где был этот оранжевый колпак, говорили каждый о своем, но как будто об общем, и если он не пытался понять ее, то она как будто понимала его… Хотела понять. Только с нею и можно было говорить, больше не с кем, и вот теперь она уходит. От себя самой уходит, от того, над чем плакала вчера, – от своего прошлого… от того, от чего никак не может (да и не хочет даже) уйти он. Она за помощью обратилась к ним трем: не поможет ли ей кто-нибудь уйти от самой себя? И вызвался Макухин, и сказал: «Вот!..» И он уведет ее… И от одной только возможности, что Макухин уведет куда-то ее, Алексею Иванычу становилось страшно и нестерпимо больно.
Ясным казалось только одно: надо кончить. Надо было так как-то направить свое тело, чтобы оно докатилось до полного и последнего ответа на все. Свою раздвоенность, косность своего тела, его сопротивляемость летучей и беспокойной мысли – именно теперь, когда болело сердце и нужно, но нельзя было заснуть, ясно почувствовал Алексей Иваныч. Покоя хотело тело, – полной ясности хотела мысль, и тоска его была совсем не по покою, а по ясности, по концу. Где конец – там ясность. Пусть даже это был бы конец самой жизни. Кто объяснит, почему бывают ясны лица у мертвецов? Не потому ли, что только конец проясняет жизнь?
Это была мучительная ночь.
Алексей Иваныч не забылся ни разу. Напротив, он часто вставал с постели и кружил своей летучей походкой по комнате. Лампы он так и не тушил. С яркостью резкой, подавляющей представлялся Илья и даже как будто предлагал ему своим уверенным жирным голосом: «Надо кончить».
А Наталья Львовна все представлялась под руку с Макухиным, и, в то время, как он шел вперед, блестя своим золотым упрямым затылком, она все оборачивалась к нему, Алексею Иванычу, и смотрела на него сочувствующим, призывающим, ободряющим даже, каким-то очень сложным и глубоким взглядом.
– Валя! – вполголоса, но упорно несколько раз призывал Алексей Иваныч, и даже прикручивал лампу до полной почти темноты, и ждал, – но Вали не было.
На другой день, обойдя работы и потолковав с Иваном Гаврилычем, Алексей Иваныч уехал на станцию железной дороги. Ехать было не близко: сорок верст через горы. День стоял сыроватый, сероватый, но до чего же спокойный. А в горах в такие дни все звуки особенно глухи: они в тишину врываются насильно, – тишина их не хочет, – они рвут ее на части, части эти долго колышутся, и их осязает все целиком тело: они – как долгий понятный трепет. Пара – тощая, каурая, похожая на жирафов, – подымалась по липкому шоссе очень медленно, извозчик попался сосредоточенный малый, а может, и сонный: очень шло ко всему здесь кругом то, что у него волосы еще черные, а шея уж седая, и то еще, что он ни разу не обернулся назад.
Верхушки гор были в сизых ровных тучах, и можно было воображать их высоты необычайной, – например, в двести верст, – все равно от этого ничего не менялось. Крепко преющим зимним дубовым листом пахло, размокшими пнями, мокрыми лошадьми… кроме того, в горах зимою есть еще какие-то свои запахи, равнинам незнакомые совсем.
Ехал Алексей Иваныч к Илье, снова к Илье, и уж на этот раз – один. Он совершенно не ощущал теперь почему-то, как это было прежде, что везет Валю. Валя оставалась, как всегда, в нем, только теперь глубже его (это оказалось вполне возможным: и в нем и в то же время глубже его), а на поверхности в нем был теперь только он сам. Он же сам теперь был против обыкновения спокоен и даже с извозчиком не пытался заговорить о разных разностях, – до того был сосредоточенно молчалив. Про себя он очень живо и образно представлял, как он говорит с Ильей и о чем: не о многом, – только о себе самом – и немного: незачем было говорить много. Только вот что странным образом примешивалось сюда к ним двоим: разбитая вдребезги чья-то розовая лампадка и в испуге метнувшаяся мимо кошка с задранным хвостом. Он не понимал, зачем это еще ему – лампадка, кошка, а когда вспоминал вчерашнюю Наталью Львовну, болезненно морщился и поводил головой.
Покормить лошадей остановились на постоялом дворе, в лесу. Тут и еще стояла тройка, только ехала в обратную сторону, к морю, и забыто прислонилась к перилам веранды вся разляпанная высохшей уже белой шоссейной грязью мотоциклетка; на веранде сидел за столиком такой же заляпанный чиновничек в форме, совершенно пьяный: давно уж, должно быть, он здесь застрял. Краснолицый, маленький, топырил кошачьи усики, курил и поминутно закрывал глаза и сколько ни насаживал на зубы папиросу, все вываливалась она у него от дремы на кирпичный пол, а он ее через силу затаптывал ногой и медлительно закуривал новую, которую опять ронял. На Алексея Иваныча глядел он прищуренно и презрительно почему-то, а может быть, он уж на все так глядел. В чистой комнате постоялого, – видно было через открытое окно, – дама с белокурой девочкой и с горничной в синей жакетке пили чай и ели яйца всмятку, – это они, конечно, и ехали на тройке к морю.
В стороне, под деревьями, около ручья с зеленой от тины колодой, торчала телега, а на ней связанный пегий теленок, которого у молодого парня торговал, видимо, сам хозяин постоялого, долговязый, в жилетке и без шапки, желтобровый человек: тыкал в него пальцем и один глаз совсем закрывал, а другой выпячивал кругло, как дуло пистолета, и все повторял:
– Я зря гавкать не буду… Я с тобой гавкать не буду: семь!
Парень, поминутно оправляя свой красный очкур, отмахивался и пятился, а тот его настигал. Так они и вошли на веранду, а потом внутрь.
Белокурая же девочка, очень милая лицом, разглядев в окно теленка, кричала матери:
– Мама, смотри: теленок!.. Какой хороший теленок!.. И знаешь, – его везут, чтобы убить!..
Потом вошел стражник, шинель внакидку, – молодой и глупый по виду парень. Чиновник поглядел на него, сбочив глаза, и закивал пальцем:
– А… Василий! С'да, В'силь!
– И вовсе я не Василь, – я Наум, – сказал стражник серьезно.
– К-как Наум?.. П'чему ж ты не Василий? (Чиновник был искренне удивлен.)
– Василий – это утром был… Поняли?.. Василий уж сменился… А я – Наум.
– П'чему ж ты Наум?.. – Потом спросил: – А ты водку можешь?
– Водку, ее всякий может, – ответил Наум, поглядевши кругом серьезно.
– Ты что б Василь, а?.. На какой черт Наум, а… Правда?
– Да, а то неправда? – ввернул вдруг извозчик с надворья. – Привыкай тут ко всякому: тот Наум, тот Василь! – И даже голову просунул сквозь зеленый плющ веранды, чтобы посмотреть на своего Алексея Иваныча и на чужого чиновника (голову черную на седой шее) – и подмигнуть.
А Наум уж усаживался на придвинутый ногой к пьяному столику табурет, складывал шинель на другой табурет и присматривался к разной на столе посуде и снеди.
Двое музыкантов вышли изнутри, должно быть муж и жена, – он с гитарой, она с мандолиной, он – старый, с опухшими щеками, сутулый и седой, она помоложе и наглая, – вытерли рты, сели около перил и заиграли, – баба так себе, без одушевления, а старик очень старательно, даже ртом шамкал, наклоняясь, точно треньканье свое живьем глотал. Когда он подошел, сутулый, с гитарой своей к Алексею Иванычу просить на струны, жена принялась срезать ножницами мозоль на желтой грязной пятке, очень круто вывернув для этого ногу, и пьяненький, озираясь на нее, шепнул что-то веселое стражнику Науму, отчего пожиравший бараний огузок Наум только мотал, фыркая, головой и откашливался вбок.
Потом опять появились на веранде, спускаясь к телеге, парень в красном очкуре, с лицом нерешительным и даже несколько тоскливым, и неотвязный желтобровый, направляющий на него сбоку свой круглый глаз, похожий на пистолет.
Опять подошли к теленку, замахали руками, и говорил, убеждая, долговязый:
– Что же я тебя, молодого такого человека, обдуривать буду? А?.. Хорошо разве это, а?.. Уж лучше же я самого себя обдурю!.. – И даже теленок что-то такое промычал недоверчиво.
А день кругом продолжался все такой же спокойный, и долго на него, выйдя с террасы, любовался Алексей Иваныч.
Тут лес был отовсюду, но сзади он надвигался на постоялый двор сверху, а спереди, сейчас перед глазами Алексея Иваныча, он падал вниз и подымался только значительно дальше, на горах. Лес ближний был теперь весь слегка рыжеватый, очень теплый на вид, и от туч, недавно проползших и поднявшихся, весь густо влажный, и сизо струился, а дальний, до которого добралось, наконец, через узкую голубую отдушину солнце, так внезапно засиял, что глазам стало больно смотреть.
Было так: впереди теплое, как загорелое тело в поту, – это ближние буки; дальше лес, охваченный солнечным пожаром; выше – камень верхушек горных, расписанный по впадинам чистейшим снегом, и над ним продолговатый, как опрокинутая пирога, прозор совершенно голубого неба, а кругом него талые мягкие облака, готовые подняться… У Алексея Иваныча душа была податливая на краски, а тут они были такой неслыханной первозданной чистоты, силы и кротости!.. Когда же несколько дальше по шоссе вперед прошелся, все оглядываясь по сторонам, Алексей Иваныч, он набрел на шоссейную казарму, которой с постоялого двора за поворотом дороги не было совсем видно. И сам по себе это был довольно щеголеватый домик из кирпича, окрашенного в розовое с белыми разводами, и даже с резьбой на окнах, но вот что поразило Алексея Иваныча чрезвычайно: на парапете крыши сидел большой, необыкновенно пышный павлин; сидел он хвостом к дороге и неподвижно глядел тоже на осиянный дальний лес, на голубой прозор неба, на скалы вверху, запорошенные снегом… Он сам был весь голубой, темно-зеленый, индиговый, лиловый, оранжевый, – самых могучих в природе тонов, – и это здесь, на рыжевато-тельном фоне леса, который тихо струился, и на нежном молочном небе, на котором как раз пришлась одна только коронованная голова его. Непременно о чем-то думал павлин – тоска ли это была, или преклонение, – но Алексею Иванычу нужно было хлопнуть в ладоши и даже вскрикнуть, чтобы он повернул к нему голову, посмотрел очень спокойно, пожалуй даже обидно спокойно, и опять отвернулся созерцать день, леса, горы в снегу.
Мы ведь никогда, в сущности, не знаем, что в нашей жизни важно для нас, что не важно, и как часто мы ошибаемся в этом! Павлин на парапете казармы шоссейной, может быть, был просто красив и только, можно было бы посмотреть на него, подумать: «Ишь ты, кто-то здесь красивую какую птицу завел!» – и пройти мимо; однако Алексей Иваныч чем-то встревожился и, удивленный, смотрел долго и мог бы стоять еще хоть целый час, но, услышав передвигающийся звон бубенцов и топот на постоялом, пошел навстречу своим, как он думал, лошадям; шел и оглядывался поминутно назад, как мальчик, все на парапет с павлином.
Подойдя, увидел, что съезжала это тройка дамы, – его же извозчик только снимал пустые торбы с лошадиных голов, хотя уж тоже готовился ехать.
Стражник Наум, по виду судя, порядочно уже успел напиться и теперь учил чиновника подымать шашку за конец ножен двумя пальцами.
– Вот тебе и… вид'шь?.. Так? – старался поднять чиновник.
А Наум говорил важно:
– Что ж что вижу… это вы, конечно, с мошенством, и то не можете, а надо без мошенства… А я когда на службе (я ведь тоже, разумеется, взводный был, и за стрельбу часы) – я тогда винтовку даже за конец от дула двумя пальчиками подымал, этим и вот этим… А так – это мошенство одно!
– К'к м'шенство?.. Ты гляди рыл'м!.. Вид'шь?
– Ну да, гляжу… Я гляжу, – а ладонью зачем вот этим местом подсобляете? Пальцы, брат, должны свою развитость иметь.
Чиновник воззрился тускло на Алексея Иваныча и прохрипел:
– Ск'жи, за что он меня ун'чтожает?
Бросил шашку на пол и отшвырнул ее ногой.
– Я вам правильное говорю, – убеждал стражник. – А так вы мне свободным манером шашку сломать можете…
– Нет, ты ск'жи: за что он меня ун'чтожает? – обратился чиновник к гитаристу.
Но гитарист что-то жевал так внимательно, вдумчиво и беззубо, что не мог ничего ответить, а той, с мозолями на грязных пятках, что-то не было видно.
Так и остался пьяный у своего столика и опять силился поднять двумя пальчиками Наумову шашку, когда усаживался в фаэтон Алексей Иваныч (а около теленка все еще торчал рыжий с пистолетом в упор).
Потом заструился ближний лес и засиял еще шире дальний, и несколько памятных моментов было, когда ехали мимо шоссейной казармы и павлина. Алексей Иваныч тревожно ждал, не повернет ли к нему хотя бы на звон бубенцов созерцающую голову павлин, – очень этого хотелось; но он не повернул, – да и мало ли проезжает мимо за целый день всяких этих ненужно звякающих бубенцами троек и пар. Все-таки грустно почему-то стало Алексею Иванычу, что не повернул.
Мотнув головой на корявый бук с вырезанным на коре крестом, сказал ямщик:
– Этим месте третьем годе почту ограбили, человека убили, – вот через что там стражники поставлены, на постоялом… Не водку они пить, а должны за этим местом глядеть строго…
Но и это место теперь было только задумчиво и струилось, и все капало с буковых сучьев на палые листья вниз.
А выехав из лесу, сказал ямщик:
– Теперь уж нам без препятствий… – кашлянул, сутуло поставил шею и замолчал до самого города.
Пошли по сторонам перепаханные поля с лиловыми бороздами, огороды с осенней скареженной ботвой и табачные плантации с мокрой желтой густой щетиной, которую не всю еще спалили в печах; две-три маленьких деревушки попалось, одна – с захудалой церковкой, покрашенной охрой, с древним дьячком на зеленой скамеечке и с тремя веселухами-девками, стоявшими у колодца руки в боки… А когда начало вечереть, был уже в городе на станции Алексей Иваныч.
Эта сутолока больших станций, – как она странно влияет на людей, приехавших из тишины! Так много вспыхивает и тут же гаснет разных мелькающих лиц, рук и шей, так много наблюдающих тебя отовсюду чужих глаз, так крикливы и беспокойны дамы, так деловиты мужчины в котелках, так стремительны синие носильщики и арбузоголовые казанские татары из буфета и так пренебрежительно важен бородатый швейцар в дверях, счастливый обладатель картуза с галуном, колокольчика и трубного баса, что несколько теряешься даже и чувствуешь какую-то неловкость, когда не совсем твердо убежден, что тебе необходимо ехать по делу (главное, – «по делу»), непременно с таким-то вот поездом, чтобы приехать в столько-то часов и определенно туда-то, в такое-то именно место – ни на волос дальше, ни на волос ближе.
Бросилось в глаза Алексею Иванычу, что все были тепло одеты, а у него была только бурка поверх обычной его тужурки, – и все вспоминалось, что теперь уж глубокая зима, скоро крещенские морозы, что немного севернее снег, снега, а еще дальше – лютый холод.
Но к Илье нужно было ехать на юго-восток.
Никак нельзя было отделаться от ощущения тихого леса кругом, который струился, облаков мягких и теплых, с голубой отдушиной в них в виде опрокинутой, никуда не стремящейся пироги, старого гитариста, связанного теленка на возу, хорошенькой белокурой девочки с наивными глазами, пьяненького чиновника с его заляпанной мотоциклеткой, который так спокойно застрял на перепутье и отдал себя на уничтожение Науму-стражнику (к чему бы это?)… а главное – павлин: он почему-то прочнее всего вошел в душу, в нем что-то было.
Глава четырнадцатая
Ночь
На вокзале Алексей Иваныч сидел, следя за всеми и всем сразу, как он умел (ведь мысли у него были бегучие).
Это был новенький, только прошлым летом законченный вокзал, и еще разрисованный разными красками наивно блестел плафон, и не очень запылилась недурная лепка вверху, но внизу все уже обвокзалилось: засалилось, обшарпалось, захваталось всюду… Фальшивые пальмы на столах, унылое чучело цапли на шкафу, армяне за буфетом и нумерованные касимовские во фраках, с широкими задами и маленькими бритыми головами… Алексей Иваныч даже подумал отчетливо: «Нет, не хотел бы я вокзала строить…» Он немного прозяб в дороге, и теперь один из касимовских приносил ему чай стакан за стаканом, и Алексей Иваныч, видя на всех теплые пальто, шубы и шапки, вспоминал, что ведь зима теперь, ведь глубокая зима, – что там, куда он ехал теперь, трескучие, может быть, морозы, а на нем всего только бурка. «Приеду – куплю», – думал он, нащупывая кстати деньги: не потерял ли, и соседу своему, старому священнику, или, скорее, дьякону, жевавшему украдкой домашнюю курицу, завернутую в газету, сказал:
– Вот, еду на Волынь, а одет легко.
Дьякон вскинул на него испуганные глаза, перестал жевать и спросил невнятно:
– Как-с?
– Впрочем, теплую одежду везде можно купить, не так ли?
И еще дьякон, – видимо, сельский, с косичкой, красноносый и несмелый, с полным открытым ртом – смотрел на него выжидающе, не решаясь снова начать жевать, как он уже говорил не ему, а сказал самому себе:
– Хотя, вне всякого сомнения, туда можно бы и не ездить: зачем? – И тут же убеждал себя: – Однако непременно надо: больше некуда ехать.
Против него наискосок сидела смуглая семья, оживленно говорившая на каком-то странном языке, должно быть караимы: две бойких девочки с усталой черновекой матерью; потом, подальше расположились шумливые, все хохочущие, в пух разряженные, перепудренные, перекрашенные три девицы, которых угощал шоколадом пожилой путейский инженер.
Еще и другие были, много разных, но все мельком: чернели, белели, зеленели, садились, вставали, уходили… эти засели прочнее других. По общительности своей Алексей Иваныч и к черновекой даме обратился с услугой: подставил ей графин с водой, и та поблагодарила томно. Алексей Иваныч похвалил ее живых девочек, – конечно, вполне искренне похвалил, – и дама была так польщена этим, точно за нею самой признали первую молодость, так тронута, что сразу и навсегда расположилась в его пользу, что бы он ни сделал потом, хотя бы на ее глазах убил человека.
Дьякон, прожевавши курицу и завернувши в бумагу остатки (может быть, он был священник из глухого села), перекрестился и, видя душевность Алексея Иваныча, счел нужным тоже поглядеть на него участливыми глазами и сказать с улыбкой:
– По всему судя, вы с какого-нибудь курорта?
Голос у него оказался тенор, и потому Алексей Иваныч сразу решил, что он священник (у дьяконов все больше басы).
– Батюшка, – ответил он вопросом, – вы в бессмертие души верите?
Он спросил это вполголоса, так, чтобы было интимнее, чтобы не расслышал никто, например дама с девочками.
И так как у батюшки от неожиданности этого вопроса опять стали круглые глаза и рот трубою, то Алексей Иваныч понял, что он ему, если что и ответит, то что-нибудь всем известное, а перепудренные девицы с инженером вдруг в это время залились таким оглушительным хохотом, что не только черновекая дама, но и сам Алексей Иваныч болезненно поморщился.
Инженер был с сильной проседью, желто-пухлолицый, какой-нибудь начальник дистанции, и за то, что он с такими девицами, Алексею Иванычу было его искренне жаль.
– Мама, – спросила одна из девочек, – чего это они все смеются?
– Потому что им весело, – ответила дама, пожав узким плечом, и в поучительных целях показала ей и другой дочери чучело цапли на шкафу с посудой:
– Видите, какой журавль? – Потом спросила Алексея Иваныча, не к жене ли он едет.
Оттого, что пустой вопрос этот больно его задел, Алексей Иваныч ответил, подумав:
– Нет, у меня нет жены!.. Нет, жены нет… Это я к сестре.
– Или к невесте? – опять пусто спросила дама, улыбаясь. – Такой у вас рассеянный вид.
– Вот как? – серьезно удивился Алексей Иваныч. Оглядел свою бурку и добавил: – Это оттого так кажется, что я легко одет, а теперь зима.
В это время кто-то в волчьей шубе, почему-то знакомой походкой, прошел мимо стола к буфету.
Только эту походку отметил взгляд. Почему-то павлин на парапете вспомнился ярко, и, допивая четвертый стакан чаю, думал Алексей Иваныч спросить священника: не дьякон ли он, и даму: не гречанка ли она из Мариуполя, например… Но, еще раз внимательно всмотревшись, Алексей Иваныч увидел, что этот в шубе волчьей, пожалуй, очень похож на Илью, только что этот – бритый, – не на того Илью, которого он видел недавно, а на прежнего, на студента, – Илью, который, уходя от него, поднял воротник шинели, на того, которого он тогда с Валей в театре встретил… И даже бормотнул Алексей Иваныч, изумясь: «Как же так? Неужели он?..» Вот он, подойдя к буфету, что-то выпил, запрокинув назад голову, и медленно стал искать глазами, чем закусить… все повадки Ильи.
Встревожась, насторожась, как охотник, бросив свой чай и дьякона (или священника) и караимок (или гречанок из Мариуполя), Алексей Иваныч все смотрел в спину вошедшему, но когда услышал, что тот сказал что-то (что именно, – не расслышал, а только тембр голоса), сомнений уже не осталось: если не сам Илья, то его двойник или брат (может быть, и есть у него брат), и Алексей Иваныч быстро вскочил и подошел сам к буфету. Он даже испугался несколько, ему даже хотелось ошибиться, – однако это был действительно Илья. И ничуть не пытался он скрыться от Алексея Иваныча, даже глаз не отвел, а, вытирая губы салфеткой, рассмотрел его всего с заметным любопытством.
– Это… вы? – с усилием спросил Алексей Иваныч.
– Я, я… В Харьков… А вы куда? – спросил Илья. – Уж не ко мне ли опять? – и чуть улыбнулся.
От тембра этого голоса, жирного и круглого, Алексею Иванычу стало и тоскливо вдруг и очень тревожно.
– Я? Нет… совсем не к вам… Я тоже в Харьков… – Он смешался было, но добавил уже тверже: – Не в самый Харьков, то есть… А вы, значит, вот как! Правду тогда сказали, что вам надо ехать? Вот как! Я не думал.
– Я большей частью говорю правду, – серьезно сказал Илья.
Он расплатился не спеша и отошел от буфета.
Забыв о своем чае, Алексей Иваныч шел рядом с ним.
У бокового столика, на котором лежали газеты и какой-то сверток, Илья сел, распахнув шубу, и Алексей Иваныч, не совсем овладев еще собою, но уже все случайнее забыв, уселся за тот же столик, точно это было опять в кабинете Ильи, точно тот разговор, который был между ними, даже и не прерывался. Он весь его припомнил сразу, этот путаный разговор, и сразу же показались в нем бреши, неплотные, на живую нитку сметанные места, над которыми нужно было бы еще поработать, кое-что кое с чем связать плотнее. Странно было еще и то, что вся вокзальная суета не только перестала занимать Алексея Иваныча, – она даже существовать для него совсем перестала: было опять только двое их и опять Валя с ним, только прежде Алексей Иваныч себя чувствовал более смелым, а теперь он начал ощущать какое-то превосходство над собой Ильи (может быть, просто оттого это, что на нем была только бурка, а на Илье шуба волчья). Он даже, глядя на Илью, иногда отводил глаза, чтобы себя не выдать.
– Вы к доктору? – спросил Илья густо.
– Я? зачем? Нет, я не болен, – быстро ответил Алексей Иваныч.
– Нет, не лечиться, конечно, а… Вот вы говорили, что у вас санаторий хочет строить какой-то доктор… Крылов, кажется.
– Да, да… я сказал, – припомнил Алексей Иваныч, – это я пошутил.
– По-шу-ти-ли?.. Ишь вы как!.. Хотя почему бы вам и не полечиться? – лениво сказал Илья.
– Чем же я болен? – удивился Алексей Иваныч.
– Всякий из нас чем-нибудь болен.
– Нет, я не болен.
– Однако поговорить с доктором никогда не мешает. – Илья поправил пенсне, потом снял его, протер, надел снова, потом медленно достал портсигар, тяжелый, серебряный, с золотой монограммой, открыл и протянул Алексею Иванычу, и тот взял было папиросу, но тут же положил ее обратно, сказавши:
– Нет, у меня свои… Я только свои курю, простите…
Странно было ему видеть теперешнего Илью, так похожего на прежнего, год тому назад. Теперешний, гладко выбритый, выпуклощекий, он был тот самый, которого он носил в себе долго вместе с Валей, тот самый, с которым объяснялся он мысленно тысячу раз, тот самый, который заставлял его и в одиночестве даже вскакивать вдруг и сжимать кулаки, тот самый, ради которого он приехал, наконец, на юг, к морю.
Вот этот самый настоящий, неподдельный Илья теперь против него… В людном месте? Нет, вот именно наедине, – все равно что наедине. То свидание с ним у него дома – его можно и не считать: это – начерно, это как будто и не с ним было, а первое, желанное, жданное, – оно вот теперь. К этому Илье он ведь не ехал даже, о встрече с ним теперь даже не думал… Этот Илья был как будто подсунут ему кем-то (Валей?); он был как будто подарок ему чей-то (чей же, если не Вали?), и у Алексея Иваныча все замерло в душе, притаилось, стало таинством.
– Да, вот именно… Теперь вы такой, как надо… Как тогда, – бормотал почти про себя Алексей Иваныч, вглядываясь в его бритую темную губу и большой подбородок. – Почему это вы теперь стали, как прежде? Изменили себя так?
– Так измениться можете и вы… за двугривенный, – вяло сказал Илья.
– Как актер… Впрочем, знаете ли, вы, – очень странно, – на какого-то иностранца теперь похожи… немного, конечно… Вы не были за границей?
Илья подумал несколько и ответил:
– Был. Я недавно оттуда.
– Ну вот видите! – точно обрадовался Алексей Иваныч и продолжал оживленно: – А сейчас в Харьков вы зачем?
– Э-э, это уж мое дело, конечно… Вы согласны? – Илья чуть усмехнулся мясистыми бровями.
Правда, это было его дело, но Алексею Иванычу стало вдруг не только неловко за себя, за ненужный вопрос, но и на Илью досадно: этой усмешечки его он совершенно не мог вынести спокойно. И сразу заволновался.
– Да, конечно… Я не то хотел спросить… Я, видите ли, хотел только узнать…
В это время подошел к нему татарин получить за чай.
– А? Чай?.. Да, я там пил чай рядом с дьячком… Четыре стакана? Вот я сколько! И не заметил… На! – И сунул ему серебряный рубль. – Холодно было ехать несколько, – вот я почему, а то я не особенно люблю чай, – сказал он Илье, часто мигая: что-то мешало видеть его отчетливо, выпукло, так, как хотелось видеть. Точно он все время уплывал, старался уплыть от него, прятался за клубы табачного дыма.
– Вы с каким поездом едете? – спросил Илья.
– Я? В девять, с ускоренным… Кажется, он в девять идет.
– Дядя, – вдруг подняв голову, сказал Илья: – Не поехать ли нам в одиннадцать, с бисом?
Алексей Иваныч обернулся и увидел подошедшего сзади дядю Ильи, того самого, с чудным именем, с серебряными кудрями из-под меховой шапки и уже с заранее прочно вдетой в широкое красное лицо искристо-веселой улыбкой.
– Ба-ба-ба! Кого я вижу! – раскатисто на весь вокзал обрадовался дядя и протянул ему обе руки в рукавах огромной шубы. – Алексей… Алексей Иваныч? Так? Не напутал лишнего?
Алексей Иваныч поднялся было уйти, до того неожиданным для него был приход Асклепиодота. Он даже растерялся от этой внезапности, – это совсем лишнее было теперь, этот шумоватый дядя. Но дядя и его усадил, взявши за плечи, и сам повалился мешком рядом на стул.
– Гонял-гонял по городу и… до чего устал, до чего упрел. Нет уж, стар я стал дела делать!.. Скоро уж, скоро мне отдерут подковки… А вы здесь по строительной части все? Ах, Алексей Иваныч, Алексей Иваныч! Очень вы хороший человек, а…
– Нам не поехать ли в одиннадцать, с бисом? – перебил его снова Илья.
– А зачем это с бисом, хотел бы я очень знать? Чем с бисом, так лучше с бисовым батькой, а? – толкнул Алексея Иваныча Асклепиодот, подмигнул и похохотал немного.
Илья подождал, когда он кончит, отряхнул папироску и сказал:
– Да видишь ли… Коломийцев… Ведь нужно бы с ним поговорить, а у меня как-то из головы вон… Заеду-ка я к нему сейчас, а?
Илья решительно встал было, но дядя ткнул его в грудь и усадил опять.
– Ах, эти мне щеглы, молодые, шестиперые!.. Да ведь был, был я у него, сейчас был! Все решительно разобрал до косточек!
– Гм… был? Когда же это? Какой ты скорый!.. Ты бы закусил, что ли… Пойдем к буфету.
– Закусывал… Грабиловка! Сплошной грабеж везде, недоволен я!.. Да-с, Алексей Иваныч, дорогой, опять мы с вами встретились, очень кстати.
Алексей Иваныч придумывал уже мучительно, как бы ему так естественно объяснить, зачем он здесь и что намерен делать, как вдруг Асклепиодот поднялся шумно:
– Ах, вот тут я одного хорошего очень, замечательного человека вижу!.. Я сию минуту!.. – и, задевая за стулья полами шубы, ринулся к какому-то лопоухому восточному человеку с башлыком на шее, который горячо глядел на него из дверей, не входя в зал.
– Вот как! – насилу опомнившись, сказал Алексей Иваныч. – Вы и тут с дядей?
– Да-а… была у нас тут остановка, – заезд, вернее, по делам… – И Илья скучно постучал мундштуком по столу.
– Де-ло-вой народ! – протянул без всякой насмешки Алексей Иваныч. В первый раз чужая (именно Ильи) деловитость его изумила как-то. Правда, он и сам теперь делал что-то, проводил шоссе, вычислял, наблюдал, хлопотал, даже поругивал рабочих, но все это как-то по старой привычке, без всякого умысла.
– Итак, – сказал вдруг Илья шутливо: – Значит, судьба нам ехать с вами в одном поезде… Или вы, может быть, поедете с бисом?
– Судьба, да! – живо подхватил Алексей Иваныч. – Я с бисом? Зачем? Нет, я в девять… Судьба, совершенно верно… Конечно, судьба!
– В судьбу вы верите, значит?.. Та-ак… Говорят, от судьбы не уйдешь… Только в какой бы вагон вы ни сели, я сяду в другой, так и знайте.
– Вот как? Это зачем же?
– Куда вы, собственно, едете? Конечный пункт?
– Еду? Разве я не сказал вам? На Волынь… Вашего сынка посмотреть.
– Ага… кланяйтесь ему.
– Детей целуют!.. Вы еще неопытный отец… Детям не кланяются, их целуют…
– Ну, поцелуйте…
– А почему же вы не хотите в одном вагоне? Ведь это мы случайно встретились, – не к вам я ведь ехал… Не хотите?
– Совершенно не хочу.
– Да почему же?
– А чтобы не было скучно.
– Вы уж второй раз говорите то же самое… В ресторане вы то же самое сказали.
– Неужели?.. И в третий раз могу сказать то же. – Илья уж не улыбался, говоря это: у него стал упорный и тяжелый взгляд, явно ненавидящий и презрительный в то же время.
– Для вас, значит, это только скука?.. Но Валя все-таки хотела, чтобы я именно сегодня и здесь вас встретил… Для нее, значит, это не скука, как и для меня.
– Вот что: вы полечитесь, это я вам серьезно говорю!
– От чего?
– Да уж доктор, он знает… Я вам посоветую одного, есть в Харькове, на Сабуровой даче: очень внимательный.
– А-а, вы уж меня вон куда хотите! Надоел я вам?
– Очень.
– Чрезвычайно? Не правда ли? А вы мне?
– Послушай, любезный, дай мне бутылку пива, – обратился Илья к случайно подвернувшемуся татарину с верблюжьей губой, и, помолчав, спросил Алексея Иваныча:
– Револьвер ваш знаменитый, конечно, и сейчас с вами? Какой он системы, кстати?
– Со мной. Парабеллюм, – отчетливо ответил Алексей Иваныч, отчетливо и тихо, тише, чем он говорил обыкновенно. Между тем именно с этого момента он почувствовал себя как бы в припадке, в том странном состоянии, когда ясность сознания вполне уступает место ясности чувств. Все резко вдруг, как плетью из проволоки, начало хлестать его по нервам: и хохочущие вдали пусто, глупо и похабно девицы, и верблюжья губа седого татарина, и грязные фартуки носильщиков, и армяне за буфетом, и проходившие мимо двое военных с усиленно-вертозадой дамой, и дьякон, тот самый, с косичкой, и расписной ненужно плафон, и пальмы, и цапля, недавно названная журавлем, – все он воспринимал в виде резких, противных, наглых пятен, и все углы кругом казались точно штыки.
Но Илья, Илья! Он как будто и сам растворился во всем и в себя все вобрал кругом. Ощутительно почувствовал Алексей Иваныч, что Илья навалился на него, и это потому так трудно дышать, что он под ним, под этой шубой волчьей, под бритым, ни в чем не сомневающимся подбородком: притиснут, и нет выхода.
– И такого любила Валя! – медленно проговорил Алексей Иваныч про себя, в то время как Илья пил холодное пиво.
Он выпил стакан, налил другой и выпил сразу и сказал, играя голосом, как актер:
– Любили меня всего три Вали (за что, – это у них спросите). Одна – Валентина Андреевна, другая – Валентина Петровна, а третья… отчество вы лучше помните, а я что-то забыл… Николаевна?.. Семеновна?.. Совершенно забыл.
– Как «забыл»? – больше одними губами, чем голосом, спросил Алексей Иваныч и к ужасу своему почувствовал, что и он сразу не может припомнить отчество Вали, вымело как-то из памяти, запало куда-то, в темный угол, как буква набора, и несколько моментов шарил в памяти он сам, пока не поставил на место: Михайловна, – Валентина Михайловна. Тут же и отец ее возник, как живой, – Михаил Порфирьич, инспектор народных училищ, ясный, слабый здоровьем старичок… И почему-то тут же представился сегодняшний пьяненький чиновничек с мотоциклеткой, спрашивающий скорбно: «За что он меня уничтожает?»
Была как будто у Ильи затаенная мысль уничтожающе глядеть на Алексея Иваныча. Может быть, Илья просто думал, что он уйдет от него оскорбленный, как ушел и тогда из ресторана? По крайней мере, так казалось уже гораздо позже Алексею Иванычу. Но теперь он ощущал Илью, как силу давящую, идущую прямо на него, напролом, нагло хохочущую, как те три раскрашенные проститутки с инженером.
Он слышал и то, чего не говорил Илья, но мог бы сказать непременно и сказал бы, если бы не здесь, а где-нибудь в другом месте, хотя бы через час, в вагоне в отдельном купе, например.
– Как «забыл»? – повторил Алексей Иваныч погромче. В это время сзади него раскатисто, по-хозяйски говорил кому-то Асклепиодот: «Лишь бы, батенька, с рук свалить, а с ног и собаки сволокут!» – но Алексей Иваныч не обернулся; потом голос дяди раздался где-то дальше. Поезд в это время, товарный, прогромыхал за окнами. Караимка с девочками прошла мимо посмотреть, не пассажирский ли, и одна из девочек поглядела на Алексея Иваныча в упор, потом от дверей еще раз поглядела. Другие проходили, – черные, белые, красные – все это, как в снежной метели, мельком.
– Михайловна! – сам не зная зачем, проговорил Алексей Иваныч.
– Михайловна? – переспросил Илья и, выпив еще стакан пива, осевшего белой полоской на его темной губе, пересчитал снова: – Валентина Андреевна, Валентина Петровна, Валентина Михайловна… три Вали, Андреевна была шатенка, Петровна – брюнетка, из Батума, а третья Валя…
– Как? – немея от смертельной тоски и втянув голову в плечи, шепнул Алексей Иваныч. Тут сверкнуло в памяти: «тихо у нее все кончилось: и отомстить некому было», – так Наталья Львовна сказала.
– Третья уж не помню, какая… Она блондинка была или шатенка? Это я уж честно и добросовестно забыл…
Илья играл жирным голосом, как актер, стараясь сделать особенно выразительным каждое слово, и глядел выразительно: это был явно насмешливый, вызывающий и вот именно уничтожающий взгляд.
И перед глазами Алексея Иваныча все запрыгало и смешалось, и враз заколотилось сердце.
– Забыл? А, забыл?.. Так я тебе напомню, подлец! – Алексей Иваныч кричал это визгливо, совершенно не замечая того, что кричит. Так как Илья поднялся и схватил бутылку за горлышко, то бессознательно поднялся и он и бессознательным, обратившимся уже в привычку жестом выхватил револьвер.
Он выстрелил три раза, но ему показалось, что он только нажал курок, выстрелов же он не слышал, и только когда покачнулся Илья и сел, прижав к груди левую руку, когда взметнулся около него дядя и тут же восточный человек, и какой-то военный, и дама с девочками, и носильщик с очень яркою бляхой, и проститутки с инженером, и еще какие-то, и громко заговорили кругом, – он понял, что случилось с ним что-то страшное, и он тоже опустился на скамью, потому что подкосились ноги.
Он обмяк весь. Сердце билось часто и вздрагивало от перебоев, голова тоже вздрагивала, и револьвер он не выпустил, а зажал его так закостенело, точно и себя он тоже ранил; и хотелось ему закрыть глаза и опять заснуть, чтобы сон этот, страшный сон развидеть: удивительно было то, что ни за что не хотел верить рассудок, что все вот теперь на вокзале явь.
А кругом между тем было так же, как всегда при несчастьях: бестолково, крикливо, один другого точно нарочно не понимал… Больше всех кричал, конечно, дядя Асклепиодот:
– Я этого знаю, убийцу!.. Он в гостях у нас был! Алексей Иваныч, будь он трижды, анафема, проклят! Я его, как доброго, принимал!
Шапка съехала ему наперед, и из-под шерсти какого-то зверя глаза старика по-лесному блестели, и весь он был – красный зверь. Та самая девочка-караимка, которую Алексей Иваныч и прежде заметил вскользь, которую раньше он похвалил матери за живость, очутилась теперь ближе всех к нему и испуганно смотрела не на Илью, а на него в упор… Другая такая же девочка, сегодняшняя, мелькнула в памяти зачем-то, и то, как она говорила о теленке: «Знаешь, мама, это его везут, чтобы убить».
– Нет, это я совсем не то… этого не надо было, – бормотнул беззвучно Алексей Иваныч, умоляюще глядя на девочку-караимку. Он приходил в себя постепенно, тем более что его оставили, возясь с Ильей, только кто-то уверенно взял у него револьвер, грубо сдавив руку в запястье. Он все сидел, не имея сил подняться. Сердце колотилось, отдаваясь в голове громом, и грудь стало больно слева. Главное, – все люди кругом стали вдруг чужими людьми, чего раньше никогда не было.
Дьякон помогал укладывать Илью на скамейке и, должно быть, советовал что-то особенно дельное, потому что с ним соглашался Асклепиодот.
Когда подошли начальник станции, дежурный по станции и два жандарма, то Илья лежал уже на спине, в расстегнутой белой рубахе. Тут же кто-то подтащил только что вошедшего и еще не поставившего портпледа маленького, с детским лицом, военного врача, и тот, сморкаясь, говорил:
– Только я, к сожалению, не хирург, господа! Нет ли здесь, – поищите, – хирурга? – и видно было, что у него сильный насморк.
– Ах, боже мой! – всплескивала руками дама-караимка. – Он сидел рядом со мною вот только сейчас, только сию минуту!.. Такой воспитанный!
Алексей Иваныч только по голосу различил ее, а глаз поднять на нее не мог. Была острая жуть, неловкость перед всеми этими вдруг появившимися отовсюду людьми, так что все они стали чрезвычайно заметны, огромны, гиганты какие-то, а он – мал; главное же – была неуверенность, неизвестность: точно провалился, идя по той дороге, которую знал и на которой провалиться никак было нельзя.
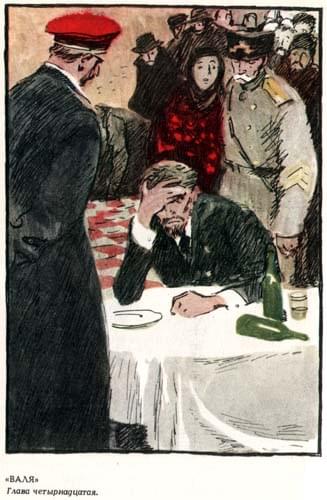
«Валя!» – усиленно призывал Алексей Иваныч. Он закрывал глаза, чтобы представить ее ярко, ярче всего того, что было сейчас перед глазами. Ведь это все во имя ее: может быть, она и сюда придет, как тогда в церковь, когда потушила свечу? Но открывал ли глаза, закрывал ли, – точно засыпало Валю обломками, обрывками, кусками того, что было кругом: жандармские желто-серые рукава с шевронами, красная фуражка начальника станции, шинель военного врача, клок бороды Асклепиодота, ноги Ильи в глубоких калошах… а Вали не было. Ясно стало видно почему-то горное небо, резьба приснеженной верхушки и павлин на парапете…
«Может быть, павлин этот был Валя?..» От покинутости, от полной законченности всего, чем он жил до этого часа, от жути почти младенческой, когда все уходят и никого нет над колыбелью, Алексей Иваныч заплакал наконец: качал головою и тихо плакал. А так как сердце все билось с перебоями и дрожью и больно было в груди слева, то он поднялся, оглядел с высоты своего роста всех сквозь слезы и пошел было в ту сторону, где увидел караимку с девочками, но жандармский вахмистр, высокий красивый старик с золотой медалью на шее, слегка дотронувшись до его руки, сказал строго:
– Куда вы?
– А?.. Я пройдусь.
– Нет, нельзя… Вы уж сидите, пожалуйста!
– Я не могу… Я с ума сойду, – пробормотал Алексей Иваныч.
– Ваша фамилия? – спросил вахмистр, вынимая записную книжечку в клеенке. – А может быть, с вами и паспорт?
Илья стонал негромко, видимо сдерживаясь. Сознания он не потерял: показались на один момент в просвете между загораживающими людьми открытые глаза.
– Я его опасно? – спросил Алексей Иваныч жандарма.
– Это уж доктор знает, – строго сказал жандарм.
– Только бы не опасно… только бы не смертельно… Ах, не нужно было этого совсем! – бормотал Алексей Иваныч.
Вахмистр посмотрел на него, прочитал первый листок его паспорта и спросил:
– Куда вы хотели пройтись?.. Вы ведь теперь арестованы.
– А?.. Вот как!.. Зачем это?
– Человек не муха, – сказал вахмистр, вписывая его в свою книжку.
– Да, конечно… Ничего, я сяду. Я ослабел очень.
И другой жандарм, рыжий, с густыми усами, просил толпу разойтись, а толпа говорила ему, что разойтись некуда, что это не улица, а вокзал, что скоро должен был прийти поезд, поэтому везде теснота, и дежурный по станции громко говорил кому-то, что карету скорой помощи он уже вызвал по телефону, когда случилось что-то неожиданное для Алексея Иваныча.
Какая-то знакомая на лицо молодая дама в котиковой шапочке, очутившись близко от скамьи, на которой лежал раненый, долго всматривалась в него и вдруг спросила громко:
– Боже мой, кто это?
Должно быть, ей никто не ответил, потому что она опять спросила дьякона:
– Батюшка, кто – это? – но батюшка не знал.
Тогда она протиснулась к изголовью (под головой Ильи была уже белая, справа окровавленная подушка) и вдруг вскрикнула истерически: – Илья! – и по голосу ее Алексей Иваныч вспомнил, что это Наталья Львовна. Тут же вспомнил он, что она здесь должна быть с Макухиным, и, поискав глазами, нашел Макухина.
О том, что Наталья Львовна могла тоже знать Илью, он не подумал даже: тут ничего странного не было для него на первый взгляд, но вот что он отметил, вот что его изумило чрезвычайно: он ждал, что теперь придет Валя, но пришла совсем другая, – Наталья Львовна.
То острое расстройство, которым заболел Алексей Иваныч, началось, конечно, несколько раньше, но окончательно постигло его оно вот именно в этот момент, когда другая, близко знакомая женщина вскрикнула истерически «Илья», так же, как, очевидно, вскрикнула бы и Валя. Эта тоска влилась в Алексея Иваныча, как Валина тоска, и захлестнула его. И то, что он видел и слышал теперь, было как-то на краю сознания, едва доходило и тут же выпадало, и связать одно с другим даже не пыталась мысль.
Макухин стоял с видом большой растерянности: он пытался удержать Наталью Львовну, но та вырвалась почти силой. Убедившись уже в том, что этот раненый – ее Илья, она теперь добивалась узнать, кто его ранил. Алексей Иваныч видел, как слабо и криво улыбнулся узнавший ее Илья, точно хотел сказать: «А-а! И вы здесь!..», услышал свое имя, с ненавистью произнесенное Асклепиодотом, и увидел, как, изумленно повторив: «Алексей Иваныч!» – упала Наталья Львовна, заломив руки, а Макухин, весь красный, сопящий, поднял ее с пола и понес в дамскую уборную, поминутно бросая в толпу:
– Пропустите, пожалуйста!.. – Следом за ним почему-то пошел туда же и рыжий жандарм.
Потом пришел поезд, публика с вокзала ринулась к вагонам, на вокзале стало совсем просторно; в дверях военный врач с детским личиком отбивался от наседавшего на него Асклепиодота и кричал визгливо:
– Поймите же: его надо в больницу! Там хирург!..
Илья лежал лицом к спинке дивана. Жандармский вахмистр отошел было к дверям вокзала, но тут же вернулся вновь.
– Меня теперь – в тюрьму? – рассеянно спросил его Алексей Иваныч.
– Это – дело полиции, – ответил жандарм. – Мы должны передать вас полиции… Пройдите пока в жандармскую комнату: дознание напишем.
В это время продвинулся вперед загораживавший окна поезд, и косые пыльные лучи ворвались.
– Что это? Солнце садится? – рассеянно спросил Алексей Иваныч.
Старик в жандармской шинели покосился на него и промолчал.
В жандармскую комнату за ним, где, кроме желтого стола с чернильницей и ручкой и двух желтых же табуретов, ничего не было, Алексей Иваныч вошел с большой готовностью, но там, осмотревшись и видя пустоту, по старой привычке своей начал усердно шагать из угла в угол. Вахмистр по-стариковски понимающе поглядел на него, убедился, должно быть, что бежать никуда он не хочет, и начал писать протокол о том, что на таком-то вокзале, такого-то числа, месяца и года и во столько-то часов дня один человек, – такой-то, – был ранен другим, – таким-то – вследствие ссоры.
Но еще не успел вахмистр дописать своих последних казенных слов, как рыжий жандарм ввел оправившуюся Наталью Львовну и Макухина.
Алексей Иваныч перестал шагать. Из толпы, чужой и холодной, выделились эти двое, как свои, но в то же время неясно как-то пробежало в сознании, что женщина эта, в сбившейся шапочке и со следами недавних слез на бледном лице, почему-то смертельно оскорблена им, и потому в ее большие темные нестерпимо тоскливые глаза Алексей Иваныч, остановясь, глядел умоляющими глазами.
Глава пятнадцатая
Человек человеку…
Когда душа притихает, не кажется ли тогда излишне шумным решительно все на свете?
Душа слушает тогда только себя одну: свое прошлое, свои искания, свои тайны, и иногда так болезненно трудно бывает внезапно оторваться от всего этого, самого скрытого, самого дорогого, – и идти куда-то вместе со всеми – жить. Разве это усталость души? Нет, это просто душа у себя, в своей собственной келье, дома. В сутолоке жизни так редко бывает это с нашей душой, а как это нужно!..
Это – не одиночество, это только свидание с самим собою, радостное и милое, – ну, просто куда-то сбежал от себя самого, долго скитался и вот вернулся.
И что бы ни говорили слишком краснощекие, а хорошо это: закрыть ставни наглухо днем, занавесить окна черным, зажечь свечу, скромную, как ребячий глазок, – сидеть перед нею, прижавши руки к вискам, и думать.
Может быть, то, что промелькнет в это время или на чем остановишься с любовью, никому и не нужно, – но ведь это было бы неслыханным чудом, если бы до скрытых тайников в твою душу проникла чужая душа! Именно то, что никому другому не нужно, нужнее всего тебе.
И у кого тиха и глубока своя келья, и у кого длинна и ярка свеча, и у кого есть над чем задуматься надолго, – просто, самозабвенно, без слез и без гнева, – хорошо тому, потому что с ним весь мир…
– Алексей Иваныч! – с усилием сказала Наталья Львовна. – Что вы сделали!..
– Простите! – привычно для себя сказал Алексей Иваныч.
– Но его уже нет на вокзале, вы знаете? Где же он? Где же Илья? Где?
У Натальи Львовны вновь навернулись крупные слезы.
– Это вы насчет раненого? – осведомился вахмистр. – Значит, карета скорой помощи пришла. Железнодорожная больница есть у нас тоже, но уж лучше в настоящую, в земскую.
– Лучше? – отозвался Алексей Иваныч.
– Разумеется… Там приспособления все, а у нас что? – чики-брики.
Рыжий жандарм, подойдя к вахмистру, стал что-то говорить ему шепотом, и скоро вахмистр важно обратился к Макухину:
– Ваша фамилия?.. И что вы можете показать по этому делу?..
И пока Макухин, сперва запинаясь и останавливаясь часто, потом более уверенно и плавно начал рассказывать, откуда прибыл он сюда с невестой в автомобиле (за покупками ввиду близкой свадьбы) и почему приехал именно на вокзал, а не остановился в городе, в гостинице (было дело по отправке камня) – и потом дальше об Алексее Иваныче, которого он и раньше считал несколько ненормальным (так и сказал веско и убежденно: «считал несколько ненормальным»), – пока говорил он все это, а вахмистр записывал, – Наталья Львовна все смотрела на Алексея Иваныча жутким своим упорным взглядом, который знал за нею Алексей Иваныч и раньше.
Этого взгляда и раньше как-то боялся Алексей Иваныч, а теперь он намеренно отводил глаза, блуждая ими по широкой склоненной спине вахмистра, по желтым табуретам и вытертому, давно не крашенному полу… Но когда он, также потупясь, взглянул на муфту Натальи Львовны, сверху – какого-то темного меха, а изнутри подбитую белым ангорским кроликом, он вспомнил вдруг пеструю кошку, опрометью бросившуюся куда-то, – бржж, с задранным кверху хвостом, и почему-то тут же розовую лампадку, вдребезги разбитую пулей…
И впервые дошло до сознания, что стреляла в кого-то Наталья Львовна, в какого-то артиста, который («каприз таланта») любил вчитываться в роль при розовой лампадке и был, должно быть, товарищем Натальи Львовны по труппе…
И еще не успела улечься в голове эта мысль, как почему-то вспомнилось, что Илья недавно был (он сам это сказал) за границей и теперь, как и раньше, брился, как актер…
И вдруг, как пораженный, вполголоса, но с широко открытыми глазами, спросил он Наталью Львовну:
– Это о нем, о нем вы мне тогда… вчера? Лампадка розовая, и кошка… это он?
– Он! – чуть шевельнула губами Наталья Львовна.
Алексей Иваныч прошептал было:
– Как же так? Когда же?.. – но потом, сделав рукою свой обратно хватающий жест, сказал: – Простите! – и ничего не добавил больше.
Когда Макухин сказал, наконец, что больше по настоящему делу он ничего показать не может, вахмистр (а рыжий жандарм ушел еще раньше дежурить на вокзале) подозвал к своему столу Наталью Львовну, и та подошла и села на табурет.
На вопросы вахмистра она отвечала, осторожно выбирая слова, – что знает и того, кто ранен (когда-то вместе играли на сцене), и того, кто ранил (случайные соседи по дачам), но почему именно стрелял один в другого и умышленно это было или нет, – не знает.
Алексей Иваныч слушал и думал даже, что вахмистр неправильно делает допрос и знает это, так же, как Наталья Львовна знала, почему он стрелял в Илью, и скрыла это, – что над его личным, таким огненным, палящим и режущим, уже начинает клубиться холодное, чужое, как сырой туман: чужому до чужого какое дело?.. Он отметил и то, как встала Наталья Львовна и подала руку Макухину, и тот, сумрачно до того стоявший, почему-то стал ее забывчиво гладить своей широкой ладонью и прояснел.
Вот что показал вахмистру Алексей Иваныч:
– Человек человеку – жизнь… однако часто бывает, что человек человеку – смерть… Не так ли? И даже бывает иногда, что больше смерть, несравненно, бесспорно больше смерть, чем жизнь!.. Жизнь – это нечаянно большей частью, – не так ли? – а смерть!.. смерть – это прямой расчет… и даже, когда в расчет не входит, – безразлично. Верно, верно!.. И вот мне была смерть!.. Раз Вале – смерть и Мите – смерть, – значит, и мне смерть… Разве нас можно отделить? Нельзя!.. Нет!.. Были хорошие такие вечера, сидели вместе, пили чай и… надеялись… И что же вышло?
– Присядьте, пожалуйста, – сказал вдруг жандарм, подвигая ему ногой табурет, с которого только что встала Наталья Львовна. – Валя, – это кто же такой был? И Митя?
– Валя – это моя жена, а не «такой»!.. Валя – это Валентина Михайловна, моя жена… А Митя – это мой сын.
Алексей Иваныч, не подбирая бурки, опустился на табурет забывчиво и грузно и бессвязно продолжал спеша:
– И вот, их уже нет, – они умерли!.. И такого закона у вас нет, господа, – у тех, кто с законом под мышкой, – закона нет такого, чтобы его судить за убийство… не за яв-но-е, нет, конечно, но однако, – чем же оно лучше явного? А-а! Явного вам хочется?! Вам, чтобы из револьвера на вашем вокзале, непременно у вас на глазах – трах! – и чтобы народ тут кругом… и дьячок… и татарин, чтоб чай и пиво… ага! A вы чтобы могли протокол?!. Нет!.. Нет, я не поддамся! Это вы только уж после можете, когда я сам себя осужу, а я… я еще не знаю, как она!.. Поэтому я себя не осудил еще… Когда она осудит, тогда и вы можете, а раньше нет…
Вахмистр посмотрел на Макухина: тот энергично показал пальцем на свой крутой лоб и безнадежно махнул рукой в сторону Алексея Иваныча, но вахмистр подозрительно посмотрел на него и на Алексея Иваныча и спросил вдруг:
– Разрешение на оружие у вас имеется?
– Нет, – с усилием оторвавшись от своего, ответил Алексей Иваныч. – А разве нужно?
– А как же? – удивился вахмистр. – Непременно нужно… Поэтому, значит, вы его с заранее обдуманным намерением?
– Илью?.. теперь нет… Я его здесь не думал даже и встретить. Нет… Совсем случайно вышло.
– Вы, конечно, куда-нибудь ехать хотели?
– А?.. Да… Ехать?.. Бесспорно… Бесспорно, я куда-то хотел… Да: на Волынь, сынка его хотел посмотреть… от моей жены.
– А-а! – догадливо протянул старик. – Та-ак-с!
У него была очень сановитая внешность, у этого старого жандармского вахмистра с золотой огромной медалью на шее, и лицо его, широкое и простонародное, но по-городскому бледнокожее и с холеной белой раздвоенной бородою, было бы под стать иному архиерею или губернатору, а серые, с желтыми белками, глаза смотрели умно и спокойно.
Алексей Иваныч теперь прикидывал в уме, когда же именно Илья был знаком с Натальей Львовной: до Вали это было или после? И он уже обернулся было к ней, чтобы спросить, но, встретившись с ее жутким взглядом, отвернулся поспешно и забормотал:
– Вне всякого сомнения, в нем есть что-то, что нравится женщинам… Но почему же благодаря этому вдруг смерть?.. А ежели смерть, то это уже все – конец! И всем законам конец, и никакой протокол не нужен – конец!
– Протокол все-таки написать надо, – заметил вахмистр. – Значит, так нужно полагать: он, этот раненный вами, с вашей женою был знаком?
– И в результате жена умерла… И Митя умер, мой мальчик, – подхватил Алексей Иваныч.
– Та-ак-с! – протянул понимающе старик и крупным, круглым почерком написал: «Покушение на убийство из ревности».
Минут через десять после того рыжий жандарм отправлял всех троих в извозчичьем фаэтоне в ближайшую полицейскую часть.
Предночное прозрачно-синее надвинулось и стояло около фаэтона, когда они ехали, и лица всех потеряли свой день и слабо озарились изнутри. Даже жандарм в серой шинели, сидевший рядом с Алексеем Иванычем, – и у него профиль оказался мягким, топко прочерченным.
Но что болью какою-то острой впивалось в обмякшее сердце Алексея Иваныча – это блуждающий по сторонам медленный взгляд Макухина. И когда он понял, что только благодаря ему Макухин узнал про Илью и что теперь, как и в нем самом, прочно в нем поселился Илья и давил, он, забывши, что был на «ты» с Макухиным, приподнял фуражку и сказал ему робким ученическим голосом:
– Простите!
Макухин тоже дотронулся до шапки и ответил вполголоса:
– Бог простит… Все под богом ходим.
Рыжий жандарм повернул было настороженное широкое лицо и поднял брови, но, встретясь с упорным жутким взглядом Натальи Львовны, отвернулся.
Копыта стучали о камни, как камни; городской шум колюче колыхался около них троих, и синие сумерки густели уверенно.
1913 г.
Обреченные на гибель*
Глава первая
Святой доктор
Придет время, и самое это слово «святой» забудется и исчезнет, как все другие слова, вышедшие из обихода в верхах общества, перебравшиеся из столиц и больших городов в глухие углы и там угасающие в тиши.
Но тот, кого называли святым доктором, военный врач Иван Васильич Худолей, хотя и знал, что так именно его называли, – не понимал, в чем его святость.
Он жил на скромной улице Гоголя в собственном доме в четыре окна на улицу, в том городе[3], на вокзале которого однажды в конце декабря архитектор Алексей Иваныч Дивеев стрелял в Илью Лепетова, бывшего любовника своей покойной жены.
Впрочем, нельзя было сказать о Худолее, что жил он в своем доме на улице Гоголя: он только ночевал там, и то не всегда, а жил в городе, у больных.
Это был хрупкий на вид человек, бледный, длинноликий, с несколько ущемленным и узким носом и карими глазами; усы невнятные пепельные и небольшая русая бородка, длинные волосы и пробор посередине головы – уже одно это при первом взгляде на него напоминало Христа на иконах, и – странно – совсем не мешал этому впечатлению военный мундир.
Как полковой врач пехотного полка, он лечил солдат, которым по роду их занятий никаких болезней не полагалось, кроме трахомы, но ни у кого из врачей города на было такой практики, как у него, и приглашали его ко всевозможным больным, точно не было в городе специалистов; все знали за ним несомненный и большой талант, редкий даже и у врачей: жалость.
Это был природный его талант, и когда он был еще студентом, он женился на некрасивой девушке-бонне отнюдь не по любви, а только из жалости, и теперь имел от нее трех сыновей – старший уже гимназист восьмого класса – и дочь Елю.
В доме жил еще денщик – Кубрик Фома, ходивший обедать в роту, и с утра подъезжал к дому месячный извозчик Силантий, старик недоброго вида: спина сутулая, кудлатая голова в плечи, взгляд запавших маленьких глаз волчий. Он каждый день видел, как с утра, побывав в полковом околотке, отправлялся доктор по больным, которые побогаче, и потом заезжал в аптеку и на базар. Из аптеки выносил пузырьки и пакеты с лекарствами, на базаре покупал то провизию, то железную ванну, и все это вез не к себе домой, а к другим больным, которые беднее. От денщика Фомы знал Силантий, что не привозит доктор ни копейки жене, кроме жалованья из полка, и – мужик хозяйственный, обстоятельный, скопидом и тоже большой семьянин, – и хотел понять и не мог понять доктора; здоровался с ним по утрам без подобострастия и облегченно прощался по вечерам.
Но однажды, свободный от разъездов с доктором, стал он в полночь около театра, и из театра вышли и наняли его офицер и молоденькая совсем барышня лет шестнадцати. Офицер провожал барышню домой и назвал как раз дом доктора Худолея на тихой улице Гоголя. Силантий, даже не оборачиваясь назад, догадался, что везет дочь своего доктора, и рад был втайне нехорошей радостью, что она его не узнала, и еще глубже утопил в плечах тяжелую кудлатую голову. Но слушал чутко и слышал звонкие молодые поцелуи и торопливые ночные слова и, притворяясь полусонным, не кашлял даже по-стариковски, сдерживался, чтобы не помешать…
А у ворот так знакомого дома в четыре окна – при тусклой луне видно было – сидел кто-то, и когда подъехали, он встал, и Силантий узнал старшего сына доктора – Володю, длинного и тонкого, как отец, и когда выпрыгнула из фаэтона барышня, Володя ударил ее по щеке и крикнул:
– Шлюха!.. Гадина!.. Дрянь!.. – Барышня взвизгнула, а он еще раз ударил.
Офицер, еще сидевший в фаэтоне, поспешно постучал в сутулую спину его, Силантия: «Назад!.. Поезжай назад!..» И, повернув лошадей, стегнул он их кнутом с большим сердцем и долго, тарахтя колесами по мостовой, разрешенно и злорадно кашлял и усмехался криво.
А на другой день (в воскресенье), когда приходилось вечером получить с Худолея, а тот забыл оставить на это деньги, как это часто случалось и раньше, Силантий в первый раз укоризненно и внушительно сказал доктору:
– За-бы-ли?.. Та-ак!.. Ну, а ведь они же, кони, не забывают, что им вас возить каждый день надоть?.. Им же, например, овса надоть купить и мне с семейством, к примеру, требуху свою надоть чем ни то набить… Гм… А вы за-бы-ли!.. На очень многое это вы, стало быть, память хорошую имеете, а что очень малое, про то забываете!
– Ну, я завтра… Я тебе завтра дам… Ты напомни завтра, – сказал было Иван Васильич.
Но Силантий знал, что теперь придется доктору просить деньги у своей жены, а у той тоже может не быть, и потому он веско и не спеша доказывал, что деньги ему нужны непременно сейчас, что больше седоков у него никаких не бывает, только он, доктор, что корысти для него никакой нет, что он месячный, а езды много.
Вечер этот был ясный, хотя и поздний; Иван Васильич стоял против Силантия и говорил ему:
– Неужели нельзя до завтра?.. Никак нельзя?
– Хотите, чтоб кони без корму посдыхали?.. Дома возьмите, если с собой не привезли!
– Дома нет.
– Ну, а вы ж своему дому хозяин или кто?.. Что ж у вас в дому залежной какой десятки нету?
– Нету.
– Стало быть, что свое, то вас не касается, а только что чужое?
Иван Васильич посмотрел в его волчьи исподлобья глаза своими кроткими, льющими жалость, расстегнул белые пуговицы шинели, снял ее и подал Силантию.
– Вот, возьми.
– Зачем это? – отстранился Силантий.
– Продай, – тебе овса дадут.
Несколько мгновений стояли они так друг против друга, и Силантий, сказавши, наконец, твердо: «Может, дадут, а может, и не дадут!» – взял шинель обеими руками, положил на сиденье фаэтона, сел на козлы, перебрал вожжи…
Добавил:
– Гм… Чудное дело!.. Десятки в доме нет!..
И поехал, не простившись.
Но на другой день явился раньше, чем всегда, и сам принес денщику на кухню аккуратно сложенную шинель, прося повесить ее на вешалку так, чтобы не заметил доктор.
И еще молчаливее и нахмуренней, чем всегда, возил его в этот день по больным, на базар и в аптеку.
Зинаида Ефимовна, жена Худолея, вела хозяйство, ежедневно сокрушаясь, охая, ломая руки. Это была приземистая широкая дама, всегда нескладно одетая, трагически крикливая и в постоянных ссорах с детьми. Ведя хозяйство только на жалованье мужа, она сумела как-то, неожиданно для всех, купить домик на скромной улице Гоголя и на другой год в глубине двора построить флигель для мальчиков.
Зато даже хлеба купить не доверяла она денщику; зато базарные торговки часто видели эту некрасивую приземистую даму, стоявшую перед битой птицей и говорившую умиленно:
– Ах, уточки, уточки!.. Ка-ки-е уточки!.. Как бы хотелось скушать уточки!..
– Купите!.. Возьмите, мадам!.. Вот у меня аж-таки жирные, – само сало! – накидывались торговки. – Шесть гривен!
– Так до-ро-го?.. Да бог с вами!.. Разве ж я могу платить так дорого?..
И уходила поспешно, чтобы так же уныло стоять перед всем прочим, что было на базаре, и чтобы вернуться домой с покупками на двугривенный.
И дети жили впроголодь, иногда на лето уезжая гостить к своим товарищам и оттуда посылая домой скупые открытки, из которых было видно, что их хорошо кормят и что им весело.
Бонной Зинаида Ефимовна была недолго, не более трех лет, но за это короткое время на всю остальную жизнь уже для своих собственных детей она научилась быть не матерью, а только бонной. Дети эти шалили, не слушались, дурно себя вели, и нужно было во что бы ни стало добиться, чтобы они слушались, не шалили, были приличны.
И в то время, как сам Иван Васильич, точно заведенная и пущенная опытной, но строгой рукой машина жалости к чужим и дальним, аккуратно каждый день уезжал на практику, и даже не дома, а в центре города при одной из аптек во дворе был его приемный кабинет, – Зинаида Ефимовна воспитывала детей.
Конечно, он проникал к ним от товарищей, этот дух своеволия, защититься от него было нельзя, можно было только бороться с ним, и она боролась упорно, так же, как вела хозяйство и копила, и если у мужа ее был талант жалости, у нее был настоящий талант отчаянья, и одно только короткое «ах!» могла произносить она с тысячью разных оттенков и в круглые серые выпуклые глаза под черными бровями вливать столько безысходности и ужаса, что дети поддавались и верили.
Так, однажды, когда самый младший из детей, Вася, когда было ему всего десять лет, расшалившись, разбил белый абажур висячей лампы, она убедила остальных, что он совсем не ее сын, а кухарки, которая у них жила когда-то и умерла, и если они не помнят этой кухарки, то потому, что были еще очень малы тогда. И все поверили. И Еля, глядя на Васю, начала уже фыркать и пожимать плечиком, а когда в это время в отсутствие матери зашла в гости какая-то новая знакомая ее, никогда раньше не бывавшая в доме, Еля так и представила ей Васю:
– А это – сын нашей кухарки.
– Вот какая добрая ваша мама; позволяет ему играть с вами, – отозвалась гостья и послала его в лавочку купить папирос и дала ему пятачок на чай.
Однажды Еля, проснувшись ночью, увидела мать, одиноко сидевшую перед стаканом холодного чаю, простоволосую, рыхлую, скорбно задумчивую, и, пожалев ее, подошла тихо сзади, сказала:
– Мама!
Но не вовремя пожалела… Та вздрогнула от испуга и в непритворном ужасе закричала на целый дом, что дрянная девчонка хотела, чтобы с нею сделался удар…
– А-а, мерзавка!.. Ты хотела, чтобы я издохла!.. – кричала и била ее остервенело стоптанной туфлей.
А на другой день все мальчики как на зачумленную смотрели на Елю.
В село Чамганы за двенадцать верст, где в рощицах по балкам водилась дичь, хотел было пойти с товарищами как-то Володя и уж достал охотничье ружье, и патроны, и ягдташ, но это было – своеволие, и Зинаида Ефимовна стала в дверях:
– Никуда ты не пойдешь! Не пущу!
– Ну как же можно, мама!.. Ведь я же дал слово!.. Ведь меня же ждут! – пробовал выпроситься Володя.
– Не пущу! – и мутно-серые глаза на рыхлом лице налились безысходной тоской.
– Я пойду, мама! – двинулся было Володя, но она, подавшись, задела слабый на ножки стол, стоявший в прихожей, и загремел с него на пол самовар, а она выскочила на улицу и стала кричать истерично:
– А-ах!.. А-ах!.. Ах, убивает!.. Родной сын убивает!.. Уби-ва-ет!.. А-ах!..
Сбежался народ. Сконфуженный Володя забился во флигель и спрятал ружье… И долго потом другие трое смотрели на него подозрительно, а мать, приседая и откачивая голову вбок, говорила торжествующе:
– А что? Пошел в Чамганы?.. Пошел в Чамганы?..
Однажды их обокрали в то время, когда отца, как всегда, не было дома, денщик был в роте, а мать с тремя детьми пошла в гости к очень хлебосольным знакомым. Дома оставался только средний из братьев, Коля, к которому во флигель пришел его товарищ Лучков, бывший гимназист-одноклассник.
Когда вернулись из гостей, нашли открытым шкаф, и из него были унесены кое-какие золотые вещицы – брошки, серьги с камешками, медальон…
– Это – Колька!.. Это Колька со своим Лучковым! – кричала Зинаида Ефимовна.
Однако дом был заперт, и вор явно проник в окно со двора, и окно это было в стороне, противоположной от флигеля, и сколько ни искали чего-нибудь во флигеле у Коли, – не нашли.
Зато Еля в общей суматохе подняла с полу в доме откатившееся в угол и не замеченное ворами кольцо, продала его и купила пирожных и открытки с картинками.
Но вскоре это открылось, и Зинаида Ефимовна, с лицом, полным отчаяния, кричала:
– Воровка! Воровка! Мерзавка!
И била ее по щекам пачкой открыток с картинками.
И долго другие дети называли ее воровкой.
Еля была похожа на отца, – такая же длинноликая, бледная, с карими глазами, – и еще на отца похож был старший – Володя, а двое других – на мать. Но ни дара отчаянья не усвоили похожие на мать, ни дара жалости – похожие на отца. А у того, который свел дружбу а Лучковым, стали появляться разные запрещенные книжки, и его уволили из шестого класса, и когда сам Иван Васильич поехал просить директора, чтобы приняли его Колю обратно, директор – важный лысый старец с седыми кудельками около мясистых красных ушей – сделал скорбное лицо, развел руками и сказал тихо:
– Я вас очень уважаю, доктор, но простите мне великодушно, в своей гимназии держать вашего сына не решаюсь: боюсь!.. Я вам это искренне говорю: боюсь!
Даже за белую пуговицу его мундира подержал и в глаза его, источающие жалость, поглядел сочувственно и проникновенно.
Коля был плотнее других детей Ивана Васильича, любил гимнастику на приборах, но не играл в городки, так как при этой игре работают мускулы одной только правой руки, левая же барствует, а в человеческом теле должны, как и в человеческом обществе, одинаково работать все члены.
Ему шел уже семнадцатый год, когда однажды, поздно вернувшись голодный домой с какого-то тайного собрания (он уже числился в партии), забрался он в шкаф, где – знал – стояла рисовая бабка, оставшаяся от обеда, но со свечкой в руках появилась сзади его мать, схватила его за шиворот:
– Где шляешься, мерзавец, там и жри!
А когда он оттолкнул ее, она выскочила на улицу, крича:
– Спасите!.. Караул!.. Спасите от собственного сына!..
И спасать прибежали. Явился даже дежуривший на углу полицейский, которому заявила она, что сын ее – ярый революционер и не арестовать его немедленно он даже не смеет.
Во флигеле сделали обыск, и на рассвете Коля был отправлен в тюрьму.
Тогда это событие в доме доктора Худолея очень взволновало город. Правда была в том, что Ивана Васильича в эту ночь не было дома: он был приглашен на трудные роды, хотя и без него там уже был акушер, – но в городе сочинили, что он ничего не имел против того, чтобы сын его посидел в тюрьме, что тюрьма в столь молодые годы только полезна для будущего борца за народное благо: она научит его непримиримости и закалит его дух; говорили, что, прощаясь со своим сыном, он именно это и сказал в присутствии полицейских, и это особенно умиляло всех почитателей святого доктора, и, совершенно неизвестно почему, в связи с этим стали говорить, что мать Худолея – еврейка, и даже больше того: недавно приехала из Гомеля навестить своего сына.
И вскоре одна старая простая еврейка в теплой клетчатой зеленой шали, морщинистая, но с ярко горящими молодым любопытством глазами появилась в доме на тихой улице Гоголя и спрашивала денщика Фому: где же она, эта почтенная еврейка из Гомеля, счастливая мать изумительного сына, лучшего друга всех бедных?
Фома Кубрик был в это утро один дома, – Зинаида Ефимовна на базаре, дети – в гимназии, – и, пока он, соображающий туго и медленно, понял, что эта в зеленом платке ищет чью-то мамашу, гостья успела уже проникнуть из передней в гостиную, а пока он обстоятельно ответил было, что никаких приезжих мамаш пока, – бог миловал! – у них нет, она открыла уже двери в столовую и обшарила ее глазами… Оторопелый Фома, коротенький и черноголовый, еще только говорил, подвигаясь за ней: «Куда же ты, бабка?» – а она уже стучала сухим скрюченным пальцем в притворенные двери спальни и говорила что-то громко и отчетливо по-еврейски.
– Да ты ж куды ж это? – осмелел Фома. – Тебе ж чего ж это, скажи толком?
– Ну-у, зачем же вы ее прячете? – покачала головой старуха. – Когда уже всем известно, что она уж три дня, как приехала из Гомеля!
И, повернув ручку двери, просовывала голову в спальню. Спальня, правда, была пуста, однако видна была еще одна дверь, тоже прикрытая: она могла быть за нею, эта почтенная женщина.
– Русским языком тебе говорю: никого нет теперь, окроме меня! – убеждал Фома.
Но старуха глядела на него явно недоверчиво и с укоризной, и когда, выходя из дома, заметила флигель во дворе, направилась туда бодрым молодым шагом.
В тот вечер, когда Еля, уйдя в театр с подругами, вернулась на извозчике с офицером, даже и не их полка, с которым и познакомилась-то она только в театре, – Володя так горячо принял это к сердцу, что даже Зинаиду Ефимовну напугал, и она не спала целую ночь от яркого ужаса: не ревнует ли он сестру потому, что, может быть, любит ее не так, как сестру?.. И, может быть, давно уже это между ними, а она не знает?..
Едва дождалась она утра, но утром Еля не вышла из своей комнаты, отказавшись от чая, а Володя, бледный, с воспаленными глазами, ходил около дверей ее комнаты и повторял:
– Шлюха!.. Гадина!.. Дрянь!..
И, окончательно поверивши в свои ночные ужасы, Зинаида Ефимовна схватила его за руку и потащила в гостиную:
– Сейчас же мне все говори!.. Ты что к ней пристаешь, говори!.. Все говори!..
И горячо сказал Володя:
– Мама, ты и не знаешь еще, какая она дрянь!.. Ведь она бывает даже у кокоток в доме Ставраки!..
Две кокотки занимали красивый особнячок через два квартала от них, ближе к центру, и Еля действительно свела с ними знакомство просто из великого любопытства и два раза была у них в комнатах, украшенных азбукой из сплетшихся в самых рискованных позах голых мужских и женских тел… Тигровые шкуры около оттоманки, пушистые ковры, всюду флаконы духов и пудреницы на шифоньерках, цветы в граненых вазонах, шелка и меха… и, пробравшись к кокоткам тайно, Еля не могла уж скрыть своего восхищения, проговорилась…
– Да!.. Два раза была она у них, мама!.. Ты подумай только!.. И вот результат!..
Однако для Зинаиды Ефимовны этот ужас был все-таки гораздо меньше того, какой она придумала ночью, и потому она была снисходительнее к дочери, чем Володя, только реже стала пускать ее к подругам.
Но обстановка маленького особняка, – соблазнительная, опьяняющая, волнующая, – прочно залегла в память Ели, и когда на уроке в день своих именин старый гимназический словесник вздумал побеседовать с ученицами о том, кем им хотелось бы быть со временем, когда окончат они гимназию и выйдут в жизнь, и одна заявляла, что хотела бы быть учительницей, другая – врачом, третья – художницей, четвертая – артисткой, Еля, выждав свою очередь, спокойно подняла, вздернула голову и отчетливо на весь класс сказала:
– А я хотела бы быть кокоткой!
Старый педагог так был ошеломлен этим и так растерялся, что пробормотал только:
– Собственно говоря, неудачно: хотела, конечно, выразиться: «кокеткой», а подвернулось другое словцо…
Спасительный звонок покрыл смущение… Начальнице не сказал об этом словесник, а классной дамы случайно не было в классе.
Гимназическое начальство не узнало об этом, но о том, что одна из учениц заявила в классе, что хотела бы стать кокоткой, усердно говорили в городе, то подмигивая, то хихикая, то улыбаясь томно, то ахая, то покачивая головами… Однако (маленькая странность) фамилии этой «одной из учениц» не называли.
Володя обладал одною чертою характера, которая напоминала в нем мать: скупостью. Но это была не скупость в денежных расчетах (никогда не было денег у Володи), это была скупость в трате собственных сил.
– Кто так делает? Никто так не делает!.. – часто говорил он сестре или братьям, если хотел доказать, что они глупы. И у него была врожденная, чисто женская осмотрительность, сжимаемость, вогнутость, откачка от всяких бурных увлечений, и часто в разговоре даже со сверстниками он употреблял слова: «я опасаюсь…»
И воротничок, выступавший из-за ворота его серой гимназической блузы, всегда был безупречно чист, и очень аккуратно всегда сидела на нем эта блуза, и подолгу занимался он умыванием и расчесыванием таких же, как у отца, слегка вьющихся русых волос; и никогда не позволял он себе в классе ковырять парту ножичком или пачкать ее начерниленным квачом… И за все это и многое другое подобное товарищи звали его «Маркизом».
А младшему из братьев, Васе, существу пока низенькому, скуластому, с насмешливыми, всеотрицающими глазами, меньше, чем кому-либо чужому, был понятен «Маркиз».
Этот любил пока только одну кутерьму. Зимою – снежки, и чтобы непременно закатывать в снежки камни; летом – чехарду с уличными мальчишками; осенью (а осень здесь всегда была ясная и сухая) – те самые городки, которых не одобрял за их однобокость Коля; весною – раскрашенные огромные бумажные змеи с трещетками, пугающими лошадей… В классах часто дрался, лез на всякого напролом, не отставал, сколько его ни били, и потому был непобедим, как бычий овод.
Если бы его спросили, кем бы он хотел быть, он подумал бы несколько мгновений и вполне искренне сказал бы: никем. Заботясь о приличиях, часто докучал ему Володя, делая брезгливое лицо, но когда хватал его за плечи, чтобы остановить, тот вырывался, отбегал и кричал удивленно: «Тоже еще, Маркиз!..» Другого брата, Колю, он начал было уважать, когда его уволили из гимназии и началась для него свобода, но все уважение к нему пропало, когда тот вздумал таинственно подсовывать ему какие-то тощие, замусоленные книжонки. «Читай их, – сказал он, – сам, босявка!» Он вообще не любил книг; он любил ходить по земле колесом или мчаться навстречу каждому, скосив глаза и раздувая ноздри.
Даже Еля пыталась часто останавливать его криком:
– Что ты несешься, как зверь лесной, дикий!..
Но был он постоянной причиной ее слез, и долго не могла она забыть такой его выходки. Ей лет в двенадцать очень понравились веснушки одной подруги, Ванды Бельзецкой, и из зависти к этим веснушкам она сепией посадила себе на лицо такие же точно, просидев над этим в укромном углу перед зеркалом целый час перед тем, как идти спать. Утром думала прийти в класс и удивить Бельзецкую: «Смотри, у меня появились точь-в-точь такие же веснушки!» Но подсмотрел Вася и утер ей, подкравшись сзади, лицо щедро намоченным полотенцем… Даже в гимназию не пошла в этот день вся изрыдавшаяся Еля.
Так как все четверо молодых Худолеев родились в этом городе, то у всех четверых было общее детское, что на всю жизнь потом у всякого по-своему, но очень прочно отливает и строит остов души.
Например, запах белых акаций весною, которого совсем не знают северяне… Весною, в мае, на улицах и в садах, всюду в городе стоял этот запах сладкий, пряный и густоты необычайной, так что заметно было, что сквозь него проталкиваешься, протискиваешься, чуть ли не продираешься даже с трудом, когда идешь по вечерним нагретым тротуарам, и сыплются на тебя вниз увядающие нежные белые венчики, похожие на мотыльков. Это был волнующий запах; он завораживал, околдовывал, спаивал, властно правил весенними токами тел…
А в городском сквере, широко развернувшемся как раз посреди города, памятник Екатерине II, при которой был завоеван весь этот край, стоял темно-пыльно-зеленый, бронзовый, очень странный уже потому, что был этот памятник женщине (единственной женщине, удостоившейся памятников в России), внизу под которой, на пьедестале толпились боевые генералы ее времени – в париках и со звездами на мундирах… И не к боевым генералам этим, а именно к женщине бронзовой и важной так шли пышные клумбы цветов кругом с купами огромнолистых бананов, мясистых алоэ и ярко-красных канн. Ясно было, что все эти генералы, жавшиеся у ног женщины, были так, между прочим, а главным здесь была женщина, потому что для кого же иного разлилось кругом это цветочное озеро?..
Не для губернаторского же дома, стоявшего напротив и выкрашенного казенной желтой охрой… И у дежуривших здесь околоточных был слишком суровый и деловой вид, как у всех людей, принужденных мучиться над тяжелыми государственными вопросами, и, конечно же, им было не до цветов.
Женский суетливо стрекочущий говор был здесь на улицах от массы смуглых южан: греков, армян, евреев, татар, цыган, караимов; по-женски высоко и тонко пел на минарете красивой базарной мечети муэдзин вечернюю и утреннюю молитву; женственно нежный струнный румынский оркестр целое лето играл по вечерам в городском сквере, и какие потоки легких женских тел, встревоженных, ищущих, мечтающих, лились тогда по усыпанным желтыми ракушками дорожкам сквера!..
По окраинам города здесь было много питомников и больших фруктовых садов, и, начиная с июня, когда поспевала черешня, город краснел, багровел, розовел, лиловел, оранжевел, и на скрипучих грохочущих огромных делижанах привозили сюда со степных баштанов горы арбузов и дынь.
И так до поздней осени, незаметно переходящей в зиму, не знающую саней, в городе пахло садовым и баштанным медом.
Есть какие-то свои особенные запахи в любом обособленном человеческом жилье; иногда их трудно, иногда даже невозможно определить. Но кто бы и когда бы ни приходил в дом Худолеев, он поводил кругом носом, припоминал, соображал, внюхивался и, наконец, говорил облегченно и найденно:
– Как у вас пахнет валерьянкой!
Это было любимое и единственное лекарство Зинаиды Ефимовны от всех ее ужасов, тоски, отчаянья и болезней. И запаха этого, которым пропитались насквозь вся мягкая мебель, все занавески окон, все скатерти столов, даже дерево дверей и штукатурка стен, никак нельзя было вывести из дома в четыре окошка на улице Гоголя.
Соблюдая строгую экономию во всем, Зинаида Ефимовна завела для всего семейства одну общую зубную щеточку, и она, бессменно работая года два, висела на гвоздике над умывальником, пока не истиралась до костяшки и не заменялась, наконец, новой. Эта зубная щеточка – общая для всех Худолеев, несомненно, так же, как и хронический запах валерьянки в их доме, оставила что-то свое во всех их душах.
Но был еще старый угольник в столовой, простой угольник для посуды, но до чего таинственный: чуть наступал вечер, он начинал трещать… Он трещал методически, с определенными интервалами, сухим отрывистым треском… это пугало всех, – нет, – это нагоняло на всех какую-то вязкую грусть, и хотя Иван Васильич и объяснил однажды, что в старом угольнике этом личинка жука-древоточца крепкими челюстями своими грызет доски, все-таки, заслышав в сумерки знакомый треск, болезненно морщился «Маркиз», озабоченно тер то правое, то левое ухо Коля, подымала к самому затылку узкие плечики Еля, а Вася, раздувая ноздри курносого носа, придвигаясь к ней, шептал угрожающе:
– Ох, я тебя сейчас и кусану!
(Он больно и с увлечением, совсем по-звериному кусался, когда был маленьким.)
Принято думать, что «святые» по существу скромные люди. Это, конечно, неправда. Они, прежде всего, очень смелые люди. Они способны приказать любой горе: «Сдвинься с места!» и мертвому: «Встань и ходи!»
Иван Васильич не был настолько свят, то есть смел, и когда под его стетоскопом не билось даже чуть слышно сердце больного, он тихо говорил его близким:
– Ну, что же делать… Воля божья… Конец…
И глаза его, источавшие лучи жалости, добавляли к этим словам немое, но выразительное: – и моей власти конец и всякой вообще человеческой власти.
Но странно, – очень частые жалобы, что тот или иной врач уморил своей неумелостью больного, всегда обходили Худолея. Даже очень убежденно говорили в таких случаях, что, если не мог помочь и Худолей, значит, вообще болезнь была неизлечима.
Однако не только источали все время жалость карие, юношески-чистые по взгляду глаза Ивана Васильича; они еще и вбирали, оттягивали, всасывали в себя то очень сложное и неопределимое даже, но самое важное в людях, что зовут особенностью душевного склада и что делает жизнь каждого, кто бы он ни был, неповторяемой и единственной из миллиардов прожитых на земле с незапамятных времен человеческих жизней…
И как врач, привыкший делить людей только на два разряда: больных и здоровых, – Иван Васильич годами, понемногу, урывками между делом, копил свой материал мелких и случайных наблюдений именно в этой области и как человек, учившийся по книгам, мечтал написать большую, обоснованную, научно обработанную книгу: «Границы психического здоровья», а в ней ясно по возможности вскрыть тот зыбкий, как лесная трясина, и, как эта же трясина, часто покрытый пышной зеленью и цветами пласт душевных переживаний, до которого сплошь и рядом доходит пышущее здоровье, но за которым тут же начинается бездонная, как омут, болезнь.
И настоящая, подлинная святость, то есть смелость доктора Худолея началась тогда, когда он пришел к мысли, что нужно и вполне возможно ему устроить в этом городе то, чего еще не было в нем, – полулечебницу-полупансион для полуздоровых-полубольных, одной ногой уже стоящих на роковой трясине и уж вдыхающих ядовитый дурманящий запах растущих тут цветов, но еще не решивших твердо: ринуться ли дальше, или принять свою ногу, повернуться спиной к трясине и спокойно, трезво пойти назад.
Он знал, насколько ничтожны и насколько наивны средства, предложенные пока медициной для лечения в этих случаях; он знал, как робки и неуверенны попытки полубольных людей сделаться вполне здоровыми, но самые эти попытки были ему хорошо известны, и не напрасно же обладал он подлинным талантом жалости, вообще редким в жизни.
Но даже и талант жалости так же жесток к тому, кто им обладает, как всякий другой талант, и так же ускользает от точных определений, и, припертый к стене краснощеким, задорным, победоносным здравым рассудком, так же робеет и заикается, как всякий талант, и не находит для себя достаточно веских оправданий.
Впоследствии многие то снисходительно улыбались, то недоуменно пожимали плечами, когда из устроенного Худолеем пансиона для тех, кого он считал на границе психического здоровья, решительно ничего не вышло, и даже несмешливому от природы человеку вся эта затея в конце концов казалась совершенно смешной: но много ли можно насчитать и у всякого, кто бы он ни был, вполне безошибочных начинаний?
Где-то в одной кузнице куются и молнии и мысли, и одинаково их свойство ослеплять.
Бессребренику вообще очень трудно бывает понять, что всякое дело на земле требует не только знаний и труда, но и денег, а талант, – даже и жалости, – очень поздно убеждается в том, что далеко не всякий его шаг непременно должен увенчаться успехом.
Однажды, – что было совсем не в правилах Ивана Васильича, – он приехал домой раньше обыкновенного, – часов в пять вечера, – и не один, а с довольно высоким, но очень и широким в то же время, хотя и совсем молодым еще на лицо человеком, не больше двадцати трех лет. Это было осенью, в октябре, за несколько недель до случая на вокзале.
В доме в это время отпили уже чай и разошлись – дети во флигель, Зинаида Ефимовна на кухню солить помидоры с Фомою; однако Иван Васильич вызвал Фому и приказал ему подогреть самовар.
Только Володя в окно флигеля видел этот приезд отца и узнал того, с кем он приехал. И любопытство, справиться с которым он не мог, заставило его тихо войти в дом, как будто за какою-то нужной ему книгой, и приблизиться почти вплотную к неплотно притворенной двери отцовского кабинета. И он услышал – низкий трубный голос говорил неспешно и запинаясь, долго прицеливаясь как будто к каждому слову, прежде чем в него ударить:
– …Потом я заметил такую за собой… странность… Я, допустим, чего-нибудь ищу… или кого-нибудь… И у меня представление создается очень ясное, что это, допустим, здесь вот… налево… До малейших подробностей ясно… Я начинаю вполне спокойно… то есть уверенно, – это точнее, – искать налево… И вдруг случайный взгляд направо, – и искомое оказывается… там… И вот… я не верю, что это оно: оно должно быть налево, а не направо… Я глаза отвожу и продолжаю искать налево… все-таки… налево… И долго так… с полминуты… пока не опомнюсь… Вот до чего я рассеян…
– Ну, это что же… это неважно, – сказал с улыбкой в голосе отец.
– Какой же я художник, – зарокотал гость, – если я представлению… вполне предвзятому… верю, а глазам не верю?
– Мы все часто глазам не верим…
– Но со мною всегда так… Я очень часто ищу… по рассеянности, и всегда так… всегда не там, где надо, точно кто приказал мне это… А потом не верю глазам… И я должен сказать еще: я никогда не знаю твердо, что мне надо делать… Мне всегда кажется, что нужно как-нибудь иначе, что-нибудь еще… А совсем не то, что я делаю…
– Даже, когда вы боретесь, с вами это тоже бывает?
– Нет… Вот именно только тогда я не… как бы это сказать…
– Не двоитесь?
– Потому не двоюсь, что мы вдвоем боремся, – прогудел гость. – Однако долгой партерной борьбы, когда противник пассивен, – не выношу я… Он лежит… На груди, конечно, – он мне самому предоставляет делать с ним, что мне угодно… И тут-то я всегда допускаю ошибки… Я начинаю горячиться…
– А это не хорошо?
– Конечно… Противник этого только и ждет.
– А вы, собственно, какую же профессию предпочитаете? Художника или борца?
– Нет, зачем же… Борьба – разве это у меня профессия?.. Я, конечно, художник…
– Предпочитаете живопись?
– Да-а… Хотя в этих профессиях много общего… И там и тут рекорды… И там и тут – жестокая конкуренция.
– Только одна – культурна, другая – нет…
– Должен признаться, доктор, я не думаю этого… Мне они кажутся обе культурны… или обе некультурны… Со временем, наверное, никакой живописи не будет и в помине…
– Гм… Вы так думаете?.. А ваш сон?
– Картина моя?
– Ах, у вас есть такая картина… Нет, я спрашиваю просто, каков ваш сон?.. То есть нет ли бессонницы, кошмаров?..
– Жесточайшие кошмары… Когда я сплю… Но я мало сплю… Мало и плохо… Бессонница, – вы угадали… – прогудел гость.
Тут Володя переступил с ноги на ногу, и Иван Васильич это услышал, подошел к двери и притворил ее плотно, а Володя ушел, стараясь ступать на носки и не скрипнуть.
Но вечером, когда дети сошлись ужинать (а гость или пациент давно уже уехал вместе с отцом) и когда Вася, ища стул (а их было в обрез – только полдюжины), взял было стул из кабинета отца, Володя быстро вырвал его и сказал запальчиво:
– Не смей брать этого! Возьми другой!
– Тю-ю! – оторопел Вася. – Почему это?
– На этом Сыромолотов сидел.
– Тю-ю! Ху-дож-ник?
– Не художник, а чемпион мира.
Довод этот показался убедительным даже для Васи.
Правда, он буркнул было: «Мира и его окрестностей», но взял все-таки другой стул, на котором сиживал отец, а на сыромолотовский косился во время ужина с явным и большим интересом.
Глава вторая
Чемпион мира
Сыромолотовых было двое – отец и сын, и оба они были художники, но отца знали как бывшего профессора Академии, старого передвижника, а молодого, хотя он тоже был «любимое дитя Академии» и получил заграничную поездку, знали только как атлета, борца, чемпиона мира.
«Чемпион» – нерусское слово, но даже и равнозначащего слова не появилось и не могло бы появиться в России, – стране унылых песен, косых взглядов, широких и весьма усидчивых задов, драной сермяги и прочего известного всем…
Слишком мало древнегреческой радостной крови текло в русских жилах, чтобы появилось подобное слово и получило определенный смысл. И Ваня Сыромолотов не добивался во что бы ни стало сделаться чемпионом мира, – вышло это совершенно случайно и для него самого неожиданно.
Правда, когда он был еще реалистом в Воронеже и жил у тетки, теперь умершей, реалисты гордились им как силачом, и тогда на пари взобрался он по водосточной трубе на третий этаж епархиального училища и по карнизу влез в открытое окно дортуара семиклассниц, произведя в тихом интернате этом страшнейший переполох; однако он проделал это без особого увлечения и, окончательно перепугав епархиалок и их классных дам, тем же маршрутом – через окно по трубе вниз – спустился совершенно спокойно. В наказание за это его отцу предложили взять его из училища. Как раз в то время приехал из Петербурга в Воронеж старый художник, навсегда порвав с Академией, и когда, после долгих заминок, рассказал ему Ваня, за что его просят покинуть училище, Сыромолотов-отец внимательно оглядел рослого, крепкого сына и сказал медленно:
– Однако вышел из тебя, братец, огромный дурак.
Прошение об увольнении Вани по домашним обстоятельствам подписал, но с начальством его по этому поводу не объяснился. Это был начальный период его отчужденности от всех. Его жена, мать Вани, умерла перед тем года за два, но едва ли это было причиной его странной сосредоточенности в себе. И едва ли сразу и вдруг человек деятельный, здоровый, могуче сложенный, не такой и старый – всего только пятидесяти восьми лет – решил уединиться и запереться, как в скиту, в только что купленном доме в том самом городе, где жили Худолеи, только в другом конце, на так называемом Новом Плане.
Дом был просторный, но стоял в середине усадьбы, в саду, а на улицу выходила только каменная стена и над нею взвивались в небо стройные ветки японского клена.
Очень редко и очень мало кто посещал Сыромолотова. Однако, возлюбив одиночество, он в каждой комнате своей утвердил на самой видной из стен по аккуратной дощечке с надписью готическим шрифтом:
Арабское изречение:
«Хороший гость необходим хозяину, как воздух для дыхания; но если воздух, войдя, не выходит, то это значит, что человек уже мертв».
Хозяйство у него вела Марья Гавриловна, сероглазая девица тридцати с небольшим лет, но улыбавшаяся еще как девочка, часто красневшая, богомольная, скромная, услужливая, говорившая серебряным голосом, не раздобревшая еще и ходившая плавной и легкой походкой кельнерши в большом биргале.
Марья Гавриловна была единственным человеком, с которым говорил старый Сыромолотов, точнее, – единственным, которого он слушал, так как говорила все время она.
Может быть, даже смущала (если не пугала) ее сосредоточенная маска лица этого большого старого человека, с широкими, как русская печь, плечами, с большой головой… Только острые глаза на этом лице, глубоко ушедшие в пещеры глазниц под выпуклые надбровные дуги и подпертые мешками снизу, неотступно следили за ее шевелящимися губами и заметно тянулось к ней несколько тугое правое ухо, крупное и плоское.
И что бы и о чем бы ни начала говорить Марья Гавриловна, он глядел, отрываясь от тарелки или стакана, на нее, казалось бы привычную за три года, с неослабным изучающим интересом. И только иногда, когда она вставляла какое-нибудь свое, необычное для него, слово, переспрашивал.
– Иду я в городской, сад, – говорила, например, она, – новое платье надела, – а вдруг дождь!.. Ну, конечно, уж, – летнее время дождь – что же он такое! – Так, минутность одна…
– Ми-нут-ность? – спрашивал он очень серьезно, раздвигая брови.
– А, конечно же – минутность: сейчас промочил – через пять минут высохло.
И улыбалась, польщенная его вопросом.
Улыбалась она почти всегда, даже когда возилась одна на кухне: жарит котлеты, подкладывает на сковородку масла, чтобы не подгорели, и вдруг вспомнит что-то и улыбнется длинно. Безостановочная работа шла под ее невысоким и гладким, немного мясистым лбом, работа мысли девушки в тридцать с лишком лет, думающей только об одном: о возможном муже.
Если была она в праздник у обедни, то за обедом в этот день говорила:
– Пошла сегодня к обедне в Троицкую церковь, а там, оказалось, на мое горе монах какой-то служил!..
– На горе? – подымал брови Сыромолотов.
– Разумеется!.. Я у самого амвона стоять люблю, а тут вдруг не отец Семен, а мона-ах!.. Что же его смущать-то, монаха? – Гре-ех!.. Так и ушла в уголочек… Там и простояла в духоте час цельный…
– Отца Семена, значит, можно смущать? – тянулся правым ухом Сыромолотов.
– Отца Семена смущать – матушку его радовать!.. Кабы он вдовый – дело особое, – а то какой же тут грех?
Или она говорила о своей первой любви, осмелев, и тогда говорила с подъемом:
– Его звали Август Оттович – он эстонец был, – механик… Белый, красивый!.. Я его лилией звала… Глаза какие! Как у ангела… Усы…
– Усы, как у ангела? – с любопытством вглядывался старик.
– Глаза, а совсем не усы!.. Разве у ангелов бывают усы?.. Усы, – я хотела сказать, – как у военного… Даже еще и у военных здесь я ни у кого таких не видала… Только он нежный-нежный такой был!.. Все, бывало, сидит на скамейке один в саду и все мечтает!..
– Гм… О чем? – тянулось ухо большое и плоское.
– Так, обо всем… О природе… О деревьях… А женщинами он совсем мало занимался… Вот я плакала, когда он в свой Петербург уезжал!.. Адрес мне свой оставлял, – из кошелька визитную карточку доставал, а в кошельке кольцо золотое… «Откуда, спрашиваю, у вас тут кольцо золотое, Август Оттович, раз вы говорите есть холостой?.. На руке не носите, а в кошельке, стало быть, носите?..» А он как скраснеется весь!.. Так я ему потом ничего и не писала: зачем же себя только зря волновать, а жена его чтобы ревностью мучилась?..
Или так:
– Шла я сегодня с базару, а впереди меня такой высокий красивый молодой человек шел, такой необыкновенный красивый шатен, – а я с корзинкой тяжелой спешу-спешу, чтобы от него не отстать, а он сел вдруг на лавочку да как закашляется!.. Платок ко рту прикладывает, а на платке кровь!.. Вот я испугалась!..
– Чего испугалась?
– Ну куда же он такой больной, чахоточный?.. Какое же из него женщине счастье?.. Только одно горе-забота… Вот военные – здоровые все люди… Ах, я ясные военные пуговицы до страсти люблю!.. Кабы мне муж военный попался, – все бы я сидела, пуговицы его мелом чистила, чтобы блестели!..
Так каждый день своей прежней жизни и теперь еще искала она полноценной мужской красоты, тосковала только по ней, улыбалась про себя только ей и ни о чем не умела и не могла говорить больше.
Но была у нее странная мечта красоту эту непременно присвоить и узаконить – обвести ее кольцом, как заколдованным кругом, и так твердо держалась она за эту свою мечту, что вот еще и теперь берегла себя и надеялась, и если говорила об этом с Сыромолотовым, то потому, что тот ее спокойно и внимательно слушал, что был он уже старик и тоже о чем-то своем мечтал, – так ей казалось, – так что хотя говорила только одна она, но за столом в темноватой от деревьев под окнами столовой сидело их двое мечтавших.
Было у нее множество историй (и как, не смешиваясь, помещались они в ее памяти!), все сотканных из красивых шатенов, брюнетов, блондинов, непременно из высшего круга, и простых горничных, швеек, мещанских девиц… Они, все эти девицы, были только миловидны собой – не красавицы, отнюдь нет, а только миловидны, – мужчины же были писаные красавцы, больше лейтенанты и мичманы флота и гвардейцы; они за большие деньги покупали им, этим горничным и швейкам, баронство, чтобы ввести их в круг своих дам, а свадьбу справляли непременно таинственно, при закрытых дверях, чтобы та или иная барышня из общества, мучимая ревностью и завистью, не помешала им сочетаться законным браком.
И вся полная этих странных и сладко волнующих ее историй, она была неутомимой и едва ли заменимой хозяйкой в доме Сыромолотова. Она поспевала везде одна – всегда здоровая, всегда ровно настроенная, всегда стремительная в движениях, всегда влюбленная и в свои мечты и в тот неизменный и прочный хозяйственный уклад, который сама же она и создала здесь. Она ценила место у Сыромолотова и говорила своим знакомым:
– Я там – сама большая, сама маленькая: некому мне там ответы отвечать.
И платья она любила подобранные и всегда носила корсеты, чтобы не распускаться. И в полную противоположность своему хозяину, не выходившему дома из халата, давно уже везде вышедшего из моды, она всегда была принаряжена и к обеду приходила всегда с каким-нибудь цветком, неизменно приколотым английской булавкой на груди слева: ранней весною – с букетиком белых подснежников, зимою – с душной геранью или фуксией, которые заполняли в ее комнате столы и окна…
А стены этой ее комнаты были увешаны вырезанными из журналов портретами разных красивых мужчин, большей частью военного сословия, но в число их зачем-то попали Эдгар По, Александр Дюма-сын и Перси Биши Шелли… Последний, может быть, просто в виде многообещающего мальчика, который, конечно же, будет очень интересен, когда у него вырастут, наконец, усы.
Как можно жить так, совсем почти не видя людей, как жил ее хозяин, этого Марья Гавриловна не понимала и считала это за какой-то особый вид эпитимьи, им ли самим на себя наложенной или выполняемой по чьему-нибудь приказу.
Художник вставал рано, чуть солнце.
Если день был ясный, ловил солнечные пятна в своем саду, на корявых грабовых сучьях, в просветах густых каштанов, на дорожках, победно зарастающих травою… Но больше работал он в своей мастерской.
В картинах Марья Гавриловна понимала гораздо меньше, чем в золотых кольцах, прическах, супах, шатенах и церковных службах, и когда ни спрашивали, чем занят Сыромолотов, – отвечала:
– Рисует все… А спросите его, – к чему это?
И губами выражала явную скорбь.
Впрочем, в мастерскую свою Сыромолотов не впускал даже и Марью Гавриловну; даже и подметал ее половою щеткою сам, а уходя из дому, запирал на ключ.
Иногда он приводил к себе «натуру». Это слово усвоила Марья Гавриловна, как название для разных подозрительных босяков и нищих, за которыми надо было смотреть в оба, когда они уходили, – не стащили бы чего, – и которых она несколько ночей после их посещения мастерской Сыромолотова боялась, – не пришли бы грабить.
Впрочем, иногда художник усаживал в столовой около окна и ее и писал красками, и тогда у нее бывал оторопелый каменный вид, у него же почему-то веселый. Живописных портретов с себя она боялась, от кого-то узнав, что это – к смерти, – и если не отказывалась все-таки сидеть, то потому, что втайне ей было приятно: не станет же художник, да еще такой знаменитый, рисовать некрасивую девушку.
Марья Гавриловна жила у него только последние три года, – раньше жили другие, но не уживались долго. Однако и за эти три года она заметила, что к ним в дом все реже и реже заходил почтальон.
Мало кому писал и Сыромолотов, и только неизменно первого числа каждого месяца передавал ей переводный бланк и деньги – девятнадцать рублей пятьдесят копеек для отправки сыну в Петербург.
Однажды она осмелилась спросить старика, почему столько именно он посылает сыну. Это было за обедом в первый же год, как она к нему поступила.
Сыромолотов поправил темную, еще не пронизанную серебром гриву нежидких еще волос, почесал мизинцем несколько горбатое переносье крупного носа, подержался за недлинную бороду и спросил удивленно:
– Вам кажется, что это – мало?
– Не к тому я, – зарделась Марья Гавриловна, – а только неудобное число такое зачем?
– По-вашему, лучше бы двадцать?
– Разумеется… А то… даже нехорошо как-то…
И старик объяснил:
– Когда я сам учился в Академии, мой отец, чертежник губернский, получал штатного жалованья пятьдесят четыре с полтиной… Тридцать пять оставлял себе, – девятнадцать с полтиной посылал мне… Поняли?..
И довольно долго глядел на нее ожидающе, не скажет ли она еще чего, но Марья Гавриловна, придавленная этим тяжелым взглядом, только зарделась еще больше и замолчала.
За шесть лет жизни в этом городе Сыромолотов, несмотря на свою уединенность, все-таки познакомился здесь со многими, – только не любил, когда заговаривали с ним о его работах.
На выставки ничего не посылал, так что даже и те, кто прежде писали о нем восторженные статьи, постепенно о нем забыли, тем более что окрепли уж новые теченья в живописи и запестрели новые имена.
Однажды его видели, как он выходил со своим широким этюдником и ящиком для красок из того самого особнячка Ставраки, где жили кокотки… Даже передавали потом, что одна из них, – Маня – сумасшедшая, блондинка, – кричала ему при этом в раскрытое окошко:
– Верне зиси анкор!.. Завтра в два мы дома!
А другая, – Дина-лохматая, брюнетка, – за ее спиной кричала тоже «по-французски»:
– Регарде же! Ну вас атандон! Смотрите!
И он очень галантно махал им, уходя, своею огромнейшей шляпой.
Потом как-то они посетили его, подкатив к воротам его дома в изящном сером торпедо, и Марья Гавриловна, к полному недоуменью своему, увидела, как он с ними любезен, весел и говорлив и как ему понравилась даже их машина, и он и с нее сделал размашистый этюд.
Однако в следующий подобный же приезд он почему-то выслал к ним Марью Гавриловну передать, что его нет дома и долго не будет.
– Шерше его, милочка, хорошенько! Шерше! – приказала Дина Марье Гавриловне весьма энергично.
А Маня добавила врастяжку:
– Ах, нам так нужно перехватить у вашего папаши, – понимаете, – келькешос даржан! – и пощелкала пальцами.
Но Марья Гавриловна, ничего не ответив, надуто захлопнула перед ними двери и довольно даже сердито, как и не ожидал Сыромолотов, на его вопрос:
– Что? Уехали?
Ответила сквозь зубы:
– Повернули хвосты!..
Но однажды Марья Гавриловна увидала, что был он искренне рад гостю. Это приехал к нему старый товарищ, тоже передвижник, известный жанрист Левшин.
Он сказал Сыромолотову:
– Алексей Фомич!.. Хочу писать Грозного… Всю Россию изъездил, искал натуру, – не мог найти… Вдруг ты мне во сне приснился… Вот и приехал я и смотрю теперь: – он!.. Такой самый!.. Попозируй, брат, ради всех святых и искусства!
И Сыромолотов не отказал.
Левшин пробыл у него три дня.
Может быть, заговорила в Сыромолотове временная слабость, усталость, или старая дружба его растопила на время, или все-таки хотелось проверить силу художника, только Марья Гавриловна видела совсем другого человека: такого же, как все, – шутника, балагура, почти жениха даже, – так он разошелся с товарищем и размяк.
Перед отъездом Левшин показал ей свою работу.
С холста на нее очень живо и страшно глядел старик… Волосы всклокочены, лицо землистое, в морщинах, рот открыт, брови подняты, руки протянуты вперед в обхват, халат распахнут, и вобрана сухая темная твердая грудь…
– Похож? – кивнул на Сыромолотова Левшин.
– Неужто? – вскинулась Марья Гавриловна.
Обернулась к своему хозяину, а тот стоял, улыбаясь, помолодевший за эти три дня и от этого еще более мощный.
– Совсем ни капельки не похож! – пылко ответила Марья Гавриловна. – Совсем даже не умеете вы правильно рисовать!..
И оба художника захохотали дружно.
Чихал Сыромолотов оглушительно, что объяснялось, конечно, устройством его большого носа и редкостным объемом легких, и когда он в первый раз за чаем чихнул при Марье Гавриловне, та от неожиданности уронила стакан себе на платье и, бледная, мигающая часто, долго потом бормотала скороговоркой:
– Ах ты ж, господи Иисусе!.. Вот как я напугалась страшно!.. Как мне нехорошо…
И прикладывала руку к сердцу.
Так что потом старик предупреждал ее, говоря взволнованно-громко и отрывисто:
– Чихну!
И Марья Гавриловна мгновенно вскакивала со стула и на некоторое время потом застывала точно в ожидании взрыва. Но скоро привыкла и даже говорила в таких случаях нравоучительно:
– Это все потому, что вы при открытых форточках спите! Не иначе, – так!..
Когда Ваня зачислялся в Академию художеств, ему было восемнадцать лет, а на двадцать первом году он в первый раз выступил как борец в одном из петербургских цирков.
Это так случилось.
Неукоснительно точно в первых числах каждого месяца получаемые от отца девятнадцать с полтиною держали его в черном теле, а тело его, стремившееся расти бурно, требовало много даже черного хлеба. За беззлобие и крайнюю простоту так и звали его все в Академии просто Ваней, и вошло в обиход студенческой жизни выражение: «Голоден, как стая волков или как Ваня Сыромолотов». Только один раз привелось Ване несколько утолить постоянно мучивший его голод, когда, зайдя на Варшавский вокзал, он храбро и важно попросил себе целый телячий жареный окорок и довольно быстро оставил от него только тщательно обглоданные кости, а в окороке было с полпуда… Так как деньги за телятину Ваня обещал буфетчику занести на днях, когда должен был получить неизменные девятнадцать с полтиной, то буфетчик – зеленый и зеленоглазый, мокроусый хилый полячок – покачал укоризненно прилизанной головкой и сказал памятное:
– Да у вас, пане, могутности, должно быть, как у того бугая с заводу… а вы каких-нибудь восьми рублей не имеете в кармане!.. Это уж, пане, стыд!..
И еще раз покачал головкой и такими на него посмотрел глазами, что Ване действительно стало стыдно.
На другой же день он был на чердаке своего старшего товарища – только со скульптурных классов – квадратного, рыжего, длиннорукого и волосатого, как орангутанг, костромича поповича Козьмодемьянского, октависта церковного хора, давно уже предлагавшего ему заняться совместно французской борьбой… И вот на этом довольно вместительном чердаке началась такая возня, что жильцы верхнего этажа, сбежавшись и дойдя до крайней степени возмущения, привели дворника и грозили даже полицией.
Однако начало будущей известности Вани было заложено именно здесь, на чердаке Козьмодемьянского, у которого, кстати, были и гири и куда, наконец, перебрался жить Ваня. Чтобы не особенно беспокоить нижних жильцов, упражнялись в партерной борьбе, требовавшей тоже большой выдержки и уменья, но достаточно тихой. Когда у них не было денег, пробовали питаться знаменитой спартанской похлебкой, которую варили у себя на железной печке.
Варили ее добросовестно, соблюдая все указания рецепта, сохранившегося в учебниках древней истории, но, принимаясь есть, смотрели недоуменно один на другого и клали ложки. Потом начинали борьбу. Повозившись в партере с полчаса, побагровев, отдуваясь и разминаясь, принимались снова за похлебку, но после нескольких ложек ворчали:
– Черт их знает, этих спартанцев!.. Ну и придумали добро!.. Разве еще повозиться?
И снова начинали борьбу… Потом снова брались за похлебку и крутили задумчиво головами… И опять ложились в партер. Но часа через два, совершенно выбившиеся из сил и с мутными глазами, взявши ложки, они уже не клали их, пока не выедали кастрюли с похлебкой до дна, не оставивши даже хрящиков от свиных ушей.
Летом они вместе жили на академической даче, в местности болотистой и лесистой, не способной вдохновить ни одного в его живописи, ни другого в его скульптуре, но зато зеленая земля около дачи безропотно выносила какое угодно сотрясение при «мельницах», «зажимах головы», «передних и задних поясах» и прочих фигурах их борьбы.
А на следующую зиму оба записались в чемпионат. Но Козьмодемьянскому не повезло: не прошло и недели, как какой-то негритянский борец, совершенно неправильным приемом захватив его длинную руку, надломил ему лучевую кость; пришлось выйти из чемпионата. Зато до конца продержался в нем Ваня и продержался блестяще.
Сын известного художника, Ваня считал неудобным ставить на афиши цирка свою фамилию, он боролся в красной маске, и неизменно, когда выступал борец «Красная маска», цирк бывал полон.
Ловкий хозяин чемпионата привел «Красную маску» к полной победе над всеми белыми, желтыми, оливковыми и масляно-черными атлетами мира. В первых рядах цирка часто слышали густой шепот из-за кулис: «Ложись!», когда боролась «Красная маска», и коричневый алжирец или медный маньчжур-кули скоро после того попадался на тот или иной прием и касался пола лопатками, а уходя с арены, презрительно глядел на победителя и не подавал ему руки.
Однако и борцы оценили в Ване то, что даже после часовой упорной борьбы он бывал сухим, а приемы его все признавали исключительными по спокойствию и красоте.
Он и сам был красив: хорошего роста, с прекрасно слепленной головою, он и в Академии позировал иногда по просьбе профессоров и товарищей, когда классический сюжет требовал линий тела тоже классической чистоты и силы.
Чемпионат нарочно растягивали, всячески комбинируя пары. Участие в нем «Красной маски» оказалось очень доходным. Приезжали новые борцы, усердно раздувались уличными газетками и покорно ложились под «Красной маской»… Только в новом чемпионате, с приехавшим знаменитым Абергом во главе, «Красная маска» была развенчана, однако два раза в схватках с Абергом ей дали ничью, довели до неистовства и до бесчисленных пари всю публику, заставили в день решительной борьбы с бою брать билеты в цирк, с криками волнения следить за всеми моментами борьбы, подыматься на цыпочки с мест, вслух проклинать тех, кто стоит впереди, мешая видеть… И когда после второго перерыва Аберг прижал к полу «Красную маску», цирк заревел и завыл протестуя: так хотелось всем видеть воочию повторение старой истории Давида и Голиафа.
Однако хозяин чемпионата, в картузе и русской поддевке на дюжих плечах, не смутился недовольным воем и перекричал всех, объявляя:
– Аберг победил на двадцать седьмой минуте приемом тур де бра… По условию борьбы борец в красной маске должен снять маску… Студент Сыромолотов, снимите маску!
И когда перед притихшей толпою зрителей рядом с бочковатым оплывшим Абергом стал хотя и смущенный первым поражением и, видимо, очень усталый, но непобедимо, по-молодому улыбающийся двадцатилетний Антиной, цирк завопил большей половиною голосов:
– Браво, «Красная маска»!.. Реванш!
И реванш тут же был торжественно обещан этим широкогорлым молодцом в картузе, поддевке, красной рубахе и лакированных сапогах.
Но только через неделю оправился Ваня от нажимов чудовищной грудной клетки Аберга и от его железных тисков.
Реванш по согласию свели к ничьей, и опять неистовствовал цирк:
– Сту-дент Сыромолотов!.. Браво, Сыромолотов!
А в довершение, когда уже притихали вызовы, Козьмодемьянский, бывший в то время в цирке, такою октавою пустил: «Ва-ня, бра-вис-симо-о-о!..» – что вновь и надолго поднялись крики и аплодисменты.
За это в следующей борьбе Аберг уже на восьмой минуте прижал Ваню, но все-таки он и в этом чемпионате, получив второй приз за борьбу, получил первый за красоту сложения.
Эта зима разбила надвое Ваню, – и художник в нем был побежден атлетом. Между тем это был прирожденный художник с очень чуткой и богатой образами душой и точным, цепким глазом… И Академия всячески отмечала его, недаром один из старых профессоров писал его отцу, что «молодой Сыромолотов – любимое дитя Академии».
За «Полифема, бросающего скалу в Улисса» ему дали заграничную поездку, и перед тем как ехать в Италию, он заехал к отцу.
Это было уже в июле, когда город оранжевел от поспевающих в садах абрикосов.
В саду Сыромолотова были тоже два огромных старых абрикосовых дерева, которые именно теперь, в июле, бывали изумительны по красоте, когда каждая их ветка свисала вниз под тяжестью больших ярко-желтых пушистых пахучих плодов. Тогда обыкновенно для Марьи Гавриловны начиналась ее сладостная страда, которая тянулась недели две и больше: надо было собрать абрикосы все до единого, разрезать каждый, выбросить косточки, просушить сочные половинки на солнце и сложить про запас, но так, чтобы не проникла к ним моль; наварить банок двадцать веренья; сделать повидло… У Марьи Гавриловны была безукоризненно хозяйственная душа.
И вот теперь, к вечеру очень жаркого дня, когда Ваня на извозчике подъехал с вокзала к воротам отцовского дома, Марья Гавриловна с нижних веток собирала плоды в корзину, а сам Сыромолотов, устроившись на крыше вблизи слухового окна, в тени, писал верхушки этих деревьев, совершенно сказочные при отмиравшем уже солнце.
Улица тут была немощеная, извозчик подъехал тихо. Ваня хотел пройти в калитку, – она была изнутри на засове; хотел позвонить, но увидел, что звонок был испорчен.
– Вы постучите! – посоветовал извозчик.
– Э-э! – улыбнулся Ваня. – Я ведь не к чужим приехал!.. Попробую так!..
И перелез в сад через стену, отодвинул засов калитки, отпустил извозчика и внес свои вещи.
И так же бездумно и просто, как сделал это, увидев на крыше, за этюдом не заметившего его отца и приставную зеленую лестницу, ведущую на крышу, Ваня, положив чемодан, корзину и сверток на крыльцо, тихо поднялся по этой лестнице и из-за спины отца заглянул в его этюд.
Может быть, если бы, только заглянувши, он сейчас же спустился бы вниз, так же тихо, как и поднялся, ничего бы и не случилось, но он был искренне восхищен работой отца. В Академии давно уж его отпели, а Ваня видел этюд большой новизны, и смелости, и силы, каких даже и сам не предполагал в отце, не пускавшем в последние годы и его в свою мастерскую.
– Вот это так здорово! – сказал он громко, сказал так же, как говорил товарищам, если видел у них интересные по живописи вещи.
Старый Сыромолотов обернулся быстро, изумленно, может быть даже испуганно. Ваня видел, что он как будто и не узнал его сразу (это было понятно: Ваня очень возмужал за эти три года, как он его не видал), открыл пораженно рот и только движением языка бормотал:
– Это… это… это… это… это…
Но, узнавши его наконец и догадавшись, почему он тут и как он попал сюда, старик, огромным, по-видимому, нажимом воли овладевший собою, сказал раздельно и не очень громко:
– Дурак и скотина!.. Сейчас же отсюда вон!
И отставил этюд за выступ слухового окна и полуприподнялся со всклокоченными волосами, страшный, как Авраам с ножом на картине Андреа дель Сарто или как писанный с него же Левшиным Грозный, – и Ваня мгновенно потух и спустился поспешно вниз; а когда спустился, увидел Марью Гавриловну, – совсем незнакомую ему женщину, – которая испуганно вскрикнула: «Ах!» – и рассыпала собранные в пестрый рабочий передник абрикосы.
Вечером Ваня чинно сидел в столовой со знакомым уже ему арабским изречением на стене, пил чай и открыто и простодушно, как это было ему свойственно по натуре, слушал отца, а отец точно костяшками на счетах щелкал – сухо, отрывисто:
– Заграницу тебе дали – понятно… Было бы странно, если бы не дали… Сыромолотову!.. А я бы не дал!.. У твоего Полифема берцовой кости на правой ноге нет, – вата!.. А Улисс твой хорохорится, как болван… Он изо всех сил отгребать от берега должен, а не… ерундить!.. Не принимать позы!.. Почем он знает, куда Полифем добросит камень?
– Да ведь это не первый уж камень, – пробовал объяснить Ваня. – Первые, скажем, девять, что ли, не долетели, – почему же этот долетит?
– Ага!.. Не первый! Подпиши, что десятый, а то зритель этого не видит!.. И хоть он и Полифем… и циклоп, а десятого камня он так держать, как у тебя, не будет… Вот!
И быстро, как не ожидал от своего отца Ваня, он схватил тяжелое дубовое кресло, на котором только что сидел, и поднял его над головой на совершенно вытянутых руках.
– Видал?.. Это первый обломок скалы… А вот тебе десятый!
И он опустил локти почти вровень с линией плеч:
– Вот как придется десятый!
И, поставив кресло, сказал совершенно уничтожающе:
– Да ведь Полифем в это время был уже слепой!.. И только что был ослеплен Улиссом!.. Когда же он у тебя успел к этой своей слепоте привыкнуть?.. До чего прочно он у тебя стоит на каком-то тычке!.. Театральная собачка! Оперный баритон!.. А какое бы из этого одноглазого черта чудище махровое можно было сделать!.. Э-эх!..
– Да ведь это не картина, – эскиз, – пробовал увернуться Ваня, выпивая восьмой стакан. – Картина моя…
– Я знаю, что эскиз… Для мальчишки лет на пятнадцать… А тебе уж двадцать один… Дали тебе изжеванный сюжет, – тысячу двести раз этот сюжет жевали, – а ты его по-своему и взять-то не мог.
– В Академии, – тебе известно, – такие сюжеты по-своему брать нельзя… По-своему я вот буду свои сюжеты брать… – рокотнул Ваня.
– Свои?.. А у тебя они есть?.. Есть свои?.. – очень оживился отец, присмотрелся к нему и добавил решительно: – Не-ет! Ты еще глуп для своих сюжетов… глуп, как новый двугривенный!.. Ишь ты, бархатную куртку a la Гвидо Рени надел и думает, что это свой сюжет и есть!.. Свой сюжет у тебя будет, когда тебя пополам переедет!.. Колесом!.. Пополам!.. Понял?..
– Ты тогда? – удивился Ваня.
– А ты думал даром?.. Свой сюжет – болезнь… А, В, С, Д плюс обух тебе в голову!.. А, В, С, Д – это чужое, как у всякого Чичкина, а обух тебе в голову – это уж твой сюжет… Неотъемлемый, оригинальный… Пока яблочко не зачервивеет, – до Ильина дня не поспеет!.. А своего червя не заводится, – поди хоть на базаре купи, – только чтобы был!.. Без блина – не масленица, без червя – не художник!.. Этого тебе в Академии не говорили?
– Не говорили, – буркнул Ваня и добавил: – А ты это в Академии говорил?
– Я?.. Я многое говорил…
Ваня вздохнул, около лица помахал платочком и, налив себе еще какой-то стакан, заметил бездумно:
– Должно быть, там об этом забыли…
– Забыли?.. Гм… И хорошо, что забыли!.. И очень хорошо, что забыли! – весело как будто сказал отец, но веселость эта была явно злая. – Что бы всяким недоноскам и делать, если бы они все помнили?.. В этом-то их и счастье, что скоро забывают… Не удивлюсь, если и меня забыли, нисколько не удивлюсь! Нет!
И посмотрел с явным вызовом на сына, но Ваня молчал.
– И не удивлюсь, и не опечалюсь, и даже… даже и рад этому не буду! – добавил с силой отец и ударил перед собою по воздуху указательным пальцем. – Потому что и радость даже в таком случае, как если тебя забыли, глупое чувство, – понял?.. Разве я картины писал и выставлял, чтобы меня хвалили?.. Я их писал, потому что хотел писать, а выставлял, чтобы их покупали… Миллионов мне не надо, и сотен тысяч не надо… И того, что у меня есть теперь, мне за глаза довольно, – на кой же мне черт выставляться, скажи?.. Чтобы тебе наследство сдолбить?
– Зачем мне наследство? – усмехнулся Ваня вполне добродушно.
– То-то… Большого наследства не жди… И никакого не жди!.. Ничего! Все постараюсь прожить… до копейки!..
– Я уж получил от тебя наследство, – просто сказал Ваня, – чего мне еще?
И с явной целью переменить разговор добавил:
– Теперь что ни выставка, все новое слово в искусстве…
– Кубизм? – быстро спросил отец.
– Кубизм устарел уже… Теперь лучизм…
– Это… где-то в журнале я видел какого-то косоротого и оба глаза на одной правой стороне… и, кажется, подписано было: «Автопортрет лучиста такого-то…» Забыл фамилию… Нет, – не выходит у наших! Вот французы на этот счет мастера!.. То растянут, например, девицу аршина на три и толщиной в вершок, и без грудей, конечно, и замажут зеленой краской, – одна «революция» в искусстве!.. И журналисты ругаются, и наемные критики хвалят, и публика ломится на выставки… Потом ту же несчастную девицу сверху и снизу сплющат, как бомбу, и замажут розовым, – другая «революция» в искусстве, и опять публика ломится… Там это умеют делать. Поедешь – увидишь…
– Тебя послушать, – никакого резкого перелома в искусстве и быть не может, – улыбнулся Ваня.
– Как не может? – вскинулся отец. – Может! И очень может! Это когда влезет в него дикарь!.. Очень просто!.. Вопрется, исказит все, изгадит, изломает, исковеркает, искалечит и прокричит во всю свою луженую глотку: «Новая эра!..» Разумейте, языцы, и покоряйтеся!.. Разве может дикарь не орать? Какой же он тогда будет дикарь?.. А что сам о себе орет, – это тоже по-его радость творчества и подъем!.. У него и на это есть оправдание!.. Ору, потому что ломаю и гажу!.. Ак-ком-пане-мент!..
– Так, может, и вообще, по-твоему, нет искусства? – сказал вдруг Ваня серьезно.
– Как нет? – поднял брови отец.
Ваня подумал, не налить ли еще стакан, но вспомнил, что воды уже нет в самоваре, и, отставив стакан, ответил:
– Если оно, по-твоему, не может измениться, то выходит, что его и нет, то есть, что оно не нужно совсем… То есть, если человек изменяется, а искусство не хочет изменяться, то человек его бросит и пойдет дальше один, без лишнего балласта… как легче…
– Ага!.. – еще выше поднял брови отец. – Значит, если нельзя выдавать за портреты кучу обрезков водосточных труб, то вывод из этого: нет искусства?.. Нет, из того можно сделать другой вывод!.. И я его сделал!..
– Какой? – просил Ваня.
– И я… его… сделал!.. – сузил до мелкой горошины и без этого небольшие глаза отец.
Но потом вдруг вспомнил что-то и, вскочив с неожиданной легкостью, подошел, распахивая полы халата, к столу направо, где лежали какие-то книги и папки, проворно достал там сложенную вчетверо газету и пенсне, без которого не мог уже читать при лампе, перевернул – оказалось «Новое Время» – и прочитал раздельно:
– Вот… «Аберг – студент Сыромолотов (решительная борьба)». Это… наш однофамилец?.. Ты не знаешь?
– Гм… – нерешительно крякнул Ваня; посмотрел на тугую свою левую ладонь, на отца, который уже снял пенсне и стал прежним, пристально ожидающим, еще раз крякнул и сказал наконец, катая хлебный мякиш: – Это я, конечно…
– Та-ак!.. Ты?.. До-га-ды-вался я…
Постучал старик по столу ногтями пальцев, шумно перевел дыхание, точно поднялся на третий этаж, и добавил неожиданно тихо:
– Это ты… это из каких же целей?..
Ваня перебрасывал тем временем в голове все ответы, какие он мог бы дать, и когда натолкнулся на простой детский, хотя и лукавый ответ, улыбнулся вдруг по-детски и сказал беспечно:
– Не выдержал… Зашел как-то в цирк… мускулатуру посмотреть… для «Полифема»… а там у этих борцов важности хоть отбавляй… Я и сцепился…
– И?.. И кто же кого? Ты ли Аберга этого или Аберг тебя?
Ваня присмотрелся к отцу, желая определить, знает ли он, кто кого, или не знает, но лицо отца, тянувшееся к нему правым ухом, было только настороженным и злым.
– Так ведь сказано: «Решительная борьба», – ответил Ваня уклончиво: – значит, две борьбы были вничью…
– А третья?.. Третья?
– Папа думает, что Аберг – это так, какая-нибудь ерунда! – пробовал и тут уклониться Ваня. – Нужно же знать, кто такой Аберг!..
– А на черта мне знать какого-то Аберга! – крикнул отец. – Хоть бы он черт или дьявол!.. А видишь, что не дорос, – и не суйся!.. Не суйся!.. Не срамись!.. Не лезь, если не дорос!.. Циркач!..
Но тут же крикнул в глубину комнат:
– Марья Гавриловна-а!..
И Марья Гавриловна явилась тут же, вся серебрясь застенчиво. Очаровал ее Ваня. В начале чая, посидев немного за столом, она ушла из столовой, почувствовав, что незачем ей тут быть. Но далеко она не уходила… Ни одного звука этого молодого рокочущего голоса не хотела она пропустить. Она стояла в другой комнате и шептала все: «Ах, как можно!.. Как же так можно!..» Она даже придумывала про себя, что такое нужно сказать старику, чтобы вышло понятно ему: «Разве можно говорить таким тоном с таким сыном, да еще три года его не видавши?.. Он – единственный, и притом такой!.. Его приласкать надо!..» И даже слезы навертывались ей на глаза, как от личной обиды.
– Что-нибудь надо? – спросила она, войдя. – Может, самовар подогреть?.. – Взяла было его со стола и ахнула: – Ах, господи, он пустой совсем!.. Как хорошо, что потух – догадался, – а то бы паять нести!..
И смотрела на Ваню, любуясь и лучась и улыбаясь краями губ и глаз и каким-то стыдливо-разбитым локоном волос над правой щекой и белым цветочком портулака, приколотым с левой стороны груди.
– Нет, самовара никакого больше не надо, – отчетливо сказал отец, на четыре части разрывая газету очень деловито: – Я вижу, что он готов и целый колодец выпить, – взопрел со своим Абергом!.. Вредно на ночь! Ты где будешь спать – у меня или в гостинице?.. Если у меня, то здесь, – вон диван!.. Белье ему наше дайте, а то в его – клопы… Вот тебе Аберг!.. Выходит, тебе у немцев учиться надо, – они тебя на лопатки кладут, – а итальяшки что? – Дрянь!.. Поезжай в Мюнхен!..
– В Мюнхен? – отозвался Ваня, провожая глазами Марью Гавриловну, уходящую с самоваром.
– Что? За совет принял?.. Никому не даю советов, – тем более сыну взрослому… Сын взрослый, которому отец совет дает, ясно – глуп, а отец – вдвое. Когда слушались сыновья отцовских советов?.. Никогда!.. Значит, это закон, – и зачем же мне против него переть?.. И никаких от меня советов не жди… И поезжай, куда хочешь…
Постельное белье для Вани было уже готово у Марьи Гавриловны, и, поставив самовар в другой комнате, она тут же внесла белье: так нетерпеливо хотелось ей что-нибудь сделать для очаровавшего ее Вани, и, глядя на нее, добавил Сыромолотов:
– Марья Гавриловна думает про меня, должно быть, что я плохой отец…
Та молчала.
– Вижу, что думает!.. Однако это неправда!.. Я… прекрасный отец!
Дня через три, получив заграничный паспорт, Ваня уехал в портовый город (тот самый, где был у Ильи Лепетова Алексей Иваныч Дивеев), а оттуда, устроившись на итальянском пароходе-хлебнике, отправился в Неаполь.
Хороша каждая чужая страна, способная чем-нибудь поразить воображение, но всех почему-то милее та, к которой уже заранее готова прильнуть душа, так как больше всего человек готов видеть то, что он желает видеть. Если бы не было этого странного свойства, сколько ученых отказались бы легко и просто от своих предвзятых теорий, тормозящих науку; сколько будущих реформаторов покончили бы со своими кабинетными потугами осчастливить страждущее от социальных зол человечество, и сколько влюбленных давно бы изменили предметам своей любви!.. Однако человек – только плохо связанная цепь привычек: отталкиваясь от одной, он тут же проваливается в другую…
Ваня привык к Италии еще до приезда в Неаполь, как привыкает к ней всякий молодой художник севера, но, попав в Италию и прожив в ней около года, «любимое дитя русской Академии художеств» не оправдало возлагавшихся на него надежд.
Несколько было тому причин: дорогие натурщики, дешевые таверны, веселые цветочницы, очень много солнца, еще больше свободы, слишком широкие планы и тесная комната, неудачная связь с художницей Розой Турубинер из Одессы и, наконец, землетрясение в Мессине.
Правда, землетрясение в Мессине было за четыре года перед тем, но в тот день, когда он встретился с атлетом Джиованни Пасколо, была как раз годовщина этого страшного события, и газеты вышли полные воспоминаний о нем и воззваний к добрым сердцам граждан Италии.
В этот день была ссора с Розой, уже беременной и потому требовательной и капризной; в этот день нужно было платить за комнату, и не нашлось денег, и вечером он шел довольно мрачный проведать кого-нибудь из товарищей и попросить взаймы, но даже не знал, кого выбрать: не больше как за три дня перед тем к нему заходили с тою же целью двое.
Все это расположило его к тому, чтобы завернуть на голос крикуна-мальчишки в скромный зал, где за двадцать сольдо Пасколо показывал приемы с гирями. У входа в зал изображен был, конечно, очень бравого вида малый в трико с огромными зелеными почему-то гирями и микеланджеловскими буграми мышц.
Пасколо, так значилось в афише, вызывал любого из публики проделать те же самые приемы с гирями или победить его в швейцарской борьбе на поясах и ставил за себя залог в сто лир. И когда входил в небольшой зал Ваня, он думал, что недурно бы было заработать сто лир, – но нравы борцов и атлетов были ему известны. Итальянцы вообще скупы, а их атлеты самые скупые из итальянцев.
Если бы было позднее, Ваня объяснил бы понятной усталостью, что ломбардец, далеко не такой могучий в натуре, как на афише, с таким напряжением подымал гири и с таким стуком ставил их на пол, – но он только что начинал представление. И когда, вытирая пот, вызывал он кого-нибудь из публики убедиться, что гири не пустые внутри, Ваня тяжелой своей походкой взошел к нему на эстраду, снял куртку и проделал свои упражнения, более трудные, чем у ломбардца, с такою легкостью и чистотой, что восхитил зал. Раздраженный Пасколо тут же предложил ему швейцарскую борьбу, а крикун-мальчишка созвал на нее улицу.
И, несмотря на ловкость ломбардца и несмотря на его ярость, в двух схватках он был побежден Ваней.
– Cento liro, signore Pascolo! – вполголоса обратился к нему Ваня, протянув руку.
– Possa morir d'acidente! (Умри без покаяния!) – сердито буркнул Пасколо.
Тогда Ваня, поняв, что ничего не получит, крикнул в публику:
– Сто лир, какие мне следует по уговору получить с Пасколо, жертвую пострадавшим мессинцам!
Известно, что русские матросы самоотверженно работали во время землетрясения и спасли многих, и это вспомнили газеты того дня, а теперь здесь молодой русский медведь жертвовал сто лир на мессинцев.
Восторг публики был очень шумный, случай этот на другой день попал в газеты, и хотя ста лир так, кажется, и не уплатил Пасколо, но Ваню вскоре после этого пригласили в чемпионат в цирк, и он не отказался. Здесь выступая, познакомился он с эквилибристкой рижанкой, Эммой Шитц, и та немедленно завладела им, явилась к нему в комнату, выбросила за дверь Розу Турубинер, а потом перевезла его к себе вместе с мольбертом, холстами и гирями, и всю зиму, и весну, и лето Ваня вместе с нею бродил по крупнейшим циркам Европы.
К осени 1913 года он вздумал вернуться в Россию, но сколь ни тянула его Эмма в свое Балтийское море, уговорил ее все-таки посмотреть Афины, Константинополь и, кстати, тот город, в котором затворился от света его отец.
В чемодане его были не только ленты, жетоны и звезды за борьбу, но еще и деньги.
Почти полтора года не видевший отца, Ваня не нашел его постаревшим; вообще в нем как-то не было перемены даже при зорком огляде его с головы до ног. Тот же был и халат серый, с голубыми кистями пояса, та же безукоризненно чистая под халатом рубаха, тот же прямой постанов большой большелобой головы, то же откидыванье правой руки, – собственно кисти ее, – от себя и вперед, даже волосы заметно не поседели, не поредели.
И Марья Гавриловна оказалась та же. Она так же засияла вся, его увидев, так же мелкими лучиками брызнули ее глаза, и краска покрыла щеки, – и так же к обеду пришла она с каким-то белым цветком на новенькой, хорошо сидящей кофточке, темно-лиловой, с кружевной отделкой, видимо только ради его прихода и надетой, так как был будничный день.
Но сам Ваня чувствовал, что он далеко не тот, как тогда, почти полтора года назад, и понимал, что отец, внимательно на него глядевший, это заметил.
Отец с этого и начал.
– Поумнел будто немного?.. Да, конечно, пора… Сколько уж тебе?.. Двадцать третий?.. Порядочно… И все-таки заграницы видел… Ев-ро-пу! В Европе неглупые люди живут… а? Правда?
Это было за обедом, когда все окна были отворены в сентябрьский сад, пыльно-зеленый вперемежку с глянцевито-желтым.
– За границей живут люди и не очень умные и не очень богатые, – медленно ответил Ваня. – А главное, совсем не очень счастливые… то есть, довольные…
– Что-о? – поднял брови отец. – Не очень счастливые?..
– Да… и, кажется, не очень под ними прочно.
– Ого!.. Червь!.. – кивнул бородою отец почти весело.
– Какой червь? – не понял Ваня.
– Нашел своего червя? Я тебе говорил, – напомнил отец. – А двух обеден для глухих не служат!..
И Ваня вспомнил и улыбнулся длинно:
– Может, это еще и не червь… хотя на него похоже.
Вспомнил еще, что тогда говорил отец, и добавил:
– Главное, – меня пока не переехало… Меня как известную личность… Только мое прежнее переехало отчасти.
– Ага!.. Обжегся?.. Показали тебе, как надо работать! Учиться этому надо… Только вот на Марью Гавриловну я удивляюсь! Откуда это у нее? Знает, что такое порядок!.. И работать любит…
Марья Гавриловна, в то время только что принесшая суп в большой эмалированной кастрюле, так была польщена этим, что даже оторопела на миг и только потом уже, окончательно залившись румянцем, защищалась конфузливо:
– Уж вы скажете!
Но когда уходила (она опять не садилась за общий стол при Ване), каждая складка ее шуршащего платья казалась трепетно радостной.
– Тициан!.. А?.. Сколько работал! – покрутил головою отец.
– Сколько жил! – улыбнулся Ваня. – Дай бог и половину его века прожить!..
– Можно прожить и двести лет и ничего не сделать!.. Видел в Венеции, в академии его «Вознесение Девы Марии»? Нет? Ты, значит, не был в Венеции?.. Гм… Почему же? Ну, а в Неаполе в музее «Данаю» видел?.. Видел?.. «Даная»!.. Какой колорит!.. А Поль Веронезе… Или Тьеполо. «Антоний и Клеопатра»! А?.. Или… да, ты не был в Венеции!.. Это очень скверно… очень скверно, что ты не был в Венеции!
– В Венеции, или в Неаполе, или в Риме, – все равно… Или в нашем Эрмитаже, когда в Петербурге бывает солнце и что-нибудь можно разглядеть, кроме копоти… все это такое старье!.. – с ударением и брезгливо сказал Ваня, съедая третью тарелку супа.
– А-а!.. Старье!.. Да-а?.. Надоело!.. Новое лучше?.. Кто же?.. Сегантини?.. Несчастный Сегантини с его козлятками?.. Или Макс Клингер?.. Зулоага – испанец?.. Цорн?.. Или Штук из Мюнхена?.. Ты был ли в Мюнхене?.. Головой мотаешь?.. Нет?.. Где же ты был?.. В Париже?..
Но Ваня не дослушал; он сказал досадливо:
– Про какую ты все старину!.. Почти так же стары они все, как Тьеполо!.. И никому там они не нужны!..
– Вот что-о! – искренне изумился Сыромолотов. – Так там не для экспорта к дуракам нашим, ко всяким Щукиным и Морозовым, существуют все эти лучизмы?! Там этим увлекаются сами?.. По-твоему как будто так?.. Не верю!..
Уже по тому, как начинали загораться глаза отца и большелобая голова стала откидываться назад, ясно становилось Ване, что скоро должна оборваться беседа; однако он даже и не пытался удержаться; сам покатился вниз.
– Верь или не верь, только в искусстве теперь много ищут.
– И находят?.. Много ищут и… что именно находят?..
Он перестал есть, только следил, как пережевывает баранину Ваня.
– Пустоту?.. Так ты думаешь?.. – медленно спросил Ваня. – Нет, – есть в том, что находят, много современного… И потому именно ценного, что современного…
– А-а!.. Ого!.. Искусство, потому только ценно, что современно?.. Например, – искусство средних веков до Ренессанса?.. Это там последний крик моды – современность?..
Ваня сказал спокойно:
– Последний крик я еще здесь слышал… Слишком навалилось старое… Нечем было дышать…
– Ага!.. И я уже это слышал… Или где-то читал… Даже таким, как ты, нечем дышать?..
– Видишь ли, папа… Слишком много машин нахлынуло в жизнь, поэтому…
– Их надобно уничтожить?.. Чтобы дышать? – живо перебил отец.
– Напротив!.. Их надо успеть переварить… потому что потом будет еще больше…
– Впитать в себя?
– Именно!.. Впитать в себя и по ним перестраиваться?
– По машинам перестраиваться?
– Отчего же нет?.. Раньше говорили ведь, например; «Человек этот точен, как часы». Часы тоже машина…
– А теперь нужно бегать и прыгать головой вниз с пятого этажа, как Глупышкин в кинематографе?.. И оставаться целым?..
– Я еще не знаю сам, как надо: так или иначе, – раздумчиво проговорил Ваня. – Однако в жизни появился бешеный темп…
– Ну!..
– Этот бешеный темп проник и в искусство…
– Этто… Этто… Четыре года писал Леонардо свою «Джиоконду»!.. Четыре года!.. За сколько времени могут написать ее при твоем бешеном темпе?.. А?.. За четыре часа?.. И напишут?.. И выйдет «Джиоконда»?..
– Ты все вытаскиваешь мертвецов из могил!.. Пусть их спят! – улыбнулся криво Ваня. – Давно уж все забыли о «Джиоконде»!..
– А!.. Вот что ты вывез из-за границы!.. Хвалю!.. Эта смелость… была и в мое время, конечно!.. Кто не находил, что у «мадонн» Рафаэля бараньи глаза?.. Новые птицы, – новые песни… Но к чему же, однако, пришли?.. Венец и предел?.. Венец и предел?.. Что и кто? Нет, – это мне серьезно хотелось бы знать!.. Я… знай, я твой внимательный слушатель!..
– Учителей современности в искусстве ты, конечно, знаешь и сам, – уклонился, по своей привычке в разговоре с отцом, Ваня.
– Кого?.. Этто… Этто… Сезанны!.. Се-зан-ны?..
– Сезанн был один… И он теперь признанный… гений…
– Се-занн – гений?.. – даже привскочил на месте Сыромолотов. – Этто… этто… Этто – яблочник!.. Натюрмортист!.. Этто… Этто – каменные бабы вместо женщин!.. Кто его назвал гением?.. Какой идиот безмозглый?..
– Словом, пошли за Сезанном, – кто бы он ни был, по-твоему… За Гогэном… Ван-Гогом… Это тебе известно…
– Ого!.. Ого!.. Го-гэны со своими эфиопами! Ноги у эфиопов вывернуты врозь!.. Ван-Гоги!.. Этто… «Ночное кафе»!.. Хор-рош. Этто… сам себе уши отрезавший?.. В наказание… В наказание, что полотно портил… Не имея на это никакого права!.. Кристаллограф этот?.. Кто сказал ему… этто… что он художник?.. Кто внушил этому неучу, что он может писать?.. Гипноз!.. Этто… непостижимый гипноз!..
– Передают материальность предметов… и живых тел… Чего не знала прежняя живопись… ваша… и ранняя… – с усилием сказал Ваня.
Но отец только удивился искренне:
– Не знала?.. Как не знала?
– У всех ваших… и ранних картин… было в сущности только два измерения…
– Вы это нашли?.. Только два?.. Значит, не было перспективы?.. Этто… Ни воздушной, ни даже линейной?..
– Была, конечно… В зачатке. И для больших планов… А вот – тяжести предметов… вещности передавать не умели…
– Если бы даже!.. – поднялся было отец, но тут же сел. – Если бы даже научились передавать вес – и только?.. Значит, только это?.. До нас не умели, и мы не умели, а теперь поняли?.. Поняли, что такое тяжесть?.. Теперь умеют?.. И только тяжесть вещей и чувствуют?.. А… Этто?.. Только ее и считают нужным передать?.. Мозгля-ки!.. Ах, как поразительно: предметы имеют вес!.. И тела!.. Открытие!.. Значит, прежде, прежде… (Ведь вы всю прежнюю живопись отрицаете!..) Значит, прежде, когда для художников не было тяжести в предметах, когда не чувствовали они этой тяжести вашей совсем… И «Ночные кафе» писали, но ушей… ушей себе не резали!.. Значит, тогда… этто… этто… было хуже?.. Атлант на своих плечах держал свод небесный!.. Свод небесный со всеми звездами в нем!.. Вот какое представление о тяжести было у греков!.. Держал, – значит мог держать, – и тяжести не чувствовал!.. Привычное, легкое дело!.. И Геркулесу передал: «На-ка, подержи!..» На время, конечно, пока в сады Гесперид лазил, яблоки для него красть… И Геркулес тоже держал свод небесный!.. А для вас – яблоко – тяжесть!.. Не яблоко от Гесперид, а простое, житейское… Синап какой-нибудь, или грушовка!.. Микеланджело, по-вашему, не чувствовал тяжести, – а сколько тысяч пудов весу в его «Страшном суде»?.. Или ты и «Страшного суда» не видал?.. Однако там, кроме вашей тяжести, есть еще и «Суд» и притом «Страшный»!.. А ведь вы своих пачкунов несчастных, ни одной картины не написавших, – выше Микеланджело, конечно, ставите!..
– Выше не выше, – попробовал было вставить Ваня, – только расширились границы искусства… Чего прежде не могли, – теперь могут…
– Пухом!.. Пухом!.. – кричал в это время, не слушая, Сыромолотов. – Мертвецам даже желали, чтобы земля им пухом была!.. Земля – пухом… А вы… Вы… этто… и пух даже готовы сделать таким, как земля!.. И в пухе тяжесть!.. Этто – маразм! Вот что это такое! Этто – этто – бледная немочь!.. Вы – слюнтяи… сопляки!.. Вас… Вас на тележках возить!..
– Это таких-то, как я? – спросил Ваня.
– Однако… Однако ты их защищаешь!.. Однако, – этто, – ты на их стороне!..
– Я говорил тебе, что есть… – уклонился от ответа Ваня.
– А ты?
– О себе самом я тебе не говорил…
– Однако… Я вижу это по тону!.. По тону вижу!.. Где картины их?
Спросил так быстро и настолько переменив голос, что Ваня не понял.
– Чьи картины?
– Эттих… эттих… современных твоих?.. Венец и предел!..
– Сколько угодно!..
– Картин?.. С каким-нибудь смыслом?.. Со сложной композицией?.. Картин, которые остаются?..
– Э-э… картины!.. Это – брошенное понятие… – вяло сказал Ваня.
Марья Гавриловна принесла в это время кофе, которое неизменно после обеда пил Сыромолотов, и взгляд, которым она обмерила обоих, был явно тревожен. Она не понимала, о чем говорят теперь отец с давно не видавшим его сыном, но слышала, что отец так же серчает и теперь, как и в первый приезд Вани, и так же, как тогда, нужно бы и невозможно упросить его быть ласковей.
– Как этто – «брошенное понятие»?.. – очень изумился отец, глядя на Ваню зло и остро.
– Теперь – находки, а не картины… Открытия, а не картины… Одним словом, – разрешение таких задач, которые…
– А что же такое была картина… и есть!.. Она тоже была… и осталась!.. Находкой!.. Открытием!.. И во всякой картине решались технические задачи… Но они были соз-да-ния духа!.. Они были твор-че-ство!.. И они оставались… и жили столетиями… И живут!.. А теперь?..
– Теперь?.. Теперь есть очень много очень талантливых художников… И они вполне современны… И это их достоинство…
– Ого!.. Ого!.. Очень много!.. И очень талантливых!.. Ты… этто… шутя?.. Шутя, может быть?.. Вообще опять говоришь, или этто… ты сам?..
– Нет, и не шутя, и сам…
– Очень много и очень талантливых?.. Этто… этто… кто же такие?.. Да ты… понимаешь ли, что ты говоришь?
Ваня пожал плечами.
– Что же тут такого ужасного!..
– А то у-жас-но, – что я… на тридцать пять лет старше тебя… этого пока еще не говорю!.. Я еще не говорю, а ты… сказал!.. Я иду по улице… этто… иду и не говорю… и даже не ду-ма-ю… Да, даже не думаю!.. – «Какая масса…» или: «Как много молодых людей теперь появилось!..» Не-ет!.. Я думаю: «Как много дряхленьких!.. Как много слабеньких!.. Какая масса недоносков разных… Неврастеников явных!.. Худосочных!.. Какие все вырожденцы!.. И отчего это?..» Вот что я думаю!.. Это я просто как человек так думаю… А как художник… как ху-дож-ник я и теперь не думаю и… не говорю, что много талантов… Откуда такой наплыв?.. С луны?.. Есть тьма подражателей, эпигонов, статистов, свистунов всяких, но талантов… Талантов – два-три, – обчелся!.. А в твои годы… ого!.. В твои годы, – знай! – я думал, что только один настоящий, подлинный и прочный талант и есть в Россиия!.. Вот что я думал!.. И если так не думает каждый молодой художник, – пусть он бросит кисти, пока не поздно, – да!.. Пусть идет в писцы, а красок ему незачем портить! Пусть идет в циркачи… да!.. В борцы!.. Да!.. Ты думаешь, я не знаю, что ты делал в Риме?.. Я знаю!.. Писали мне!..
– Гм… Знаешь?.. Тем лучше… – катая хлебный мякиш в толстых пальцах, сказал Ваня, не глядя на отца, и добавил ненужно: – Кто же тебе это писал?
– Кто бы ни писал, – значит правда?
– Что выступал в римском цирке?.. Что же тут грешного?.. Коммод был император, – не мне чета! – однако и он выступал в том же римском цирке!..
– А Мессалина!.. Мессалина!.. – почти задохнулся старик. – Мессалина… императрица была, однако продавалась, говорят, солдатам… сволочи всякой!.. По сестерции!.. По сестерции за прием!..
– Да, конечно… Императрица могла бы продаваться дороже, – протрубил Ваня спокойно.
– Этто… этто… это…
Сыромолотов был явно взбешен почти в той же степени, как тогда, когда Ваня нечаянно застал его на крыше за этюдом; и, как тогда, сдержавши себя нажимом воли, спросил вдруг, отвернувшись:
– А вещи твои?
– В гостинице… где я остановился, там и вещи, – старался тщательнее округлить хлебный шарик Ваня.
– Ага!.. Рассудил, что так будет лучше?.. – поднял брови отец.
– Да-а… Потому, во-первых, что я ведь теперь не один…
– А-а!.. Так… Товарищ?..
– Женщина… Да… Конечно, товарищ…
– Гм… женщина?.. Художница?..
– Не-ет… То есть в своем роде художница, конечно… Акробатка… Очень высокой марки… Воздушные полеты… на приборах, разумеется, а не на моторах…
– Акро-батка?.. Этто… этто… (Сыромолотов два раза с усилием глотнул воздух)… этт… Сестра Аберга?.. Фрейлин Аберг?.. А-а?
– Шитц… Эмма Шитц!.. Известная…
– Но немка, немка!.. Все-таки немка!..
– Немка… Только она – русская немка… Из Риги…
– Шитц?.. Ши-итссс! – с присвистом и ужимкой повторил Сыромолотов. – Тты все-таки хорошо сделал, что остановился в гостинице!.. Да!.. Хвалю!.. У тебя все-таки есть такт!..
– У меня хватит такта и уйти! – сказал Ваня, улыбаясь почему-то и подымаясь.
Отец поднял плечи, развел на высоте их руками…
– Как находишь!.. Как находишь, так и поступай!.. Как находишь! И всегда поступай, как находишь!.. Держись эттого только!.. Да!.. Всю свою жизнь… Да!..
И Ваня ушел.
Он не приходил к отцу потом несколько дней, и тоскующая Марья Гавриловна, все его ожидавшая, принесла Сыромолотову случайно подобранную на базаре новость, что Ваня купил старый двухэтажный дом, кварталах в четырех от дома отца на том же Новом Плане, и теперь занят его ремонтом.
Если бы самому Ване, когда он ехал с Эммой на родину, сказали, что он купит дом в четырех кварталах от дома отца, он рассмеялся бы так же весело, как Эмма, когда он сказал ей, что купил дом. Этот случай с покупкой дома был одним из тех неожиданных для него самого поступков, на которые он жаловался впоследствии Худолею.
Почему именно в тот раз, когда он шел от отца, придавливая грузом своего тела гибкие доски тротуара, кинулся ему в глаза (и приковал) коричневый указательный перст на беленом железе, упершийся в совершенно ненужные ему два слова: «Дом продается», – почему он так притянул его к себе, этот неискусно намазанный перст, Ваня не понимал. Но, зайдя тогда же к хозяину, отставному чиновнику, дряхлому, с больными красными глазами, он приценился к этому дому шутя, и, когда оказалось, что если он примет на себя закладные, то доплатить за дом придется всего девятьсот рублей (у него же было тысяча семьсот), Ваня сказал просто и весело:
– Что же, вот возьму да куплю!.. Тем, кто у вас не купил его, – назло!..
– И не ошибетесь! – замигал перед ним красными глазами хозяин: – И не ошибетесь!..
Однако смотрел на него недоверчиво: ясно было, что этот молодой и красивый и крайне здоровый шутит: зачем ему дом в такой глуши?
Но на другой же день, тайком от Эммы, Ваня вместе с ним был в конторе нотариуса Кугутова, с очень деловым видом познакомился с закладными, по которым надо было платить проценты, прослушал купчую, бойким неошибающимся слогом и кудрявым почерком написанную на орденом листе лиловатой бумаги, расписался в какой-то толстой книге, что получил ее… Деньги чиновнику со слабым зрением и катаральным лицом уплатил полностью, расходы же по купчей принял на себя только в половинной доле, и вышло что-то не так уж много; а так как бывший владелец, вместе с женою, тоже болезненным и отставным существом, разделавшись с домом, уезжал к сыну в Казань, то Ваня, дня через три после покупки, пригласил Эмму отпраздновать новоселье.
«Свой дом» – для женщины, кто бы она ни была, хотя бы и акробатка из цирка, имеет иногда тайный, но чаще явный – тот же самый смысл, как гнездо для птицы, и, рассмеявшись сначала словам Вани, как шутке, потом весьма энергично обругавши его за сумасбродство, Эмма тут же собралась все-таки смотреть покупку, и, если не самый дом, то большой тенистый старый сад при доме (не меньший, чем у отца Вани) ей понравился чрезвычайно, и как только уехали из него старые хозяева в Казань, она очень бурно и умело, как и не ожидал от нее Ваня, принялась за ремонт дома сама, ладилась с белильщиками, плотниками, малярами, – такие способности выказала к этому, точно целую жизнь с колыбели только и занималась ремонтом старых домов. Даже и расходы все до копейки записывала аккуратно, и на четвертый или пятый день своих хлопот стала уж говорить: «мой дом»…
И под ее руководством, часто крикливым и неособенно вразумительным, не больше, как через две недели, дом имел приличный, почти новенький вид, и она уж говорила Ване, кружась и щелкая пальцами:
– Das ist sehr gut!.. А?.. Теперь мы купим автомобиль и каждень, каждень, каждень будем катать – фю-ю-ю!.. Нах Южберег! На море: купаться!.. Это паршивый, такой паршивый твой город: нет река!
Правда, здесь речка хоть и была, но такая узенькая и мелкая, почти пересыхающая летом, что купаться было негде. Но зато Эмма завела ванну и душ и, расположившись во втором этаже дома, как в привычном для нее цирке, в балки потолка в самой большой комнате приказала ввернуть крюки для своих трапеций. В этой же комнате, где как раз было много и света, поместил и Ваня свой мольберт, и неизвестно, почему это произошло: от сознания ли, что он в «своем доме», или причина была другая, только он принялся за брошенную было живопись с жаром, работал, как он сам говорил, «со сжатыми зубами» – и это в то время, как Эмма, тренируясь, вертелась на трапециях и заботливо тянула его к гирям.
Странная чета эта – Ваня и Эмма, – скоро заставила говорить о себе город. Ваня кончал реальное здесь, только жил не у отца, а в интернате, и его многие знали, а история с покупкой дома показалась всем очень загадочной и наводящей на размышления, иных на дешевые насмешки, а иных даже на грусть. Так, один из учителей Вани, педагог из новых, известный передовыми идеями, встретясь как-то с ним в писчебумажном магазине, куда он зашел за тюбиками кадмия, сказал громко, горестно и ясно порицающе:
– Рано… рано, батенька мой!.. рано сделались вы рантье!
И Ваня даже не нашел, что ему ответить, этому своему учителю, только поспешно с ним попрощался и вышел из магазина.
Но где с большим, искренним и нескрываемым любопытством следили за тем, что делалось в доме Вани, – это у его отца.
Марья Гавриловна, когда шла на базар за провизией, даже сознательно делала порядочный круг, только бы пройти мимо новокупленного дома Вани, и о том, как подвигался ремонт, и об Эмме, которую она видела очень близко, осмотрев ее, как женщина женщину, зорким и ревнивым взглядом, – она с большим оживлением рассказывала Сыромолотову; а когда Эмма наняла прислугу, пожилую и рябую бабу Настасью, Марья Гавриловна не замедлила познакомиться с ней, не сказав ей, кто она сама и где служит, – и узнала от нее, что хозяева ее – люди совсем пустые – артисты, – нынче здесь, завтра там, – что половина комнат у них пустая, даже не на что завести обстановку, какую надо, – хозяин полдня возится с гирями, – и, видно, силкой бог не обидел, – полдня малюет, хозяйка – немка, все качается в комнате на качелях.
И как своему бывшему учителю не угодил Ваня тем, что очень рано, по его мнению, «стал рантье», так и Марья Гавриловна никак не могла примириться с Эммой и, передавая о ней Сыромолотову, говорила решительно и скорбно:
– На-шел же такую!..
И чаще так, – не его виня, а ее:
– Напалась же на него такая!..
Но, к удивлению ее, старик только улыбался, когда слышал это, и однажды вечером, – уже в девятом часу, – попросил вдруг Марью Гавриловну, чтобы она показала ему, где дом его сына.
Однако Марья Гавриловна сразу застыдилась страшно:
– Ну что вы, Алексей Фомич!.. Как же это возможно, чтобы нам вдвоем на улице показаться… ночью!..
– Какая же ночь теперь?.. Вечер!.. – возразил Сыромолотов. – И почему же это невозможо?
– Да мало ли что говорить станут?.. Что это вы?
– А что же такое именно говорить станут? – захотел узнать Сыромолотов, но Марья Гавриловна уже выбежала из комнаты, как птица крыльями взмахнув руками.
Однако минуты через две была уже одета сама и ему принесла из прихожей пальто, шляпу и палку.
Это было действительно в первый раз за все три года, которые прожила у него Марья Гавриловна: Сыромолотов всегда выходил из дому один, – теперь же они чинно шли по деревянным мосткам по улицам, слабо освещенным фонарями, и Марья Гавриловна командовала:
– Теперь сюда!
Или:
– А теперь налево!
Или, наконец, почему-то тихо:
– А теперь вот еще один-единственный этот квартал, и придем…
Сыромолотов шел молча.
Только один раз он, по привычке, предупредил ее взволнованно громко, как за чаем: «Чихну!» – и чихнул на весь, пожалуй, Новый План.
Но когда они подошли, наконец, к дому Вани, выходившему фасадом на улицу, Сыромолотов очень внимательно оглядел его, заходя справа и слева по тротуару другой стороны улицы. В верхнем этаже освещены были три окна, и на среднее начала падать вдруг колеблющаяся тень.
– Качается! – тихо и скорбно сказала Марья Гавриловна, покачав головой.
– Ателье художника Сыромолотова – fils! – громко и отчетливо сказал Сыромолотов и, перейдя через улицу, которая была тиха и пустынна, и постояв немного у самого дома, вдруг очень похоже, протяжно и с завываньями замяукал, как мартовский кот.
– Алексей Фомич! Что это вы?.. Услышат! – испугалась Марья Гавриловна, осторожно потянув его за рукав.
– Где ему услышать! – отозвался громко Сыромолотов, а сам все-таки, ожидающе подняв голову, глядел в сторону освещенных окон.
С полминуты ждал, и потом опять замяукал еще протяжнее, еще похожее и еще противнее.
Отворилась форточка, и высунулась голова Эммы, кричавшая:
– Брыс!.. Брыс, подлая!.. Брыс!..
Очень весело и громко захохотал Сыромолотов, когда услыхал это, и потом сам потянул за руку Марью Гавриловну, говоря ей:
– Теперь пойдемте!
И всю дорогу до своего дома был весел, только просил ее никому не говорить об этой вечерней прогулке и пуще всего рябой Настасье.
А Марья Гавриловна была настолько испугана и его мяуканьем и его непонятной веселостью, что не шла даже, а старалась скользить, как видение, и все только повторяла западающим голосом:
– Ну разве же можно так?! Вот я как этого не ожидала!.. Знала бы, совсем бы я не пошла!..
Однако был в городе еще один человек, которого чем дальше, тем сильнее притягивал к себе дом Вани: это был доктор Иван Васильич Худолей, все приискивающий подходящее место для своей полулечебницы для полубольных.
Он несколько раз проезжал мимо, когда ремонтировался этот дом, и неизменно просил Силантия, подъезжая к дому, пускать лошадей шагом, а сам в это время во все жадно вглядывался, примеривал и соображал.
Он понимал, конечно, что ни Ваня, ни Эмма, привыкшие к жизни больших городов, долго здесь жить не будут, и все порывался поговорить с Ваней, не сдаст ли он ему дом, когда соберется уезжать; и все боялся заговаривать об этом, не имея никаких средств для задуманного пансиона, и боялся, что кто-нибудь еще предупредит его и подходящее помещение вдали от городского шума и с запущенным, старым около садом, располагающим к душевному покою, будет у него перехвачено кем-нибудь, а другое подобное трудно найти.
В то же время, именно теперь и с каждым днем плотнее, начинала охватывать его мысль, что только он, а не кто-либо другой здесь мог бы поставить это очень любопытное дело и в достаточной степени научно и, главное, с надеждой на успех.
У него было несколько таких полубольных, но все это были люди небогатые: один – местный священник, несколько слишком развинченный; другой – банковский служащий, завороженный магией больших чисел; третий – горный инженер, лишившийся места на руднике, потрясенный катастрофой в шахте; четвертый – политический деятель, очень экзальтированный и, так казалось, особенно нуждающийся в покое…
Последний, впрочем, больным себя не считал: это уж сам Иван Васильич советовал ему отдохнуть, когда он приходил к нему в приемный кабинет его (около аптеки) не как больной, а с наставлениями, у кого надобно хлопотать, чтобы выручить из тюрьмы Колю… Тогда-то Иван Васильич, слушая его, вглядываясь и наблюдая за ним, сказал ему вдруг серьезно и ласково:
– Эх, – вам бы полежать недельки три… или даже месяц… Очень вы измотались!..
На что этот отвечал изумленно:
– Приснилось вам!.. «Измотался!..» Вы меня на свой аршин меряете, а я себе таких целей не ставлю – сала наживать!.. Мне чем легче, тем лучше…
Цветом лица он был землисто-зелен, волосом ярко рыж. Носил бороду, впрочем, узкую, а волосы на голове стояли шапкой. Называл себя «товарищ Иртышов», по имени той реки, на которой жил в ссылке.
– А как ваши легкие? – спросил было Иван Васильич, но Иртышов отмахнулся досадливо:
– Нет у меня никаких легких!.. Отстаньте!..
И опять заговорил таинственно, какие резоны надо приводить губернатору и какому чиновнику надо дать взятку и сколько.
Говоря, он оглядывался и снижал голос, но руками работал, точно стоял не перед одним Иваном Васильичем, а перед целой толпою человек в четыреста и тонкий корпус то отбрасывал назад к двери, то приближал неожиданно к чернильнице на столе, а когда сел, немедленно охватил руками свое левое поднятое колено, как «Мефистофель» у Антокольского… Совсем не было округлых линий в этом довольно длинном теле: все оно состояло из одних острых углов, как картонный человечек, который прыгает, когда дергают за нитку… Вид у него был явно голодный, и Иван Васильич заметил, как он нашарил глазами на его столе крошку от сухаря, дотянулся до нее длинными пальцами и бросил ее себе в рот…
– Я пошлю сейчас, – принесут чаю, – хотите? – забеспокоился тут же Иван Васильич.
Но замахал руками от плеч Иртышов:
– Что вы, чай!.. Некогда мне с чаями!.. А если целковый есть лишний, – давайте… Кое-что надо Коле послать…
Взял рубль и ушел неожиданно, как явился, сказав на прощание:
– Нравится мне, что кислых слов никаких не говорите, как сказал бы иной отец!.. А Колюшку мы выручим, – ерунда!..
И исчезал… Не уходил, а нырял куда-то, как летучая мышь…
Было еще двое больных побогаче: студент из семьи состоятельного торговца и брат владельца местного пивного завода, чех Карасек, недавно выехавший из Австрии, но хорошо говоривший по-русски.
Неуравновешенной юности свойственны некоторые странности характера, но странности студента Хаджи, караима, очень бросались в глаза. Он был филолог, и ему казалось, что он изобрел какой-то новый язык, несравненно более тонкий и выразительный, чем все языки мира… На этом языке писал он множество поэм, каждая в одну строчку длиною, которых не понимал никто, и ходил по улицам в венке из плюща (в этом городе не росли лавры), подняв высоко голову и глядя на всех победно, как триумфатор… Иногда он останавливал гуляющих на главной улице или в городском саду и вдохновенно начинал читать свои поэмы, в семье же он стал тираном; и тихий, рассудительный владелец табачной лавки, его отец, очень хотел поместить его в лечебницу к Ивану Васильичу, если бы она открылась.
Такое же желание было и у владельца пивного завода.
– Проел мне голову! – горестно говорил он о брате, теребя золотые с серебром на красном лице усы. – Россия – очень есть огромна славянска страна, господин доктор, – совершенно то верно. Чехия равным образом тож славянска страна… Польша, Булгария, Сербско королевство… Одним словом, коротко говоря, господин доктор, ежли хочешь широки идеи разны, – ступай в министры!.. Эттим иначе денег не заработать… Но тог-да, прошу, разъясните, господин доктор!.. Я есть техник… Прага – университет – не был… Он – Прага университет кончил, – считать не может… Простой рабочий, русский человек, сидит – считать может; он – нет!.. Я говорю: «Хорошо, Ладислав! Россия – славяны, Чехия – славяны… Польша, Булгария, Сербско… сколько итого? Одним словом, тут, как в каждом коммерческом деле, – бухгалтерия – на первый план!..» Так я говорю, господин доктор?.. Но он итого не знает!.. И-то-го не знает!..
Однако, говоря это Худолею о своем младшем брате, пивовар Карасек тоже не знал, – смеяться ему или горевать, что увлеченный до самозабвения идеей панславизма Ладислав не знает точно, сколько именно всех славян на земном шаре, и в какой степени они славяне, и если не вполне верил, то пытался поверить, что «святой доктор» может научить считать.
Было еще несколько подобных среди пациентов Ивана Васильича, и когда однажды, проехав уже мимо дома Вани и не решившись все-таки зайти, он нагнал его на улице, широко шагавшего в город, он крикнул своему извозчику: «Стой!» – и предложил Ване его подвезти.
Ваня не отказался сесть с ним рядом, а так как шел он после ссоры с Эммой, которая рвалась уже скорее уехать в Ригу, то, как и не ждал Иван Васильич, просто отнесся он к его желанию арендовать нижний этаж.
Это был как раз тот самый день, когда появился Ваня в доме Худолеев на скромной улице Гоголя и, огорченный ли ссорой с Эммой или по другой причине, вздумал пожаловаться «святому доктору» на свои болезни.
На другой день Иван Васильич был у него, осмотрел старый и большой сад, на который возлагал немалые надежды, осмотрел комнаты и снял нижний этаж, сделав этим решительный, но опрометчивый шаг, обнаруживший его неподдельную святость.
Глава третья
Молодость
Молодость жестока, молодость себялюбива, молодость всегда забывает, чему она молилась вчера… это известно.
Остановясь перед созданием гения, перед трудом мучительным, долгим, бессонным, – перед крестной мукой творчества, она всегда и неизменно пожмет равнодушно плечами, – нет, не равнодушно, – презрительно или с явной обидой даже, и скажет, не разжимая зубов:
– Еррунда! – и отойдет тут же, чтобы восхититься крикливой бездарностью.
Молодость непостоянна, конечно, и какая же она была бы иначе молодость?..
Уже через неделю после того, как Маркиз, старший из молодых Худолеев, сделал святыню из стула, на котором сидел у них чемпион мира, он уже говорил таким же, как сам, юным об этом чемпионе:
– Бок-сер!.. Скуловорот и яростный дробитель носов!..
– Но ведь он же не боксер, а борец! – горячо ему возражали, а он отвечал с еще большим презрением:
– Все равно!.. Унылый синтез шести пудов мяса, трико, пота и прижатых лопаток!.. И зачем-то торчал в Академии!.. Даже досадно!..
Он читал теперь случайно попавшие к нему в руки книги Рескина, говорил о «религии красоты» и считал себя очень тонким эстетом. Рембрандта и представителей его школы называл он не иначе как «клэробскюристами», очень тщательно выговаривал это слово и несравненно выше их ставил колористов, которых называл «фьезолистами»… «Фьезоле!» – часто повторял он мечтательно… и как же было ему ценить Сыромолотова-отца, когда тот жил в том же городе, где и он, ходил по тем же самым улицам, глотал ту же самую пыль… Он говорил о нем снисходительно:
– Наш маститый Сыромолотов – пер…
Иногда же для большего презрения к нему в слово «маститый» вставлял «с»: «мастистый»…
Над своим же гимназическим учителем рисования, скромным старичком, обремененным огромной семьей, он даже и не смеялся, считая это слишком большой для него честью. Он только глядел на него незамечающим или недоуменным взглядом. Если бы сам он хорошо рисовал, его товарищи, конечно, смело предсказали бы ему славу большого художника, но так как его не слушался карандаш, то ему говорили с жаром:
– Маркиз!.. Да из тебя, черт тебя дери, – здоровеннейший выйдет художественный критик!..
А он отзывался на это:
– Д-да, ко-неч-но… в этой области, конечно, я буду знатоком!..
В гимназическом хоре он пел тенором и был иногда солистом, а в духовом оркестре гимназии играл на кларнете.
Арест брата Коли его возмутил чрезвычайно, и против матери, виновницы ареста, и главным образом против самого же Коли: арест этот был скандал, неумение вести себя в обществе («Кто так делает?.. Никто так не делает!..»), какая-то явная неряшливость, нечистоплотность… И матери он говорил язвительно:
– Да, вот, – стали мы сказкой всего города!.. Можешь радоваться!.. Довела!.. Дорвалась!..
Однако бросал эти слова, проходя мимо нее или уходя из общей столовой к себе во флигель, чтобы не слушать разлива ее криков.
Но она все-таки кричала ему вслед:
– Ишь, собачонка!.. Вредная!.. Гавкнет, и в подворотню!.. Собачонка!.. Шавка шалая!.. Барбосяка!..
Во флигеле Маркиз сильно хлопал дверью и, глядя на нее из окна, затыкал уши.
Всего только один раз они с Елей ходили на свиданье к арестанту, и очень противны показались Маркизу и гнусный воздух тюрьмы, и дежуривший при свидании надзиратель, – черный, в оспе, – и даже сам Коля, – вялый, но с оттенком какого-то превосходства на припухшем лице и остриженный под ноль. (Красивые волосы свои очень ценил Маркиз, и попробовал бы его кто-нибудь остричь под ноль!)
Возвращаясь из тюрьмы, он говорил Еле:
– В конце концов кто же в этом виноват, как не он сам?.. Не хотел сидеть в гимназии, – сиди в тюрьме!.. Мама только предупредила события… Хотя, конечно… смело могла бы не предупреждать!..
– Ага!.. Вот!.. А отчего ты не остановил тогда мамы?..
– Когда не остановил?
– Когда!.. Будто не знаешь!.. Когда она призывала жандармов, – вот когда!.. Жандармам только того и надо было, чтобы их призвали!
– Что ты мелешь?.. Как бы я мог остановить маму?
– Отвел бы ее в комнаты и запер бы на ключ!
– Я?.. Маму?.. С мамой мог бы удар сделаться!.. Что ты!
– Ну что же, что удар! А может быть, и нет… Покричала бы и замолчала.
– От-вра-тительная ты девчонка!.. Не хочу я с тобой идти рядом!.. Уходи!..
И Маркиз перешел через улицу и зашагал по переулку. Однако Еля, постояв на месте два-три мгновенья, бегом бросилась за ним, обогнала его и бойко пошла впереди, чеканя шаги.
Он повернул назад, и тут же повернула назад она и пошла за ним следом, не отставая, как он ни уширял шаги.
– Смотри!.. Морду набью! – бросал он иногда назад.
А она отзывалась вызывающе:
– А ну-ка набей, попробуй!..
Так и дошла за ним следом до тихой улицы Гоголя, но за два квартала до своего дома отстала и свернула к особняку Ставраки. Маркиз был так взбешен ею и так стремился от нее уйти, что этого не заметил.
В доме Ставраки недолго пробыла Еля: Дина и Маня спешили на званый вечер. Она завистливо ахнула тому, как великолепно накрасила губы Дина, как замечательно подвела брови и глаза Маня, с осторожностью, чтобы не помять их платьев, повисла у них на шеях, попрыскалась духами «Иланг-Иланг», похохотала звонко и пошла домой в причудливой синеве сумерек.
Но в этой причуде сумерек от одной впадины стены отделилась и стала перед нею тень так неожиданно, что попятилась Еля.
Тень сказала тихо:
– Еля!.. Не узнали?..
– Вы – нахал! – крикнула Еля.
– Нет, я – Лучков, Еля…
– Кто-о?..
– Лучков… Не кричите так!.. Товарищ Коли… Я скрываюсь…
– Я видела, что скрывались… чтобы что-нибудь стянуть!..
– Тише, пожалуйста!.. Я насчет Коли… Что же вы его забросили так?.. Он погибнет!
– Во-от!.. Забросили!.. А кто у него был сейчас?
– Хлопочете о нем?
– А вам какое дело?
– Мне?.. Да ведь я тоже партийный!..
– Тоже!.. Подумаешь!.. Босявка всякий туда же: партий-ный!..
– Еля… Я нарочно дежурил тут, – думал – кто из ваших пройдет – сказать… Что же вы не хлопочете?.. Ведь его в Якутку хотят сослать!..
– В Я-кут-ку?.. Это где на собаках ездят?
– Губернатор хочет! (совсем жутким шепотом) – Мы сегодня узнали.
Еля едва различала в густой тени переулка большие под нависшей кепкой глаза на тощем остром лице, и ростом он был не выше ее, и плечи узкие…
– Эх! – сразу осерчала она. – Лезут туда же мальчишки всякие!.. «Мы – партийные»!..
– Тише, пожалуйста! – испугался Лучков. – Отцу скажите… Что же он бездействует?.. У него знакомых много… Про-па-дет малый зря!..
Тут чья-то поступь тяжкая послышалась вдали, приближаясь, и Лучков осел, съежился и пошел, ныряя в густых тенях и слабеньких световых пятнах, а Еля не могла не протянуть ему вслед презрительно:
– Эх, мальчишка!..
Но в доме, где все собрались к вечернему чаю, крепкий «Иланг-Иланг» сразу покрыл запах привычной валерьянки, и Володя-Маркиз, пронизав ее настигшими глазами, вскрикнул возбужденно:
– Ага!.. Понятно!.. Понятно, где ты изволила быть сейчас!..
Не одна валерьянка была привычная… Привычна была и сутулая сверху, а снизу широкая фигура матери, – тяжелая, очень тяжелая на вид, с руками широкими в запястьях и жесткими в ладонях, с немудрым лбом под жидкой, цвета сухой малины, косичкой, закрученной в калачик на темени… Привычен был и бычий взгляд (исподлобья и вкось) младшего брата Васи, которого не могла сегодня убедить она проведать Колю… Висячая лампа с жестяным облупленным абажуром, разномастные блюдечки и стаканы, нарезанный неуклюжими ломтями серый хлеб; таинственный угольник, который и теперь очень внятно трещал, – все это заставило Елю остановиться, не садясь за стол, и крикнуть в тон Володе:
– Тебе дела нет, где я была!.. Я была у подруги, у Цирцен Эльзы!.. Это она меня надушила!..
– Ты нагло врешь! – кричал Володя.
– А потом я видела Лучкова!.. Я с ним четверть часа стояла!.. Он скрывается!..
– Ах, очень хороша!.. – вступила в спор мать. – Похвалилась!.. Лучкова!.. Ворягу этого!..
– Он нисколько не воряга, мама!.. Ничуть!.. Неправда!.. И он заботится…
– О чем это?.. Чтобы к нам залезать?..
– О Коле, а не о «чем»!.. О Коле!.. Бросили в тюрьму, как так и надо!.. А его ссылают теперь!.. Вы знаете, что его ссылают?..
– Врешь!.. Он нам ничего не сказал, что ссылают! – кричал Володя. – Врешь нагло!
– Это Лучков сказал, а не он!.. Лучков, а не он!.. Откуда он может знать?.. Ты – дурак!.. Ему этого не скажут, а прямо погонят!..
Зинаида Ефимовна махала широкими руками, обеими сразу на них обоих, точно дирижируя хором, и кричала сама:
– Ша!.. Ша!.. Гавкалы!.. Барбосы!.. Ты – скверная девчонка!.. Куда ссылают?..
– В Якутку!.. Вот куда!.. В Сибирь!.. Где на собаках ездят!.. Вот куда!..
Еля вся раскраснелась и чувствовала это, и запах «Иланга» ее опьянял, ставил выше домашнего, делал нездешней, своей собственной…
– Врешь! – перебила мать криком. – И Лучкова ты не видала, – все врешь!.. Отпускают Кольку!.. У губернатора чиновник Мина сам сказал! Под надзор родителей!..
– Когда сказал?.. Кому сказал?.. – сразу спала с тона Еля, а Вася качал головою презрительно:
– На со-ба-ках!..
И видно было, что ему даже жаль Колю: «Отпустят, – и что же дальше? – Ничего совершенно!.. А мог бы покататься на собаках!..»
Он потому только не пошел в тюрьму с сестрою и братом, что как раз сегодня после обеда назначена была проба гигантского змея в десть бумаги, который клеили втихомолку в сарае у соседей Брилей, и задались острым вопросом пытливые умы: может ли такой змей поднять человека в возрасте девяти лет?.. Девятилетний человек этот приготовишка Алешка Бриль решался смело пожертвовать в случае надобности своею жизнью для этого опыта, и при заносе и пуске гиганта самозабвенно ухватился за змеиный хвост, но оборвалась непрочная мочала!.. Так и не решен был этот волнующий вопрос: смог ли бы 24-листовой змей поднять Алешку на воздух?.. И Вася был в понятной досаде.
– Ага!.. А что?.. Придумала увертку, только неудачно? – поддразнивал Елю Маркиз, а Еля кричала вне себя от злости:
– Не придумала! Нет!.. Нет!.. Лучков сказал!.. Он – партийный!.. У них известно!.. Лучков!.. Лучков!.. Лучков!.. Лучков!.. Лучков!..
Она могла бы кричать так бесконечно, если бы не замахнулась на нее мать:
– Да замол-чать ты, тварь!..
Но почему-то не выдержала Зинаида Ефимовна этой небольшой стычки так несокрушимо, как другие подобные… Тут же она села на стул, обмякла кульком, простонала, начав с тихого и все повышая голос:
– Ах!.. А-ах… А-а-ах!.. Как болит сердце!.. – и закрыла скорбно глаза.
А потом запах щедро налитой в рюмку с самоварной водой и разлитой от дрожи рук на стол валерьяны, присущий издавна этому дому, победно заглушил самочинно ворвавшийся сюда запах «Иланг-Иланга».
Но молодость беспощадна: Еля поняла свою мать теперь так, как ей хотелось понять: она придумала чиновника Мина и что будто освободят Колю под надзор домашних, – придумала из того противоречия, которое всем было отлично известно… Она сама знает, что сошлют в Якутку, и ей жалко Колю…
– Ага!.. Жалко стало! – закричала Еля. – Теперь небось жалко, а когда сама жандармов звала, не было жалко!
– Не смей, дрянь! – подступал к ней Володя. – Как ты смеешь?..
– Смею!.. Я смею!.. Ты был там сейчас?.. Тебе не понравилось?.. А он сидеть должен!.. За что?.. За то, что бумажки какие-то нашли?..
Зинаида Ефимовна, откинувшись на спинку стула, с закрытыми глазами, как рыба на берегу, раскрывала широко рот:
– А-ах!.. А-ах!.. А-ах!..
А Еля не давалась старшему брату, пытавшемуся вытолкать ее вон. Взбешенность удваивала ее силы. Она даже очень удачно толкнула его в грудь выпадом обеих рук, и только Вася, весь еще полный досады от неудачи со змеем, схватив кусок хлеба и пустив его ей прямо в голову, заставил ее взвизгнуть и убежать к себе в комнату, а там запереться на ключ.
После этого бегства Зинаида Ефимовна скоро пришла в себя и сосредоточенно, как всегда, делала свое любимое: пила чай, а Володя считал нужным придумать, куда и к чему можно будет пристроить Колю, когда его выпустят из тюрьмы.
– Он, конечно, захочет учиться дальше: проманежили все-таки малого… пусть готовится на аттестат зрелости… А если не захочет, можно устроить аптекарским учеником… или в дантисты, тоже достаточно шести классов… Вообще, если выпускают нам под наблюдение, то мы и должны наблюдать… Мы все! Чтобы ерундой больше не занимался!.. Мы все!..
Блюдя честь семьи, Володя говорил это с полным сознанием своей личной ответственности за брата, точно самого его грозили одеть в гнусное арестантское и позорно остричь под ноль.
И Зинаида Ефимовна соглашалась, что чем же плохо быть аптекарем, например? И гуманно, и спокойно, и всегда дома, и не заразно, и сто процентов дохода.
Но, вспоминая выходку Ели, вдруг перебивала себя.
– Ах, матери выговор какой!.. До чего дошла, мерзкая дрянь!.. Ну, погоди же!..
И качала грузно головой с тощим калачиком на темени.
А Еля в это время, дергаясь спиною, плакала у себя на кровати, впивалась пальцами в одеяло и грызла подушку.
Глава четвертая
Нижний этаж
Взовьется ракета, освобожденно шипя и звеня, как стрела, и рассыплется в воздухе огненным душем… Она не озарит ночного неба и не осветит земли (разве маленький уголочек), но есть частица радости в блеске ее самой, есть какая-то близость красоты, какая-то возможность, что делает ее на момент волнующей для глаз, и невольно следишь с подъемом за этим взлетом и распадом огня…
Детей же поражает это, как сказка… Может быть, чудятся им огненные змеи?.. Даже шипенье и свист ракеты полны для них особенного смысла!.. И на одно – длинное, нет ли – мгновенье весь мир преображается в их глазах…
После долгих хлопот Ивану Васильичу наконец удалось обставить нижний этаж дома Вани Сыромолотова приблизительно так, как ему хотелось, и шесть человек поселились в нем; банковский чиновник Синеоков, получивший двухмесячный отпуск, о. Леонид, из пригородных выселок Зяблы, и горный инженер Дейнека – по доброй воле, желая принести себе пользу; студент Хаджи и чех Карасек – с отвращением, презрением и повинуясь силе близких; наконец, Иртышов, как он сам говорил, «исключительно в целях конспирации».
Иван Васильич разместил их в трех небольших комнатах по двое: священника с инженером, Иртышова с Синеоковым, студента с чехом. В четвертой большой комнате была их общая столовая, и тут же стояло пианино, взятое напрокат.
Иван Васильич нашел в помощницы себе старую уже, но еще крепкую и очень спокойную привычную сестру милосердия Прасковью Павловну, и та поместилась с прислугой Дарьей, женщиной старательной, но тоже пожилой и с небольшими странностями, через коридор, в отдельной пристройке, рядом с ванной комнатой; и обед приносили из соседней недорогой столовой, а самовар Дарья ставила сама.
Когда, два дня пробывши в новом для них месте, шестеро полубольных-полуздоровых несколько освоились и с обстановкой и друг с другом, Иван Васильич решил познакомить с ними Ваню и Эмму.
В это время сидели все шестеро за вечерним чаем, и Прасковья Павловна с белыми буклями под белой наколкой и сама вся в белом была за хозяйку.
Когда, в сопровождении Худолея, огромный Ваня в черной бархатной куртке и рядом с ним Эмма, невысокая, но на редкость свежая, веселая и упругая, со взбитыми светлыми волосами, очень густыми, вошли в столовую, даже Иртышов на минуту почувствовал себя больным и очень усталым, и за это сразу возненавидел обоих гостей.
Пианино было открыто, хотя никто здесь играть на нем не мог, и только о. Леонид пробовал подбирать двумя пальцами церковные мотивы. На подоконниках, на столиках для шахмат и домино стояли букеты осенних цветов, на столе чайном высились двумя горками фрукты и пирожные, а вверху под потолком матово светился электрический шар, о чем в первую голову позаботился Худолей; хотя в этой части города, на Новом Плане, электричество было еще редкостью в частных домах, но невдали находился пивоваренный завод Карасека со своей динамой. В чуть голубоватом свете столовая полулечебницы похожа была на гостиную, где у любезной хозяйки в белом и с белыми буклями собралось милое общество, случайно почему-то исключительно мужское, однако разнообразное, с несколько неожиданным батюшкой, но зато с неизбежным студентом в серой тужурке и с мыслящим бледным лицом.
Иван Васильич был весело возбужден, даже торжествен. Его христоподобное лицо как будто струилось (так показалось о. Леониду), когда он сказал, обращаясь ко всему столу:
– Хозяин этого дома и прелестная хозяйка!.. Знакомьтесь, господа!
И задвигались стулья, и Ваня, широко улыбаясь, но не выпуская из левой ладони локоть правой руки Эммы, топчась обошел весь стол и, наконец, уселся поближе к самовару и рядом с Худолеем.
Даже и не в лечебнице тягостны первые минуты знакомства людей с людьми, и, конечно, Иван Васильич понимал, что ему самому надо найти и указать какую-нибудь общую тему, поэтому он заговорил об электричестве, обращаясь к Ване:
– Простите, не понимаю я вас, Иван Алексеич, почему вы отказались провести к себе наверх свет?.. Посмотрите, какая прелесть!.. Свет ровный, его не замечаешь, – верхний, не беспокоит нервов…
– Почему? Это просто! – улыбнулся Ваня. – Я соскучился за границей по лампе… Там даже в коровниках электричество!
– Вам это не нравится? – ядовито спросил его Иртышов и в ожидании ответа привычно разинул рот и бросил в него какую-то крошку.
– Электричество вводится теперь даже в церквах, – кротко заметил о. Леонид. – Всякий свет от бога.
– Когда я рисую по вечерам, я могу поставить лампу как мне угодно, – ответил Худолею Ваня. – Вот почему…
– Вздор! Вздор!.. Зачем настояще говорить вздор!.. – горячо перебила Эмма. – Я не люблю вздор!.. После зафт – мы езжали на Рига! Ну?.. Зачем нам электрич свет?
– Ах, вот как!.. Уезжаете?.. Решено? – обрадованно заволновался Иван Васильич.
Но Ваня только пожал широкими плечами и ответил неопределенно:
– Гм…
– В Риге очень узкие улицы, – вставил Синеоков. – Я там был года три назад.
– О-о-о!.. О-о!.. Узки улиц! – живо откликнулась Эмма. – Вы были Старый Рига!.. Ну?.. Вы не был Новый Рига!..
– Как в Праге, – поддержал Карасек. – Вы не были в Праге? Нет?.. Это есть необыкновенный город – Прага!.. В старой части там тоже есть узкие улицы.
– Наслоение культур, – определил студент очень важно и несколько скучающе.
Один только инженер смотрел исподлобья, имел очень необщительный вид и никак не отозвался на приход Вани с Эммой. У него была длинная голова, длинное лицо, подстриженные ежиком, но мягкие на вид волосы, редкие, темные; робкий подбородок, впалые щеки, висячие усы.
Он сосредоточенно чистил большое красивое яблоко перочинным ножом, и Худолей сказал ему:
– Яблоки вымыты, эпидемий в городе нет, а вы счищаете самый питательный слой!
Инженер посмотрел на него исподлобья, посмотрел на Эмму, покраснел густо и ответил:
– Очень жесткая кожица.
И на худых зябких руках его отчетливо забелели суставы пальцев.
– Это синап, – объяснила ему Прасковья Павловна, ласково прикачнув буклями: – Возьмите другое… Вот – канадский ранет, кожица мягкая…
– Крымские яблоки, они… вообще почему-то хуже северных, – сказал о. Леонид. – Там есть такие, например, – грушовка, анис, белый налив… Изу-ми-тельные!.. Или даже антоновка…
– А вы из какой же это яблочной губернии, отец? – полюбопытствовал Иртышов.
– Отец… Леонид, – вы хотели добавить? – поправил его Иван Васильич.
Иртышов метнул на него игривый косой взгляд и сказал, ни к кому не обращаясь:
– Есть хорошие сады в Орловской губернии, в Карачевском уезде… Есть в Курской, в Воронежской… У иных помещиков под садом до сотни десятин…
И бросил в раскрытый рот одну за другой кряду три крошки.
О. Леонид нервно провел прозрачной рукой по бледно-русой бессильной бороде, вздохнул и спросил Ваню скороговоркой:
– Читал я, что «Тайная вечеря» знаменитая – Леонардо да Винчи – попортилась сильно… Вы не видали?
Ваня смутился немного.
– Это в Милане, кажется… Фреска на стене… Разумеется, должна была пострадать… Но я не был в Милане и не видел…
– Не ви-да-ли?.. «Тайной вечери»?.. Как же это вы? – О. Леонид удивился совсем по-детски. – А мне Иван Васильич говорил, что вы были в Италии!..
Эмма расхохоталась весело.
– Милан!.. Ха-ха-ха!.. Там Scala… там о-перный певец, – ну…
Так и осталось непонятным о. Леониду, чем он рассмешил Эмму, потому что ее перебил Ваня, забасив громко:
– «Тайная вечеря» теперь, кажется, реставрирована сплошь… Да, впрочем, зачем и оригинал, когда он всем уже известен по снимкам?.. Не читаете же вы Пушкина в рукописях!..
– Или псалмов Давида по-древнееврейски! – подсказал Иртышов.
– Особенно в наш век фабричного производства! – вставил весело Синеоков.
Он был средних лет, высокий, тонкий, с чуть начавшими седеть черными волосами, в безукоризненной манишке, и вообще щегольски одет.
Была большая бойкость в его лице, в насмешливых глазах и губах, и даже в крупном носе, имевшем способность не изменяться в очертаниях, как бы широко он ни улыбался.
– Наш век фабричного производства в общем – очень гуманный век, – этого не забывайте! – поправил его Худолей.
– Особенно для рабочих! – язвительно дополнил Иртышов и охватил колено.
А Карасек, вытянув над столом розовое лицо и правую руку со сверкнувшей запонкой на манжете, почти пропел вдохновенно:
– Когда славянские ручьи сольются во всеславянское море, ка-ка-я обнаружится тогда, господа, гу-маннейшая во всем даже мире славянская душа!.. Я закрываю свои глаза, но вижу как бы в некотором тумане…
– Го-спо-да! – вдруг перебил его студент, томно, но очень решительно. – Разрешите прочесть вам мою последнюю поэму в тринадцати песнях!..
Иван Васильич тревожно задвигался на своем стуле и даже поднялся было, желая отвлечь внимание от студента, но Ваня уже протрубил неосторожно:
– Просим!
А Эмма даже обрадовалась: может быть, это будет весело?
Оживленно она сказала:
– Ах, такой скучный говорят все!.. Читайте, ну!.. – и впилась ожидающим взглядом в Хаджи.
Студент тут же к ней обернул лицо, но глядел на Ваню, явно надеясь, что только он один из всех способен понять его и оценить. Точно с трудом решившись читать, начал он задушевно и негромко, почти шепотом:
ПОЭМА КОНЦА
Песнь первая.
Стонга.
Полынчается. – Пепелье. Душу.
Песнь вторая.
Козло.
Бубчиги – Козловая – Сиреня… Скрымь солнца.
Песнь третья.
Свирельга.
Разломчено – Просторечевье… – Мхи – Звукопас.
Песнь четвертая.
Кобель горь.
Загумло – Свирельжит. Распростите.
– Какой кобель? – серьезно спросил Синеоков.
– Кобель горь! – отчетливо повторил студент и тут же, точно боясь, чтобы не перебили совершенно, зачитал стремительней и певучей:
Песнь пятая.
Безвестя.
Пойми – пойми – возьмите Душу.
Песнь шестая.
Рабкот.
Сом! – а-ви-ка. Сомка! – а-виль-до.
Песнь седьмая.
Смольга.
Кудрени. Вышлая мораль.
Песнь восьмая.
Грохлит.
Серебрий нить. Коромысля. Брови.
Песнь девятая.
Бубая гора.
Буба. Буба. Буба.
– Буба, буба, буба! – повторила Эмма и поглядела изумленно на Ваню, а Хаджи продолжал певуче:
Песнь десятая.
Вот!
Убезкраю.
Песнь одиннадцатая.
Поют.
У-у-у…
Песнь двенадцатая.
Вчерает.
Ю.
Песнь тринадцатая, песнь конца.
Тут студент плавно провел рукою вправо, потом так же плавно влево, потом сделал рукою тщательный кружок в воздухе и сел на свой стул.
– Все? – притворно серьезно спросил Иртышов.
– Ха-ха-ха! – откинувшись назад, разрешенно захохотала Эмма.
Иван Васильич не знал, что ему делать: перевести ли внимание всех на что-нибудь другое, или дать студенту возможность высказаться и раскрыться вполне. Он поднялся и ждал только, когда перестанет хохотать Эмма. Однако раздосадованный этим хохотом Ваня предупредил его, обращаясь к студенту:
– Это – очень трудная форма, – начал он, заикаясь. – Это встречается и у нас в живописи… Это… по-видимому, особый вид искусства…
Тут он сделал длинную остановку, ища слов дальше, а студент, не изменяя лица, как маг, сделал рукою вправо, влево и объяснил:
– Вы заметили, конечно, – последнюю песнь, – «Песнь конца», – я оголосил одним ритмодвижением… Это – поэма ничего, – нуль, – как и изображается графически: нуль!
Тут он прочертил рукою перед своим лицом правильный круг.
– Вам, художнику, – обратился Иван Васильич к Ване, – вам тут и книги в руки!.. У вас с ним общая область… Искусство – великое дело… Мы, профаны, не понимаем, конечно… Но не кажется ли вам, что э-э-э… субъективно это очень?.. Что надо бы… поближе к нам?.. Вот именно: поближе к нам, – к читателям…
– Конечно… гм…
Ваня задумался, но тут весело вмешался Синеоков.
– Искусство – субъективная вещь, – да, – но зачем же до такой степени, чтобы вы мне говорили, а я чтобы ни за что не мог понять?
Отхохотала уже Эмма и теперь сидела, вытирая лицо платком, а студент повернул торжествующе лицо к Синеокову:
– Известно ли вам, что каждая буква имеет цвет, звук, вкус… и вес?
– Вес?.. Вес, – пожалуй! – быстро согласился Синеоков. – Например, вырезанная из картона или слепленная из гипса… И цвет, пожалуй, – в какой ее выкрасят.
– А гипсовая будет кислая, – вставил Иртышов и при этом беспечно переменил колено: охватил руками правое, а левое опустил.
– Это, господа, есть футуризм! – протянул над столом голову и руку Карасек. – Но-о позвольте, господа!.. В будущей всеславянской великой монархии какой должен быть общий язык?..
– Кому что, – этому непременно монархию! – брякнул Иртышов.
– А вам непременно республику? – подхватил Синеоков.
– И она будет!
– Ма-аленького захотели!.. Я вам докладывал уже, что это – коммерческое предприятие самого широкого размаха… и самое убыточное, – вот! И захотели вы этого в нашей нищей стране!.. С печки упасть и чтоб непременно в калоши ногами попасть… Вы знаете, сколько надо для вашей затеи?
– Волю народа.
– Глупости!.. Словцо!.. «Волю народа»!.. Миллиарды, думаете?.. Ошибаетесь!.. Триллионы?.. Мало-с!.. Секстильоны тут нужны, да. А они у вас есть?
– Хва-ти-ли, дяденька!..
– Секстильоны! Секстильоны! Секстильоны!
Страшным, заячьи-предсмертным криком вырвалось это у Синеокова, и он вдруг замигал часто, покраснел и опустился глубже в свой стул; а Иртышов только фыркнул презрительно и еще выше поднял острое колено.
Это и была странная болезнь Синеокова: неудержимо сказать и непременно почему-то три раза кряду, и непременно почему-то не в одиночестве, а на людях, какое-нибудь слово большого, огромного, неизмеримого объема. Не часто это случалось с ним, – раза три-четыре в неделю, но всегда смущало его невероятно. Странность была в том, что слово это подвертывалось ему на язык, казалось бы, и кстати, – даже, пожалуй, никто из тех, кто его слушал, не замечал назойливости этого слова, но его самого это ошеломляло, угнетало, пугало, как присутствие в нем кого-то постороннего ему, – каких-то часов с кукушкой, откуда эта серая тоска в перьях выскочит вдруг незаконно и ненужно, прокукует свое (свое, а не его) и спрячется.
Он сидел теперь очень сконфуженный, не поднимая ни на кого глаз и теребя белую новую клеенку стола, но Ваня спросил его улыбаясь:
– Почему же именно секстильоны?
– Я изъясню! – крикнул Карасек. – Потому что массы захотят несметных богатств, – несметных!.. Они уверены, что они есть, существуют, а их нет!.. – И обратился очень вежливо к Синеокову:
– Так ли я вас понял?
– Да, конечно, – прошептал Синеоков и добавил несколько громче: – Наш бюджет около пяти миллиардов…
И, чтобы скрыть смущение, дотянулся до горки пирожных рукою, но и тут не был в состоянии остановить на чем-нибудь выбор.
– Возьмите вот эту трубочку с кремом! – подсказала ему ласково Прасковья Павловна. – Так прямо на вас и смотрит…
Он застенчиво кивнул ей головою и взял трубочку с кремом все еще дрожавшей смущенно рукой.
– Не нужно так волноваться из-за будущего! – заметил ему Иван Васильич. – Будущее – во мраке будущего… Зачем о нем беспокоиться заранее?.. Оно все равно придет…
– Мы сами куем будущее! – значительно отозвался на это студент, и Иртышов подтвердил:
– Правильно! – и язвительно кивнул Синеокову: – Секстильоны!.. Знает, что мы не допустим банков, и заранее очень на нас сердит!
Синеоков тем временем уже оправился несколько. Он глотал трубочку с кремом и чуть не поперхнулся от смеха.
– Без банков хотите устроить общество? Человеческое? – вскинулся он. – У каких-нибудь муравьев, и у них есть свои банки, я уверен!.. У пчел!.. У ос!.. У бобров-то уж непременно!..
И даже мину крайней неловкости за Иртышова сделал он на своем подвижном лице, отвернувшись.
– Нет, позвольте, зачем же так спорить? – забеспокоился Иван Васильич. – Нет, этого я вам не могу дозволить!.. В пределах чисто академических, – да-а!.. Как известную доктрину… политическую… дебатировать… это другое дело!..
Единственный здесь в военном костюме, хотя и врача, Иван Васильич теперь именно любому со стороны мог бы показаться не хозяином даже здесь, а больше: тем, кому подчиняются и кто может приказать. Лицо у него теперь стало как будто из твердых линий, и даже глаза строгие.
Иртышов поглядел на него безразлично, нашарил далеко от себя крошку, бросил в рот, переменил колено и даже улыбнулся про себя, а Дейнека, все время перед тем молчавший, заговорил вдруг глухо и отрывисто, продолжая, видимо, думать, но только вслух:
– И шахта останется шахтой… Да!.. Какой бы ни придумали строй, – домна останется домной и шахта шахтой…
– Немножко не так! – подхватил Синеоков. – Не только Домна останется Домной, – Марья останется Марьей, – вот что главное!
И чуть толкнул при этом своего соседа о. Леонида, который заулыбался тоже.
– Что он сказал, ну?.. Вит-вит-живо!.. Что он сказал, этот, – ну? – тормошила Ваню Эмма.
– Женщина останется женщиной… при всяком новом строе, – перевел ей Ваня.
– Ну да! – согласилась она, а Синеоков тут же осведомился у нее:
– Вы плохо понимаете по-русски?
– О-о, нет!.. Я из Рига!.. – обиженно вытянула губки Эмма и вздернула правым плечом.
Синеоков сидел к ней и Ване ближе других и не на весь стол, а именно только для них двоих заговорил он оживленно:
– Говорят, есть в Питере один банкир, – большую ведет игру исключительно на внутренней политике!.. С черного хода своей квартиры принимает он неких гусей лапчатых, в немалых, разумеется, чинах… с ними в уголку шу-шу-шу, и сует им деньги, – на бомбы, разумеется… А на бирже пускает сенсацию: «На этой-де неделе будет пять террористических актов: министр такой-то, министр такой-то, горнозаводчик такой-то, великий князь такой-то… и еще одна особа!..» Это, конечно, по уголкам, шепотом, с ужасом на лице величайшим!.. Вообще, – «они начинают!..» У него десятки молодцов, и все работают: «Шу-шу-шу-шу!.. – Начинается!..» К вечеру бумаги летят вниз!.. На другой день паника!.. На третий день банкир скупает бумаги… На четвертый – спокойствие… К концу недели бумаги крепнут, – значит, их можно уже продать, не так ли?.. Разница – так, какой-нибудь миллиончик!.. Сотня тысяч откладывается на прием с черного хода и… на жандармерию, которая, конечно, посвящена в дело!.. И вот, некиим гусям лапчатым говорит он потом с великолепным презрением:
«Предатели идеи!.. Трусы!.. Кунктаторы!.. Когда же, черт вас возьми, проведете вы какой-нибудь ваш паршивый террористический акт?.. Как же я при таких обстоятельствах буду?.. На ветер деньги бросать…»
И вот синьоры эти начинают стараться и ухлопывают действительно какого-нибудь губернаторишку в Тьмутаракани… Событие!.. Банкир сияет!.. Правые газетчики строчат: «Гидра революции подымает голову!.. Россия лишилась одного из лучших администраторов… Еще только недавно решено было предложить ему очень высокий пост в государстве, – и вот он убит!..» А левые газетчики между строк очень ликуют: «Наконец-то!..»
Эмма при последних словах захохотала так, что все обернулись в сторону Синеокова, хотя до этого на другой половине стола слушали Карасека.
Иван Васильич, до которого доносилось кое-что из слов Синеокова, заволновался:
– Нет, нет, – и вам я делаю замечание!.. Зачем именно эти вопросы, когда есть множество других?.. Вот Ладислав Францевич прекрасно и обстоятельно… и, надеюсь, тоже в последний раз, говорил о панславизме. Он, можно сказать, до дна исчерпал тему…
– Она есть неисчерпаема!.. Как можно!.. – испугался Карасек и руками защитился от явной нелепости. – Она не имеет дна!.. Она есть бесконечна!.. Континентальна Европа имеет три идеи: романску, германску и славянску… Слияния быть не может: они есть очень различны: три европейских идеи!.. Кто хочет, чтобы был раздавлен?.. Никто не может этого желать… И мы должны до высшей точки довести свою славянскую идею, до высшей точки!.. Мы должны перекинуть друг от друга мосты… пока не поздно… Пока, господа, не поздно!..
– Вы похожи на молодого пророка! – сказал о. Леонид.
Но не смешливо он сказал это, и никто кругом не принял этого за насмешку; а Эмма даже прошептала на ухо Ване:
– Больной человек, – ну?
Пожалуй, блеск его серых глаз был больной, но Карасек имел прямой, стойкий корпус, а очень прямо посаженная на плечи длинноволосая с зачесом назад голова при небольшой бородке, закрывшей подбородок, казалась действительно вдохновенной.
Студент подхватил замечание о. Леонида:
– На пророка, только не библейского… Библейские были брюнеты.
– Царь Давид тоже числился во пророках, однако есть указания, что был он волосом светел и телом бел… И сын его, Соломон, тоже…
– Вот видите, отец Леонид, какие вы нам интересные вещи говорите, – обрадовался Иван Васильич. – Скажите-ка!.. Блондины, значит… А я и не знал… И не думал даже… Но какие все-таки указания?.. Чьи?
– Происходили от готского племени – аморейцев…
– Аморейцев?.. Вот как!
– Амурейцы, конечно, а то кто же! – отозвался Иртышов, хмыкнув. – О своих амурах и писали с большим красноречием!..
– Амореец же был и Сампсон, – обернувшись к нему, продолжал о. Леонид, – который ослиной челюстью побил тысячу филистимлян.
– А вы видели когда-нибудь ослиную челюсть? – весело полюбопытствовал Иртышов.
О. Леонид поглядел на него, вздохнул, собрал в кулак бороду, но не отозвался.
– Зачем это вздумалось вам – из-за границы и опять в наш город? – спросил тем временем студент, испытующе глядя на Ваню.
– Зачем? – Просто, кажется, отдохнуть заехал, – подумавши, ответил Ваня вполне серьезно, но Иртышова так и подбросило от этих слов.
– От-дох-нуть?.. От каких это трудов, – позвольте узнать?
Показалось Ване, что он даже грушу проглотил не прожевавши, чтобы успеть это вставить.
– От каких? А вот попробуйте поворочать мои гири, – узнаете от каких! – улыбнулся Ваня.
– Гири нужны, чтобы вешать… – только начал было что-то свое Иртышов, но Синеоков перебил его быстро:
– А веревка тогда на что?
– Не хотите ли еще чаю? – нежно спросила Иртышова Прасковья Павловна, но отвлечь его чаем не удалось.
– Веревка?.. Когда на нашей улице будет праздник, жестоко мы кое-кого тогда… высечем!.. – и посмотрел почему-то на Эмму.
– Ваня!.. Ваня!.. Он нас… высечет! – визгнула от смеха Эмма.
Ваня же не спеша поднялся со стула, привычным движением расстегнул и сбросил бархатную куртку, и остался до пояса только в трико тельного цвета, показав такие сампсоновы мышцы, что все ахнули.
– А ну-ка, попробуйте высечь, – добродушно поглядел он на Иртышова и сложил на груди руки.
Поднявшаяся рядом с ним Эмма, закусив губы, имела такой решительный, боевой вид, как будто хотела без разбега вскочить на стол, а потом тут же – гоп-ля! – перескочить через голову Иртышова.
Ваня еще только думал, как может отозваться Иртышов на его вызов, но тот вдруг сказал задумчиво:
– Цирки и театры надо будет всячески поощрять: это прекрасный способ воспитания масс.
– Ты слышишь, – ну? – Ваня? Он нас не будет высечь! – радостно вскрикнула Эмма. – Теперь ты можешь надевай свой костюм!
И все захохотали кругом.
Ваня щегольнул еще раз своими бицепсами и медленно натянул куртку снова.
– Од-на-ко! – покрутил головою Синеоков. – Как вы думаете, отец Леонид, нужна ли такому молодцу ослиная челюсть?
– Да-а-а… Это мощь!
– Нет, все-таки о тысячу дураков кулаки голые обобьешь, – серьезно отозвался Ваня: – И какая бы ни была плохонькая челюсть ослиная, она не помешает, а очень поможет.
– Это вы что же, по опыту знаете? – ввернул Иртышов.
– Исключительно по опыту!.. Что бы ни было зажато в руке, хоть пятак медный, – удар будет гораздо сильнее.
– Ну вот!.. Ну вот!.. – почти обрадовался о. Леонид. – Вот что говорят сами Сампсоны! – и посмотрел на Иртышова торжествуя.
Но Иртышов задорно подхватил вызов.
– Сампсоны – продукт усиленного питания… В селе, например, у кого сыновья крупнее? У кулаков!.. А вот в селе Коломенском под Москвой живал когда-то царь, тишайший до глупости, и выкармливал там дубину в сажень росту, – Петра, прозванного Великим… за великие мерзости, конечно…
– Чего, – увы! – не удалось сделать Екатерине, тоже Великой, – подхватил Синеоков весело: – Плюгав вышел у ней Павел, – это на царском-то столе!
– А что царского в Николае? – неожиданно спросил Дейнека, всех обведя тусклым взглядом. – Не Сампсон и не царь… Мозгляк забубенный… И говорят, пьяница…
– Э-э, господа! – недовольно поморщился Иван Васильич. – Прасковья Павловна, – вам это ближе, – предложите Андрею Сергеичу пирожного!
– Чтобы рот заткнуть! – подхватил Иртышов.
– Отец богатырь был, а сынишка вышел мозгляк, – почему? – продолжал, возбуждаясь, Дейнека. – Ему бы шахтером быть, – пропивал бы субботнюю получку… пока кто-нибудь кишок бы не выпустил… Самому-то ему уж куда!..
– Я не могу этого допустить! – строго сказал Иван Васильич, но Дейнека продолжал, окрепнув в голосе:
– Шахту «Софья» кто взорвал? Рабочий Иван Сидорюк… Такой же мозгляк… с такой же чалой бородкой… В волосах кудлатых пронес в шахту спички-серники и папироску!.. Кто оказался виноват в этом?.. Я, инженер Дейнека. Почему я виноват?.. А потому, что не поверил мне Сидорюк Иван, что спичкой может взорвать он шахту… Я виноват, хорошо… пусть!.. Но я не женат, у меня нет сына… Иртышов был женат, имеет сына тринадцати лет… Он говорил вчера: хулигана и вора!.. Почему? – Сын ему не поверил… Кто виноват?.. Иртышов!
– Вот!.. Так!.. Вот!.. – одобрительно вмешался Иван Васильич. – Спорьте!.. Доказывайте… Выходите из апатии… Вам это очень полезно!.. Хотите, я вас в комнату Иртышова помещу, а господина Синеокова, батюшка, к вам?.. Да, так мы и сделаем… Прасковья Павловна, переместите их завтра!
А Иртышов вытянул указательный палец длиннейшей руки в сторону Дейнеки:
– Вот видите, – вам же и оказалось полезно, что сын у меня хулиган и вор!.. Вроде гофмановских капель это вам!.. Кушайте на здоровье!.. А кто из него сделал хулигана и вора? – Общество, его воспитавшее!.. В мое отсутствие… Я в ссылке был!.. Да, именно, – хулиган и вор… и вымогатель!.. Обирал меня, иначе грозил донести… От него я из Москвы уехал.
– Хорошенький сынок!.. За-вид-ный! – фыркнул Синеоков, и вслед за ним захохотала Эмма, и с большим любопытством Ваня пригляделся к рыжему, а тот, заметив это, вскочил свирепо:
– Смешно вам?.. Дико, а не смешно!.. Дико то, что вам это смешно!.. Нет у меня времени заниматься такими мелочами, как какой-то гнусный мальчишка, и не было!.. Но все-таки… все-таки он не такая труха, как вы!..
Дарья брала уже раз подогревать самовар, – теперь вошла за тем же самым снова. Из всех лиц в этой комнате это было самое брезгливое, самое недовольное лицо: тяжелое, раскосое, оплывшее, полное самых мрачных мыслей. Она пила исподтишка на ночь, а Прасковью Павловну ненавидела за то, что ходила она в белом и сидела за столом, как барыня, – и теперь, войдя, отнюдь не заботливо, а очень угрюмо и враждебно кивнула ей на самовар:
– Еще, что ль?
И, похлопав по самовару ладонью и бросив ласковый взгляд на большое прочное лицо Вани, ответила Прасковья Павловна:
– Ну, конечно, еще!
Этой маленькой заминкой в общем разговоре от случайного вторжения Дарьи решил воспользоваться студент. Он поднялся мягко и сказал вкрадчивым голосом:
– Гос-спо-да!.. Мне не раз случалось оголосивать свою поэму «Ждата»…
Вкрадчивый голос перешел в томный, слащавый, замирающий, и когда поднялось на него несколько пар недоуменных глаз, он закончил:
– Одним только ритмодвижением… Вот!
И довольно проворно вытащил он из кармана свой венок, но уже не из листьев плюща, а из листьев падуба, росшего в укромном защищенном месте сада Вани, и, приняв позу строгую и надменную, поднял правую руку, как маг, творящий заклинания, и так с минуту он двигал рукою, затейливо чертя перед собою ромбы, квадраты, круги, знаки вопроса и еще что-то, понятное только ему, и когда кончил, торжественно поклонился и сел, не снимая венка, всем стало неловко, и только Иртышов сказал протяжно:
– Да-а-с!..
И бросил в рот крошку.
Подойдя к студенту и молча, но решительно снимая с него венок, обратился Иван Васильич к Эмме:
– Вы не играете?.. Нет у нас музыкантов, – так жаль!
– Я-я? – удивилась Эмма, покраснев. – Я знаю воздушный полет, – ну, я знаю смертельный петля… Я знаю много очень нумер, – ну, – музыкант – нет.
– Жаль, жаль!.. Но завтра мы уберем ваш сад, – расчистим дорожки, подрежем деревья, какие можно будет, – акации, например… и мы попробуем сделать там беседку… Вы нам позволите, надеюсь, Иван Алексеич?
Худолей говорил это, стараясь быть уверенным в каждом слове, как прилично было его военному костюму, но не вышло уверенно, вышло просительно, пожалуй даже робко… Между тем студент, несколько раз проведя по голове ладонями обеих рук, сказал почти испуганно:
– Где же он?.. Где?.. У вас, доктор?.. Дайте!..
И протянул к нему руку требовательно и капризно, как избалованный ребенок.
– В комнате это вредно… жарко… э-э… стеснительно голове, – ласково, но уверенно говорил Иван Васильич. – Я вам дам его завтра, когда будем работать в саду… Я внимательно слушал вашу поэму…
– Вам она нравится?.. Нравится?.. Говорите!..
– Я хотел бы прослушать ее в переводе на обыкновенный человеческий язык…
– Поэму мою на обыкновенный человеческий язык?.. Доктор, доктор!.. Что же тогда останется от поэмы?.. Вот художник! (Он показал на Ваню.) Попросите его оголосить картину на обывательском языке… Может он это?.. Если может, он не художник!
– Ничего нельзя передать на обыкновенном языке! – неожиданно буркнул Дейнека глухо, но тут же повторил яснее: – Ничего нельзя передать словами!.. Не покрывают!.. Ужаса не покрывают!.. Ужас, он огромный… Слова – малы… Слов мало… Слова – не то…
– Ритм! – подсказал ему студент.
– Ритм? Не то… Музыка?.. Тоже не то… Застряла в квершлаге лошадь издохшая… И от нее вонь… Можно словами выразить?.. Невыразимая!.. И мы не могли перебраться: отшвыривало нас!.. Назад!.. В темноту лезли… Падали!.. Искали выхода… Штреки были рядом, – засыпало… взрывом… Опять сюда, а здесь она… окаянная лошадь эта… И всех тошнит… Не могут… Бегут назад… И я не мог… И так три дня… Потому что пронес серную спичку в волосах Сидорюк Иван… Однако всякое «потому что» хорошо выходит только на словах… ничего не покрывающих… А как же лошадь?.. А?
– Вам нужно было остричь наголо ваших рабочих, чтобы не могли проносить спички в волосах, – сказала Прасковья Павловна и тряхнула белыми буклями.
Это простое средство от катастроф больше всего рассмешило почему-то не Эмму, а Карасека. Он смеялся совсем по-детски, до слез повторяя:
– Остричь!.. О да, да!.. Остричь!.. О да, да, да!.. Остричь!..
– У вас, – обращаясь к Дейнеке, заговорил Иртышов, – прекрасная тема: как гибнут в шахтах десятки белых рабов, но вы почему-то обходите эту тему… Вы вспоминаете почему-то одну только лошадь!.. Лошадь, конечно, тоже народное хозяйство, но у вас там погибла порядочная горсть людей (а кто не погиб, погибает), но вы – декадент, и вот ерунда какая-то вас интересует, а главное – нет… Свою же тему вы губите!
– Так!.. Так!.. – одобрительно кивал головою Иван Васильич.
Дарья в это время внесла самовар и шумно поставила его на стол, – преднамеренно шумно, особенной не было в этом нужды; самовар был средней величины, белый, в виде вазы. Ивану Васильичу казалось, когда он покупал его, что такая форма при белом цвете металла успокоительно будет действовать на его больных.
Когда уходила Дарья, жиденький хвостик ее косы, выскользнув с затылка, заскочил за ворот ее синей кофточки, и, может быть, от этого она, косолапо ступающая, сильнее, чем надо было, хлопнула дверью.
– Кому чаю – давайте, господа, стаканы! – почти пропела Прасковья Павловна, а Иван Васильич, желая дать другое направление разговору, ласково обратился к Ване:
– Вы так хорошо говорили со мной об искусстве, Иван Алексеич!.. Но – я профан в искусстве, я не сумею повторить ваших мыслей… Если бы вы сами нам теперь, а?.. Мы бы вас с очень большим вниманием слушали!.. С очень большим вниманием!..
– Гм… Не знаю… – улыбнулся неловко Ваня. – Я ведь вообще не речист… И не знаю, кому это будет интересно… Вам интересно? – обратился он вдруг к Иртышову.
– Живопись? – несколько свысока спросил Иртышов…
– Живопись, конечно.
– Чтобы она пускала всякие эти там эстетические слюни, не-ет уж!..
– Слыхали? – весело кивнул Ване Синеоков.
– Господа! – болезненно жалуясь, выкрикнул Карасек. – Я говорил… говорил, говорю, на-ме-рен говорить об очень важном, об очень всем необходимом даже: о немецком философе Гегеле!.. Я вижу, в России забыли его!.. Россия есть огромная страна, и в ней оч-чень много есть немцев, и немцы помнят своего Гегеля, а Россия забыла. Die Menschen und die Russen… – вот это говорил Гегель. Люди и… русские!.. Об этом забыли в России, но немцы… помнят!.. Я удивляюсь, какая память у русских!.. Это – они забыли!.. Я удивляюсь, ка-кая мягкосердечность у русских: это они простили!.. Их не считают людьми… даже людьми!.. Я извиняюсь!.. Мне стыдно!.. Такой великий славянский народ!.. Гегель еще сказал… (я буду говорить по-русски)… Он сказал: «Славяне, мы выпускаем в изложении нашем… Славяне, они стоят между… Тут европейский дух, тут азиатский дух, а между – славяне… Влияния на человеческий дух не имели славяне… Они… вплетывались… (так можно сказать?), врывались в историю, и только тянули назад»!.. Так говорил Гегель… А Моммзен… Теодор Моммзен, историк, он говорил: «Колотите славян!.. Бейте славян по тупым их башкам – они ничего лучшего не стоят!..»
– Ска-жите!.. Так и говорил?.. Моммзен?.. Нет, этого я не допускаю! Вы увлекаетесь, Ладислав Францевич!.. Нет, это вам вредно!.. Я против этого!.. Слышите!.. Я запрещаю!
И было почему так резко вмешаться Худолею: Эмма поняла что-то у Карасека, поняла, что он не хвалит за что-то немцев, что он обвиняет даже в чем-то немцев, и она крикнула Ване:
– Ваня! Ваня! Что этот там теперь сказал, ну?
– В сороковых годах еще забыли вашего Гегеля, а вы!.. Эх, отсталый народ! – сокрушенно бросил в Карасека Иртышов.
– Но вы вспомните!.. Но вы вспомните его! – постучал пальцем по столу Карасек, заметно разгорячаясь. – Вы еще вспомните и Гегеля, и Моммзена, и Фридриха Великого!.. Всех! Всех!..
– Почему Фридрих Великий? Ну?.. Ваня! – не унималась Эмма.
– Вот вы сказали, – обратился к Синеокову Худолей, – что были в Риге, а Эмма Ивановна как раз из Риги… Такой большой, богатый, старинный город… культурный город, а вы… вы обратили внимание только на узкие улицы!.. Для небольших домиков, которые там были когда-то, – скажем, лет четыреста, пятьсот, – эти улицы были как раз, – не так ли?.. Но вот появляются дома-громадины – в три-четыре этажа, и улицы кажутся уже узкими… Не сами по себе узкие они, а только ка-жут-ся узкими… Многое в жизни только кажется узким… особенно вам, Иртышов!
Он хотел сказать что-то еще, но Эмма перебила его, возмущенно глядя на Синеокова:
– Старый Рига – узки улицы!.. Нну!.. Вы не был там Берман-сад? Стрелкови бульвар?.. Театральни бульвар?.. Узки улиц!.. Рядом вок-заль узки улиц, рядом ратуша узки улиц, – все!.. Больше нет узки улиц!
– Ну разве же я их считал, или шагами мерил ваши узкие улицы! – усмехнулся Синеоков. – И охота вам волноваться из-за пустяков!
– Рига есть – моя Рига!.. Vaterland!.. Как сказать, Ваня, ну?
– Родина, – подсказал Ваня.
– Родина, да!.. Рига!.. О-о!.. Вот мы скоро едем нах Рига, я ему покажу все, все!
– Поезжайте, – да, поезжайте в свой родной город, вами любимый, – вдруг как-то проникновенно обратился к Эмме о. Леонид. – Оба здоровые, крепкие, молодые, – только жить да жить!.. Приятно, когда родину свою любят!.. Даже со стороны приятно глядеть… Отчего же у нас нет этого?.. Со многими говорил, – разлад, скука у всех, насмешка… Почему же это?
– Ага!.. Вот!.. – подскочил на месте Карасек.
– По-че-му?.. То-то, отец!.. Подумайте на досуге! – метнул в его сторону рыжую бороду Иртышов.
– Отец Леонид меня зовут, – поправил священник с явной досадой.
– Да уж как бы ни назвал, – поняли же!.. А теперь слушайте, я вам отвечу…
И Иртышов сузил глаза и проговорил почти шепотом:
– Когда меня вешать поведут, – предположим так, не пугайтесь, – вы ко мне с крестом своим не подходите тогда: сильно обругать вас могу!
– Что вы?.. Что вы?.. – отшатнулся и – тоже шепотом о. Леонид.
А студент поднялся и бодро выкрикнул:
– Господа!.. Начинаю читать еще одну свою поэму: «Поземша»!..
– К черту с поэмами! – громко отозвался вдруг Дейнека, неожиданно покраснев, при этом поставил рассерженно полный стакан боком на блюдечко, пролил немного чаю и от этого осерчал еще больше. – Поэмы! Поэмы!.. Вы… Вы… такой же поэт, как дохлая лошадь!
– То есть как же вы это, Андрей Сергеич?.. Нет, вы не пейте больше чаю, вам вредно! – заволновался Худолей, и тут же студенту: – Мы, конечно, прослушаем сейчас вашу поэму… Но вас, Андрей Сергеич, я прошу быть сдержаннее!.. Прошу!..
Дейнека в упор глядел на студента и чмыкал носом краснея, студент оскорбленно глядел на Дейнеку и побледнел, когда поднялся о. Леонид.
В черной рясе своей, как в хитоне древнем, в черной рясе, чуть голубоватой от верхнего света крупной груши, с белесыми, как будто еще более вдруг побелевшими, волосами, и совсем бессильно упавшей, запавшей редкой бородою он смотрел куда-то поверх Иртышова и Ивана Васильича глазами, от расширенных зрачков ставшими черными почти и глубины несколько пугающей, и голос понизил до звука сдавленного глухого рыдания:
– Сказали, что болен я… И вот, Иван Васильич нашел… «Лечиться, говорит, надо»… Вот, лечусь… Лечусь… Но почему же так страшно… Почему же тоска смертная?.. Пить?.. Пробовал, каюсь (он наклонил голову)… Не принимает натура… Не помогло, – нет… И даже хуже… Бросил… Слабым умом своим постичь не могу, – путаюсь… но сердцем чую… чую! Двое деток у меня… Они здоровенькие пока, слава богу, – отчего же это, когда глажу их по головкам беленьким, рука у меня дрожит?.. Глажу их, ласкаю, а на душе все одно почему-то. Откуда это? Не знаю… Не могу постигнуть! Отвернусь – слезы у меня!..
– Отец Леонид! – с кроткой твердостью в голосе обратился было к нему Иван Васильич, но он не остановился, не отвел даже глаз от того, что привиделось ему над головами других:
– За что, господи, посетил видением страшным?.. Молюсь, чтобы не видеть, нет помощи! Стою в церкви своей приходской, и кажется мне: качается!.. Явственно кажется: ка-ча-ет-ся!.. Вот упадет сейчас!.. Не раз крикнуть хотел: «Православные, спасайтесь!..» Но куда же бежать-то, ку-да же?.. Где спасенье?..
– Ну, пошел свой елей разливать! – громко буркнул Иртышов. – Нашел время!
Его о. Леонид расслышал.
– Елей? – переспросил, отступая и серея.
– Елей, именно, а то что же?
И прижался Иртышов к столу пружинистой рыжей бородой, точно готовясь сделать прыжок тигра.
Но о. Леонид, подавшись еще больше назад, уронил свой стул, и только успел было Иван Васильич вмешаться: «Иртышов!.. Я вам делаю замечание!» – как высоким сиплым голосом о. Леонид крикнул в полнейшем испуге:
– Спасите меня!.. Спа-си-те!.. Спаси-те!..
И поднялось большое смятение в нижнем этаже дома Вани.
Обняв дрожащего, с нависшими прядями волос, о. Леонида, Иван Васильич бормотал смущенно:
– Успокойтесь, батюшка, успокойтесь!.. Придите в себя!..
Растерянная Прасковья Павловна, с распустившейся белой буклей вдоль лба, подносила ему стакан, в который проворно накапала каких-то капель.
Синеоков кричал в сторону Иртышова:
– Это бестактно!.. Вы такой же больной, как и все тут!.. Извольте подчиняться режиму!
Студент Хаджи тем временем вплотную почти подобрался к Дейнеке и кричал тоже:
– Вы – гнуснейшая личность! Знайте – гнус-нейшая!
– Что-о-о?.. Как вы смеете?!. – сжал вровень с его лицом оба кулака Дейнека.
– Вы… говорите… мне: «Поэт, как… дохлая лошадь!»…
– Да, поэт, как дохлая лошадь!.. Да, говорю: «Поэт из вас, как дохлая лошадь»!.. Дальше?
Отец Леонид отталкивал стакан Прасковьи Павловны, слабо бормоча:
– Это – секира при корени… Секира при корени…
– Он – такой же больной, как вы! – убеждал его Иван Васильич, оборачивая изумленную христоподобную голову в сторону Дейнеки. – Уверяю вас, такой же самый!.. Я ему скажу, и он больше не будет вас беспокоить… Андрей Сергеич!.. (Он покачал укоризненно головой.) Поверьте, такой же самый больной!..
– Это есть не совсем тактично с вашей стороны, господин Иртышов! – доказывал в это время взволнованно Карасек. – Вы обязаны извиниться!
У Хаджи же очень заметны стали не бросавшиеся прежде в глаза крупные скулы. Он стоял перед Дейнекой, наклонив голову, только глаза подняв кверху на высокие глаза Дейнеки.
И, заметив это, Ваня подошел к нему и рокотнул отвлекающе:
– Ваши поэмы, как супрематизм в живописи… Но их, конечно, поймет не всякий… Вообще оригинальность приемов, она… должна быть выстрадана… правда?
Эмма же в это время горячо говорила Синеокову, кивая на Иртышова:
– Этот человек, он, ну, нах фабрик, нах конюшня, ну, а не здесь!.. Он имеет – ну, плохой запах!
– Ах, как же иначе, когда такая мода нынче: мода на грубость и скверные запахи!.. – отзывался ей Синеоков.
Только сам Иртышов не был, казалось, смущен. Отмахнувшись от наседавшего на него Карасека, он дотянулся длинной рукой до желтого шафранного с красными жилками яблока, понюхал его и по-детски беспечно вонзил в него крепкие под рыжими усами зубы.
Глава пятая
Верхний этаж
Это было странное утро, когда Марья Гавриловна, придя с базара, принесла старому Сыромолотову радостную, как она думала, весть: уехала Эмма, а Ваня не поехал с нею, остался, даже не проводил ее на вокзал.
– Ого!.. Остался?.. А зачем, собственно, остался?.. Дом свой стеречь? – поднял крылья бровей старик, и взгляд у него стал злой и угрюмый.
Стараясь не забыть ничего, а передать точно все, как говорила ей Настасья, Марья Гавриловна сыпала готовыми уже, спелыми словами, которые не держатся уже, как все спелое, а падают сами:
– До того тиранила, до того тиранила, – а Иван Алексеич молчит себе или коротко так скажет: «Можешь ехать, а я не поеду. Никуда не поеду, – мне и здесь хорошо…» Она кричит, ногами топает: «Ты – ракушь!.. Ты – камень!.. Мохом расти!» – «И буду, говорит, ракушка!.. Не задразнишь!..» Такое сражение подняла, – батюшки!.. А вчера уехала одна, – тем и кончилось… Дом-то на его деньги, на Ивана Алексеича (не все выклянчила), и купчая на его имя…
Старик слушал сбычась и неподвижно, а когда кончила Марья Гавриловна, опустил брови и сказал:
– Сейчас не уехал, потом уедет…
– Кри-ча-ла! – подхватила Марья Гавриловна. – Как уезжала на извозчике, а он у окна открытого стоял (у них ведь окна – зима не зима – все время настежь), – так и кричала: «Чтоб ты через два ден ехаль!.. Буду ждать на Орел!..» А он-то ей ни словечка, Иван Алексеич!.. Даже «прощай» не сказал!
Действительно, Эмма уехала одна, уехала в Ригу, в цирк, куда приглашали также и Ваню; но как ни хотелось Эмме приехать в свой родной город с мужем – чемпионом мира, он отказался: он сослался на то, что болен.
– Ты – больной?.. Ты такой больной, как… печка!..
– Что же ты понимаешь в болезнях? – кротко возражал Ваня.
Сцены были бурные, и даже обижался нижний этаж на содрогание потолка, и когда уехала, наконец, Эмма, – нижний этаж был рад, пожалуй, не меньше, чем Марья Гавриловна.
И однажды увидели во дворе дома Вани широкого господина с проседью в бороде, в прекрасном новом пальто, в бобровой шапке, в щегольских перчатках, с дорогою тростью в руках. У Прасковьи Павловны, вышедшей в переднюю ему навстречу, он сановито и вежливо спросил, как пройти к хозяину, художнику Сыромолотову, и очень учтиво благодарил, когда она указала ему лестницу.
Поднявшись во второй этаж, он постучал в дверь, не найдя звонка сбоку. Открыл ему сам Ваня и отступил, увидев отца.
Но тот был весел. Еще не снимая шапки, в пыльном солнечном луче весь золотящийся, он улыбался прищурясь и певучим, – как в детстве только слышал Ваня, – молодым голосом говорил:
– Не ждал – не гадал?.. Вот видишь, как иногда бывает!.. А я к тебе… с визитом!.. Потому что… (он снял шапку и в угол вешалки поставил трость) я сегодня почти именинник, как тебе… было когда-то известно… Гебурстаг мой сегодня, – день рождения… Стукнуло мне сегодня (он расстегнул пальто) – ровно шестьдесят лет…
– Как шестьдесят?.. – удивился Ваня, помогая снять пальто. – Пятьдесят семь только… или пятьдесят восемь…
– Уте-шил!.. «Пятьдесят восемь»!.. Оч-чень далеко от шестидесяти… Но я говорю себе: шестьдесят!.. Это чтобы привыкнуть к седьмому десятку заранее…
Когда, так балагуря в прихожей, разделся он и вошел в комнаты, Ваня увидел, что одет отец в совершенно новую дорогую пару и что бриллиантовая булавка – царский подарок, о котором он знал, у него в мастерски по-старому завязанном галстуке… Волосы на голове, обычно кудлатые, теперь были тщательно расчесаны и были еще пышны для его лет и придавали его широкому черепу вид совершенной несокрушимости, а борода была кованая…
Правда, был очень яркий солнечный день, и реки света лились в окна верхнего этажа, – все-таки Ваня проговорил удивленно:
– Ты нынче какой-то трисиянный!.. С тебя хоть портрет пиши для монографии!
– Что ж, и пиши, – отозвался отец. – Пиши – пиши… Полчаса тебе попозирую… Только мазок свой покажи сначала, – мазок и рисунок… А то, пожалуй, не сяду!.. Мазок и рисунок…
Старик имел такой парадный и такой снисходительный вид, что не видавшая его никогда раньше и принявшая его за какое-то очень важное лицо, посетившее ее молодого хозяина, большеносая Настасья, вошедшая было с тряпкой и щеткой половой, почтительно застыла у порога.
Но старик тут же обратился к ней:
– Послушай, милая Личарда, дай мне там стаканчик воды холодной!..
И Настасья, едва бормотнув: «Сичас!» – и бросив щетку и тряпку, опрометью бросилась на кухню за водой, тряся тяжкими грудями.
– А может быть, чаю? – догадался предложить отцу сын.
– Нет, только воды… А где же твоя мастерская?
Уезжая, Эмма забрала с собой свои трапеции, но крючки в балках потолка остались, и когда в мастерскую Вани вошел старик, он прежде всего в эти прочные крючья упер глаза, перевел их на Ваню, но тут же вспомнил, как «качалась» немка однажды вечером, когда он кричал мартовским котом, догадался, зачем крючья, однако сказал сыну по-прежнему серьезно и строго:
– Этто… этто… сними!.. Гадость какая!.. Сними, говорю.
И даже ноздрями передернул.
– Боишься, что повешусь? – улыбнулся Ваня: – Не собираюсь, не бойся…
И пока пил отец воду, принесенную Настасьей, смотрел на него Ваня, любуясь и улыбаясь и стараясь догадаться, почему именно он у него в мастерской и такой новый?.. Не потому же, конечно, что сегодня стукнуло ему пятьдесят восемь лет!
Отворяя дверь отцу, Ваня был со шпателем и палитрой в руке: он подмалевывал картину, стоявшую на мольберте, и теперь она, по-новому яркая, раньше других притянула старого Сыромолотова.
– Ого!.. Калабрия? – спросил он преувеличенно весело.
– Вроде, – ответил Ваня.
На картине спереди справа были развалины, а на среднем плане вел усталого, понурого осла усталый прожженный солнцем человек в широкой соломенной шляпе; на осле сидела, видимо, очень усталая женщина в белом, с грудным ребенком.
– Или бегство святого семейства во Египет?
– Похоже и на это, – улыбнулся Ваня.
– Этто… удалось, – да… Кое-где кактусы, кажется?.. Усталость хотел?.. Если хотел, – удалась…
– И вечер… солнце уж зашло… Так ты находишь, что усталость заметна?..
– А это? – присмотрелся отец к переднему плану. – Ого, какие глазища страшные!.. И лапы?.. Это что?.. Лапы?.. Это – зверь?..
– Вроде… Как раз только что я его хотел показать лучше…
– Помешал я, значит?.. Эх!.. – и старик слегка дотронулся до плеча сына.
– Ну вот, помешал!.. Я хотел немного еще его показать… А много нельзя: ведь оно в сильной тени от этих развалин… Оно – в своем логовище… Значит, усталость все-таки заметна?.. Я так и хотел… А пейзаж у меня произвольный… В Калабрии я не был… Кактусы разве есть в Калабрии?.. Я их срисовал с какой-то фотографии, потом, может быть, смажу… «Сейчас они отдохнут», – так думаю назвать…
– Ага!.. Отдохнут?.. Потому что…
– Потому что оно ждет их и сейчас бросится…
– Кто же это оно?.. Зверь?.. Тигр?.. Лев, что ли?..
– Да… Вообще… Страшный какой-то конец их жизни… Все устало очень: люди, осел, небо… и вся эта вообще пустыня с кактусами… Но оно – нет! Оно, напротив, полно силы… Оно ждет их… и дождется… Вот что, собственно, я хочу… Полно силы и голодно… Очень голодно… Показывать его ясно я не хочу… Вот только это (он показал шпателем) – концы лап и глаза на морде… Но очертаний морды не должно быть… А прыжок оно сделает через две-три минуты, когда они подвинутся.
– Ага!.. Но лапы все-таки охра?
– Нет, они должны быть темнее… Это я хотел замазать сейчас.
– Ага… Ну да… Половина пока еще работы… А половину работы дуракам не показывают… А это что?
– Это – «Жердочка»… Сначала я называл «Узкая тропа», теперь зову «Жердочка»… Что еще уже жердочки?.. Канат?
Картина была на подрамнике и просто прислонена к стене. Какая-то погоня загнала двоих – мужчину спереди и женщину сзади – на бревно, перекинутое через горный поток… Но хлещет дождь, бревно скользкое, и вот падает мужчина, – поскользнулся и падает навзничь, и не удержится, упадет сейчас, и будет унесена потоком и разбита о камни женщина: это видно по лицу ее, что сейчас упадет и она… Сзади же горы, и две лошадиные головы в дожде – черная и белая: погоня.
– Гм… «Жердочка»… Да… Экспрессия есть!.. Вот как – а?.. И воздух… и скалы даны… Это – Абруццо?
– Вроде этого, – пророкотал Ваня.
– Коротка рука тут, – показал на падающего отец.
– Ракурс!.. Так, – показал на своей руке сын.
– На полвершка короче, чем надо… А дождь хорош… И холодно… Осень?.. Ноябрь?.. Который час?
– Двенадцать, кажется. – Ваня достал часы из кармана: – Первого двадцать минут.
– Нет, я о картине твоей… На скалах этих, хоть они и в дожде, часа три дня, а на шали женщины – часа четыре… пять даже… Но-о… Экспрессия есть… экспрессия есть! И сюжет трудный… А это?
– Это «Фазанник».
– Ска-жи-те! – протянул старик искренне перед новой картиной, повешенной на стене наклонно. – Занятно!.. И понятно, да… За-нят-ный мотив!.. Это – электрический фонарик у него в руке?
Картина была больше других, – аршина полтора на два, высота меньше длины. Кок в белом, вошедший ночью в фазаний садок, был дан безголовым: верхний край картины оставлял ему только нижнюю часть шеи. Очень дюжая спина смотрела на зрителя, и отчетлив был длинный кухонный нож в черной кожаной ножне, прицепленной к фартуку сбоку.
Освещенные снопом света, испуганно глядели фазаны, золотистые и серебристые, сидящие рядком на нашесте… Разбуженные от сна, одни подняли головы, другие протянули шеи вперед, и к одной из этих птиц, самой красивой и важной, тянется широкая рука повара.
– Ага!.. Вот как!.. Значит, смерть в белом!.. С ножом вместо косы… Сюжет – да!.. И хорошо, что ночь… Так большей частью и бывает: сначала наступает ночь, а потом, ночью, приходит смерть… Я, конечно, от удара помру и непременно ночью.
И несколько нараспев, несколько неожиданно для Вани прочитал вдруг старое чье-то шершавое четверостишие:
Что наша жизнь? – свеча:
Живешь пока живется,
Приходит смерть, махнет косой с плеча, –
Огонь потух, – одно лишь сало остается!
– Фазанчики, конечно, жирные, да… Корм-леные фазанчики… Но тема у тебя везде одна и та же… А это? – заметил он еще панно на другой стене. – Бурно!.. Очень бурно!.. Ог-го!.. Очень эффектный прибой!.. И даже… Это что, – дома летят в море?
– Это под впечатлением… ты помнишь, – землетрясение в Мессине? Когда Мессина провалилась в море… читал?
– Ага?.. Так это – Мессина?
– Вроде…
– А не зелена вода?.. Тра-гич-но!.. Нет, это – трагично!.. Не зря, значит, я к тебе пришел!.. Дома сейчас скроются!.. Трагично!.. Нет, вода почти хороша, – но только… выше надо! Еще выше!.. На аршин выше!.. Давать так давать!.. А здесь внизу – асфальт!.. Грудами!.. Теперь не любят асфальта… Отставная краска!.. Однако к этой гамме тонов только он идет – асфальт!
Волнообразно пробуравил перед собою рукою с большой энергией, взмахнул ею над картиной и добавил:
– На аршин выше!
И тут же:
– А-а!.. Раз-бой-ница!.. Бук-вально, головорез!.. Боевая!.. Да… Скучаешь по ней?
Это он быстро повернул подрамник с холстом в углу за корзиной и увидел на нем портрет Эммы в трико на трапеции.
– Пока не скучаю, – рокотнул Ваня.
– Головорез!.. Да… Ну так что же? Посидеть с полчаса?.. Полчаса времени есть… Холст найдется?.. Углем успеешь?.. Где сесть?.. Разве сюда вот, к окну?.. Сяду к окну!
Был в прошлом Вани один очень памятный день в начале августа восемь лет назад.
Тогда в Черниговской губернии на Сейме жили они с отцом лето в одном стародворянском имении; там был конский завод, известный на всю Россию, а отец как раз увлекался тогда картиной «Скачки» и с породистых холеных тренированных красавцев-орловцев писал этюд за этюдом.
Он помнил: в этот день он купался в Сейме, который именно здесь, на излучине, имел очень быстрое течение, и весело было на спор с двумя однолетками – сыновьями хозяина, правоведами, переплывать реку напрямки, чтобы не уступить быстрой воде.
Но вот один из конюхов, заика и косой – Аким Сорока, прибежал за ними: мужики начали громить соседнюю усадьбу генерала Сухозанета и вот-вот должны были перекинуться к ним, и уже послано за помощью в город, и уж приготовился бежать хозяин.
– Кы-кы-к-к-кабрильет зап-рягли, бы-бы-б-бегунки зап-ряглы… Ды-ды-д-две пары в д-д-дышлах… линейками!..
Потный, красный, заранее испуганный Сорока, сорокалетний, черный, в плисовой жилетке, в желтой рубахе, все хлопал себя жалостно по бедрам руками и советовал им табуном гнать лошадей к городу, иначе пропадет вся конюшня.
– Пы-пы-п-панычи, н-накажи меня бог, – по-попорiжут коней!
В усадьбе думали все-таки, что винокуренный завод Сухозанета задержит грабеж на целый день – перепьются мужики, и подоспеет отряд ингушей из города, но едва добежали мальчики, как толпа с телегами – и немалая толпа – оцепила как раз тот флигель в старом саду, где жили они, Сыромолотовы…
И, набрасывая теперь углем голову отца, очень живо представлял Ваня эту голову тогда, восемь лет назад, в августе.
Так же без шляпы, но с растрепанной шапкой волос, крутолобая, со страшными глазами, – и над нею дубовый кол в тугих руках…
Уже сидели на линейке мать его и экономка из усадьбы Луиза Карловна, а Аким Сорока, бывший за кучера, еле сдерживал стоялых лошадей, непривычных к дышлу, – однако отцу хотелось спасти свои этюды, и он пытался втолковать толпе, что он не помещик, а художник, просил, чтобы выкинули ему трубки холстов, но первый же, кто был к нему ближе, завопил:
– А з чиих трудов шляпу себе нажил, га, сукин сын? – и сбил с него шляпу колом.
Этот самый кол и был теперь в руках отца, и на отца наседало тогда человек двенадцать, но боялись подойти близко, и он пятился и ворочал глазами страшными влево-вправо, чтобы не зашли сзади.
Ваня кричал ему тогда из-за скирды соломы, за которой стояла линейка:
– Сюда! Папа!.. Сюда!..
Ему казалось тогда, что наседавшие мужики оттиснут его в сторону, он искал кругом, с чем бы кинуться на них сбоку… Мать и Луиза Карловна стонуще звали его:
– Ваня!.. Ва-аня!..
Лошади грызлись, взвизгивая жутко.
– П-па-нич!.. Сидайте!.. Си-дай-те! – кричал и Сорока Аким, думая, что через момент убьют отца.
И вдруг отец закрутил над головой кол, гикнул и кинулся на толпу сам, и толпа человек в двенадцать побежала перед ним одним…
А через минуту он уже сидел на линейке с ним рядом, и руки всех четверых в линейке крепко впились в поручни, потому что лошади, хоть и тренированные для скачек, сразу взяли бешеный галоп.
Разъяренный еще боем, отец был страшен тогда, пожалуй, но великолепен, и он, Ваня, помнил, как не пугало его тогда, что из разбитой над виском головы отца капля за каплей падала на бороду и скатывалась на чесучовую рубаху кровь… И помнил Ваня, что весь день тогда в городе, куда они прискакали к обеду, он смотрел на отца влюбленно.
Шрам на выпуклой голове виден был и теперь, и он наметил его у себя на холсте углем.
– Чтобы не портить рисунка, я тебе без мимики и без интонации даже, – говорил старик усевшись, – расскажу, почему я в параде… Был я вчера предупрежден, что один князь великий – имярек – «следующий из своего дворца с Южного берега»… (Так пристав и сказал: «следующий»… я же его спросил: «А предыдущий?» – но он не понял)… Так вот… «следующий» этот захотел посмотреть мою мастерскую: он, дескать, много наслышан… От кого именно, о чем именно, – неизвестно… По первому слову я отказался. Пристав в ужасе – «Как же можно?.. Что вы?..» И чиновник какой-то: «Еще не было такого прецедента!» А тут я вспомнил, что день рождения моего и даже, что к этому именно дню подгонял я картину мою и ее закончил… то есть сказал себе: «Будет!.. Ставлю точку!..» Думаю: «Эге, – даже и кстати, пожалуй, это!..» – «Хорошо, – говорю, – я оденусь и причешусь». – «Завтра в одиннадцать», – говорят. «Жду», – говорю. «Обрадуете», – говорят. «Очень хотел бы», – говорю. «И губернатор будет сопровождать». – «Чудесно!» – говорю. И вот начали с Марьей Гавриловной работать – превращать зал в выставку картин… Так кое-что собрали, этюды старые, то-се… Даже Марью Гавриловну, вечером за швейной машинкой, при лампе с зеленым колпаком. Очень она того портрета своего боится. «Утопшая!» – говорит… Шевелюру свою обкарнал, как видишь, – жду… И вот ровно в одиннадцать приезжают действительно великие от рождения своего – он, она и две девочки (тоже великие)… Встречаю их в своей зале… Губернатор наш новый, генерал, оказался с ними и этот вчерашний… я-то думал он пристав, – полицмейстер целый!.. Выше это или ниже губернатора, – в это я не вникал, но… ты меня знаешь. Можешь представить, как я зубами скрипел!.. Вытерпел все-таки минут двадцать… Подробности пытки опущу… Заметили, что я не так уж радушен, или, может быть, спешили на поезд, – от меня поехали прямо на вокзал, – только не задержали долго, и вот, видишь – час теперь, а я уж у тебя давно… Откуда хлыст этот, тонкий и длинный, великий этот с лошадиными зубами, о моей картине узнал? Не знаю… Но спрашивал: «Говорят, есть у вас?..» – «Нет, – говорю, – ваше высочество, даже и отдаленного нет… стар стал… Через двое очков смотрю, когда работаю…» Даже по этому случаю комплимент от ее высочества удостоился получить: «Помилюте, ста-ар!.. Ви есть такой бохатир!» Простились дружелюбно… Два этюда изволили приобресть… Уехали… А я постоял-постоял, посмотрел им вслед… «Эх, – думаю, – устрою-ка себе праздник!.. Пятьдесят восемь лет протрубил, – „бохатир“ остался, картину кончил… Великих проводил… Дай пройдусь, посмотрю на сына… Кстати, он у меня тоже „бохатир“…» И хоть крючков у него много в потолке, но… вешаться пока не думает, немку свою пересидел, пишет, и прилично пишет, каналья!.. Не очень тебе помешал мимикой?.. Я ведь только губами шевелил… Теперь молчу.
– Помолчи минутку, – я сейчас кончу… Так вот почему парад такой!.. Все-таки великому ты показал свою мастерскую, а?..
– Картину?.. Нет, не показывал… Тебе покажу, если хочешь.
– Покажи… Спасибо… Когда?
– А вот, сегодня же, сейчас, когда кончишь, пойдем вместе.
– Я кончаю.
Два раза ломался уголь в нетерпеливых пальцах Вани, пока дошел он до плеч; еще три-четыре густых штриха, так что окончательно в труху рассыпался уголь, и он сказал облегченно:
– Ну вот… Готово.
Встал старик, потянулся слегка, подошел к подрамнику…
– Есть рисунок, есть… И быстро… И похож, кажется.
– Еще бы не был похож с натуры!.. Сто раз тебя на память делал!
– Гм… Вот как?.. – Отец взял сына за руку. – Ты на меня не серчаешь?
– Нет, – улыбался Ваня.
– Где-нибудь там, в глубине, как говорится, души (отец показал пальцем под ложечку) не серчаешь?
– И в глубине не серчаю, – еще шире улыбнулся Ваня.
– Ну, хорошо… И не серчай… довольно. Дай поцелую!
И крест-накрест крепко поцеловал Ваню и отвернулся к окну. Побарабанил несколько по подоконнику и сказал, обернувшись, точно внезапно вспомнил:
– Что я посылал тебе в Академию, этого мало, конечно, было, мизерабельно, – и я знал это… Но, видишь ли… Это я делал потому, что любил тебя… Да! Если бы не любил, посылал бы гораздо больше… И тогда, – кто знает, – может быть, ты и пропал бы. Сотни мог бы посылать, и поверь, не было бы такого молодца, какой теперь вышел!.. Художнику в молодости нужна бедность, – это знай!.. Да, бедность… Всякому художнику вообще… Так я на это смотрел (я ведь сам от отца получал по девятнадцать с полтиной) и теперь смотрю… Ты думаешь, за мной девицы не увивались, хотя бы из своих, академических?.. У-ви-ва-лись!.. Но я себе воли не давал… Но я себе говорил: «А-ле-шка!.. Смотри! Пока ты еще нуль – рано!.. Расточишь – не соберешь!..» Этот ситцевый народ, – он хоть кого утопит!.. Хорошо, что твоя немочка убралась! Пусть теперь тебя ждет «на Орел»!
– Откуда ты это знаешь? – удивился Ваня.
– Так вот, пусть тебя ждет «на Орел», а ты… пока не тони, – успеешь!.. И не вешайся и не тони… И крючья эти выверни… У тебя достаточно крючков и здесь (он мотнул головой на «Фазанник» и «Мессину»). Жизнь велика, – авось, и эти вынешь… Мне этого в свое время некому было сказать, а я тебе говорю: входишь в жизнь, плюй на нее как хочешь, – бичуй, ругай, издевайся… Мерзи ее насколько силы хватит, – она простит… Успеешь еще с ней и помириться… Когда уходить из нее придется, помиришься и… благословишь, пожалуй!.. Ну-с, так передай своей камер-фрау, что обедать ты у меня будешь, – и одевайся, пойдем…
Вызванной Настасье сказал Ваня, что уходит и обедать не будет, и та не очень удивилась: можно было пожертвовать и обедом ради такого гостя, но когда уже одевались в передней, поднялся снизу и постучал и вошел доктор Худолей, заставивший Сыромолотова-отца сделать очень скорбную мину.
Однако в разговоре с ним старый художник ни одним словом не выдал своего неудовольствия: он знал от Марьи Гавриловны, что какое-то подобие лечебницы учредилось в нижнем этаже Ванина дома, и, конечно, мог зайти к хозяину, Ване, его квартирант.
Но, зайдя как будто по делу и даже уединившись для этого с Ваней минуты на две, пока Настасья помогала одеваться старику, Худолей с двух слов узнал от него, куда он идет с отцом, а о посещении мастерской его отца великим князем, едучи сюда, узнал случайно от того самого чиновника особых поручений, который был у Сыромолотова накануне, и вот у него составился мгновенный план доставить развлечение своим больным.
– Алексей Фомич! – он наклонился почтительно. – У меня к вам огромная просьба, и я надеюсь, вы не откажете!.. Надеюсь!..
– Что такое? Просьба? – удивился Сыромолотов.
– Здесь под нами больные… шесть человек… Культурный народ!.. С большим все кругозором!.. Очень любят искусства! Вы хотите показать Ивану Алексеичу свои картины… Что если бы… если бы вы взяли и мой маленький… – «Пансион» он хотел сказать, но сказал: – Мою маленькую лечебницу?
– Кунсткамеру вашу? – неожиданно и сердито поправил Сыромолотов.
– Почти… Это было бы такое доброе дело!.. Мы были бы так все благодарны вам, Алексей Фомич!
Он наклонился в сторону Сыромолотова всей гибкой верхней частью тонкого тела, и глаза его привычно источили свою побеждающую жалость.
– Что ж… Если они не кусаются… Ты как думаешь? – спросил Ваню отец.
– Они… конечно, не кусаются, – уклончиво ответил Ваня, а Худолей снова расхвалил свою кунсткамеру:
– Куль-тур-нейший народ!.. Один – поэт даже!.. Очень чуткие люди!..
И тут же приложил руку к сердцу:
– Ах, как жалею я, что сам не могу с вами!.. Мне еще в двадцать мест, в двадцать мест!.. Есть двое очень трудных больных, и я должен спешить… Так разрешите, Алексей Фомич? – Ах, как я вам благодарен!.. И как они будут рады!.. Для них это праздник, – праздник!..
– Ну что же, а? – обратился Сыромолотов к сыну. – Пусть и «Фазанник» этот… все равно… Их сколько? Шесть? Но за гостей своих их считать не буду и обедать не позову!.. И не пойду с ними вместе по улице, конечно, куда с такой оравой!.. Они могут сейчас же за нами. Тут недалеко, и всякий указать может… А я пойду вот с сыном.
– Ну, зачем же вам с ними!.. Это совершенно лишнее!.. Они прекрасно найдут и сами… Ах, как я вам благодарен!.. И как жалею, что не могу!
Иван Васильич спускался по лестнице вместе с ними, и глаза его излучали самое неподдельное счастье.
В первый раз за последние годы – ровно почти за шесть последних лет – по улице города, днем солнечным, во всеувиденье шли двое Сыромолотовых – отец и сын, и каждый из них, широкий и прочный, чувствовал себя вдвое шире и вдвое прочнее.
Отец был положительно весел. Он шутил, он был тороплив в словах и движениях, – Ваня почти не помнил его таким: он был явно трепетно возбужден тем, что вот сейчас другой кто-то, кроме него самого, увидит его работу, и этот первый – другой – его сын. А Ваня, отнюдь не потерявший старого детского преклонения перед отцом как художником, однако боялся за него вместе с тем, боялся того, что ему, может быть, придется солгать и сказать отцу не то, что он почувствует, и было в нем явное нетерпение увидеть то, что так долго скрывалось, и была тайная неловкость.
Ему хотелось значительно опередить «кунсткамеру», и потому шли они быстро, но и нижний этаж, бывший весь в сборе, не откладывал и не рассуждал, стоит ли идти смотреть картины художника, уже отпетого. Как только Худолей, довольный своей удачей у Сыромолотова и действительно спешивший, уехал, высыпали на улицу и шестеро его больных, и не успел Ваня наедине с отцом осмотреть и половины его этюдов, выставленных в зале для великого князя, как послышались голоса с надворья, заставившие поморщиться и его, а отец горестно протянул: «Э-эх!.. На какой они черт!..» – и сжал кулаки…
– Он… очень странный какой-то, этот доктор, – бормотал Ваня смущенно.
– Да!.. Да!.. Походка воробьиная, и кланяется, как китайский болванчик!.. И зачем тебе было говорить с ним об этом?
– Я думал, ты им откажешь!
– Ага!.. Хорошо!.. Я им сейчас откажу!
И отец двинулся уже к двери.
– Сейчас неудобно… Как же можно сейчас? – остановил его сын.
Марья Гавриловна появилась в зале с совершенно растерянным бледным лицом.
– Там какие-то десять человек! – доложила она испуганно.
– Шесть, – поправил ее Ваня.
– Что вы, Иван Алексеич!.. Масса!.. Прямо целая масса!.. Орава!..
Это шепотом, точно явились грабители.
Ваня быстро вышел в переднюю, где толпились знакомые ему шестеро, и, обращаясь ко всем, но глядя попеременно то на Иртышова, то на Дейнеку, пророкотал:
– Господа!.. Я знаю, вы – люди… самостоятельных суждений… но, знаете, – неудобно будет, если вы вслух… при моем отце…
– Что мы, дикари, что ли? – за всех развел руками, очень удивленно, Синеоков.
– Мы?.. Мы? – за всех сложил перед собою руки, худые и тонкие, о. Леонид.
И Ваня наклонил голову, извиняясь, и широко распахнул перед ними двери.
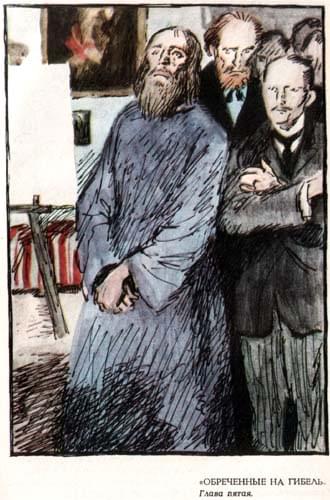
И зал отъединившегося дома во второй раз в этот день наполнился посторонними, чужими людьми, и старый художник, сбычив голову от нескрываемого неудовольствия, нарочно до боли крепко жал руки и Дейнеке, и Иртышову, и Синеокову.
Но о. Леонид нашел примиряющее слово. Он еще не разжал слипшиеся от пожатия Сыромолотова бледные пальцы, но уже за всех шестерых просил прощения:
– Простите великодушно, ради Христа, что мы вас тревожим!.. Жаждали провести с вашим творчеством несколько хотя бы минут. Но, если не разрешите, мы уйдем.
Подвижнически-сквозное лицо и просящая улыбка на нем, голос грудной, неразлучный с такими лицами, негромкий, – это любят иные художники, и вот, так же, как только что Ваня в передней, старый Сыромолотов сделал широкий приглашающий жест, сказавши при этом, однако:
– Объяснять я вам ничего не берусь, господа!.. Если что вам не будет говорить, – значит, оно и не говорит… А словами не домажешь, нет!.. И развешано все гадко, наспех… И свет не хорош!
И тут же взял под руку сына и отошел с ним туда, где они остановились перед приходом «кунсткамеры».
И по этим этюдам и наброскам картин Ваня видел в отце то же, чем был он известен и раньше: холсты были так же смело пестры от резких солнечных пятен, была та же преднамеренная грубость рваного мазка и плотность красок, была та же сыромолотовская сила и энергия в задранных косматых диких лошадиных мордах, в своре борзых, обскакивающих лобатого волка, в упругих деревьях под натиском бури… Даже Христос на небольшом, в аршин, наброске был гневный Христос с нахмуренными бровями, – единственный во всем Евангелии, когда бичом гнал он из храма торгующих.
Хорошо памятные Ване абрикосы были тоже здесь, и когда придвинулся к ним Ваня, то сказал:
– До-сад-но!.. Пожухло кое-где сильно!
– Да-а… Конечно, – присмотрелся отец. – Это сколь – Асфальт?
– Кобальт с терра ди сиенной… Спешил тогда – и вот… не подошло…
И покосился недовольно через плечо назад, где в это время ахнул изумленно о. Леонид перед радугой, в которую попали чабан с отарой овец и с карнаухой пегой собакой спереди.
– Ах, дивно!
Ахнул громко и тут же стесняющимся шепотом вислоухому Дейнеке, потянув его, как мальчика, за рукав пиджака:
– Вы посмотрите-ка, Андрей Сергеич!
Радугу передать пытался Сыромолотов и еще на двух этюдах, и об одном из них, на котором, видимо, из окна, торопился захватить он ее, и в оранжевый яркий луч попал край перистолистого японского клена, а в красный – резьба ворот, Ваня сказал порывисто, так же, как тогда на крыше:
– Здорово хвачено!
– Где уж там здорово! – отозвался отец. – Даже губер-на-тор вздумал похвалить… и великая… Явно, что никуда не годится!
Взволнованный о. Леонид смотрел, старательно зажмуривши левый глаз, через кулак правой руки и шептал Дейнеке:
– Отделяется, – совсем отделяется от стены!.. Сделайте так вот!.. Отделяется! Я вас уверяю!
Дейнека пытался смотреть на него снисходительно, но, отвернувшись, все-таки попробовал поднести кулак к правому глазу.
Студент Хаджи, тщательно избегая Дейнеку, держался около Синеокова и говорил вполголоса, сильно растягивая слова:
– Конечно, – конечно, с известной точки, – да… Мы с вами так не сделаем… Но ведь это же пе-ред-вижник!.. Это все до не-воз-мож-ности скучно!.. Вы не видели Матиса?.. В Москве, у Щукина…
– Вот поди же, – вам скучно, а мне эти собачонки, например, очень нравятся, право! – подзуживал его Синеоков. – Вы замечаете, что во рту у них сухо? И даже слышно, как стонут!
– Почему же «стонут»?
– Потому что гончие, когда догоняют, стонут, батенька мой, – стонут, а не лают!
– Вы можете слышать, что вам угодно, но художник в этом не виноват!
И, говоря это, сильно морщился и пожимал плечами Хаджи.
А в другом конце зала рыжий Иртышов, захватив локоть Карасека, внушал ему намекающе:
– За Брест – крест, за Прагу – шпагу… За Прагу – шпагу – это Суворову, а старику этому – за то – часы с высоты трона, за се – булавка с бриллиантами… Небось, великие князья знают, куда им ездить!.. К нам с вами не поедут!..
– Мы с вами не есть художники… А за что могла быть булавка? – полюбопытствовал Карасек.
– «За „Спуск Паллады“ или какой-то „Авроры“ в присутствии их величеств»… «В присутствии их величеств» – это самое важное!.. На «Палладе»-то на этой броня из какой-нибудь пробки, но «в присутствии» – вот что важно! За этот гражданский подвиг, кроме суммы приличной, – бу-ла-воч-ку в галстук!
– Но откуда же вы-то осведомлёны?
– Мы!.. Нам известно, – не беспокойтесь!.. От нас не скроются! – И Иртышов сложился перед Карасеком и вновь разогнулся, даже как будто щелкнул при этом в позвоночнике, как новый перочинный ножик.
Наблюдавший тем временем его искоса Сыромолотов говорил о нем Ване:
– Рыж!.. Очень огненный!.. Борода – как сера, сера с фосфором… В пожарном отношении опасен!.. Очень опасен!
Но тут же отвлекался в сторону своих этюдов:
– Этто… это я, кажется, пересушил немного… Да-а… Конечно, надо бы взять гораз-до сырее!.. гораздо сырее!
– Зачем же сырее? – рокотал Ваня. – Прекрасно чувствуется, что надо… Взять сырее – будет другой мотив.
О. Леонид полушептал Дейнеке:
– Знаете, Андрей Сергеич, – на мне сейчас старые ботинки, и мне теперь очень стыдно, что я не надел новых… Ведь есть же, есть!.. Если бы не было!.. Шел сюда – и забыл надеть!.. Постыдно не догадался!..
А Дейнека отзывался глухо вполголоса, чуть кивая на Сыромолотова:
– Он не знает, конечно, что я когда-то в гимназии копировал его картины с гравюр…
– Вы ему скажите об этом, – непременно скажите, Андрей Сергеич!.. Ему будет приятно!
– Ну что вы!.. Разве о таких вещах говорят?.. И зачем? – отворачивался Дейнека. – Глупости какие!
– Художник должен давать свое представление о предмете, а не самый предмет, – поняли? – пытался в то же время объяснить Хаджи Синеокову. – Допустим, вот – радуга… Это – сюжет для художника?.. Всякий видел радугу и знает радугу…
– Так что вместо радуги сделать яичницу, это и будет настоящая живопись? – упорно не хотел понять его Синеоков.
– И чем это свое представление оригинальнее – поняли? – тем выше художник, – договаривал Хаджи. – А это просто пошлость…
Последнее слово расслышал стоявший близко Иртышов и торжествующе упрекнул Карасека:
– Ну вот, – слышите, что говорят люди! – Пошлость!.. И я вам то же самое говорю!.. На кого это все готовилось? – На заказчика!.. Кому нужны все эти лошадки, собачки, апельсинные сады? – (Тут он кивнул на абрикосы.)… Рабочим?.. Не про них писано!..
И не успел Карасек, взявши было его за пуговицу и оглянувшись на художников, ему ответить, как он уже ринулся к Сыромолотову и спросил его, очень учтиво изогнув спину:
– У вас была знаменитая картина: «Заседание Святейшего синода»… произвела большое впечатление… А вот здесь у вас я не замечаю ни одного к ней этюда!..
– Здесь?.. Да, здесь нет… и быть не могло, – ответил Сыромолотов, остро вглядываясь в его лицо.
Обеспокоенный было Ваня рокотнул:
– Ведь это же были портреты!.. Конечно, они куплены были теми, с кого писались.
– Оч-чень жаль! – поклонился Иртышов вежливо.
– Нет, я не жалею, что куплены, – пошутил Сыромолотов, отходя и отводя сына, и даже улыбнулся длинно, а Ваня, заметив в это время две темперы, висящие рядом, сказал удивленно:
– Темпера!.. Вот как!.. Ты прежде не писал темперой!
– И больше не буду писать… А вот утопшая…
Марья Гавриловна при лампе с зеленым абажуром была написана очень тонко, но Ваню удивило не это. Он знал, что отец работал красками только днем, – правда, с утра до вечера, – и Марью Гавриловну мог бы когда угодно написать днем; но когда он спросил об этом, отец ответил почему-то не на вопрос:
– При таком освещении все лица очень кажутся страшны…
И ничего к этому не добавил, но, дотянувшись до холста с «утопшей», снял его со стены, и под ним оказалась очень знакомая Ване надпись на картоне готическим шрифтом:
«Хороший гость необходим хозяину, как воздух для дыхания; но если воздух, войдя, не выходит, то это значит, что человек уже мертв».
Конечно, все шестеро, бывшие в зале, заметили и все прочитали это арабское изречение, и все его поняли как надо, тем более что Сыромолотов повернулся ко всем лицом, готовый проститься.
И уже подошел первым Синеоков, и уже щелкнул каблуками, говоря при этом, что все они несказанно рады и благодарны, и подвинувшийся на помощь ему о. Леонид, сложивши перед собою руки, умиленно поддерживал:
– От души!.. От души благодарим вас! Мы взволнованы!.. Просветлены!..
– Это есть правильно!.. Просветлены! – поддержал Карасек.
Дейнека, проводя рукой по висячим усам, слегка кашлял и сочувственно кивал головою; студент Хаджи глядел матово, Иртышов наблюдающе, но уже подавшись корпусом вперед для прощального поклона, когда странная мысль появилась в крутолобой большой голове Сыромолотова, и он заговорил вдруг громко и с некоторым задором:
– Вы видели сейчас, господа, то, что часа этак за два до вас один из великих князей видел… осматривал… да!.. Довольно недоделанные все вещи… этюды… Но великий князь хотел осмотреть мою мастерскую, – это уж я отклонил… Лестно, не правда ли? Но там у меня – картина, которую… которая не могла быть показана… по тем или иным причинам не могла быть показана никому два часа назад… А теперь я думаю показать ее своему сыну…
– А нам? – тихо, просительно, совсем по-детски сказал о. Леонид, так тихо и просительно, что даже суровый старик улыбнулся.
– Ваня!.. Ты как думаешь?.. Не устроить ли вернисаж в самом деле?
– Мы только взглянем! – поддержал о. Леонида Синеоков.
И, не дождавшись, что скажет Ваня, Сыромолотов подбросил голову, блеснув бриллиантом булавки, и решил, точно принял вызов:
– Хорошо… Вернисаж!.. Раз так уже вышло, то-о… Но, господа, предупреждаю: картина моя имеет содержание!.. Это не модно, я знаю, но я ведь старый передвижник, господа! (Бывший, – должен оговориться, – бывший!..) Этто… я вам покажу картину, но ни-ка-ких замечаний прошу мне не делать, – да!.. И ни-ка-ких вопросов не задавать!
– Помилуйте!.. – начал было за всех Синеоков, но старик отвернулся, загремел в дверном замке ключом, вынутым из кармана, отворил дверь срыву, вошел туда, оглядел все бегло, взял с порога за руку Ваню и коротко бросил остальным:
– Прошу!
Бывают такие моменты в любой жизни: озарение, смелый подъем и срыв. Они даже у козявок бывают.
Лезет оса-наездник по гладкой стене дома и тащит парализованного ею паука к себе в гнездо, чтобы положить в него свои яички… Она трудолюбива, эта черненькая, тоненькая оса, она упорна, она знает, что она делает, как делает, зачем делает… И вот она подымается по гладкой стене, все время нервно танцуя и потирая крылышками ножки или ножками крылышки… Паук – жирный, круглый, вполне способный прокормить собою ее потомство. Весом он куда больше самой осы. Откуда у нее силы, чтобы его тащить? Но она тащит. Следите за ней, если есть у вас время… Леток ее там, в полке крыши, в маленькой щели… Раз двадцать она оборвется со своей ношей – стена гладкая – и раз десять подлетит к своей щели, – должно быть, проверяет себя: так ли она делает?.. Так, – иначе нельзя. Путь правильный, не по отвесу, а наискось… И все неровности, за которые можно ухватиться по пути, чтобы отдохнуть, осмотрены ею, – и она снова находит свою драгоценность, свое будущее – паука, который неподвижен, но жив (и будет жив все время, пока будут питаться им личинки будущих ос), и черненькая, тоненькая оса-наездник, все время танцуя и обираясь, вновь хватает его с земли и тащит… в двадцатый раз!.. Глядите: она почти у цели! Еще одно усилие, – и паук в гнезде… Но ошибка в движении одной только ножки, – одной из шести, – и глыба паука летит снова вниз… Срыв!..
Много упорства дано осе: чуть отдохнув, она примется снова за то же…
Но далеко не так упорен и неутомим человек, и срывы его бывают иногда страшны.
Огромная, во всю стену большой мастерской картина-триптих освещена была верхним светом. В сильных серых старо-сыромолотовских тонах написаны были две первые части триптиха, на третьей, самой большой, почти в половину всей картины, бросалась в глаза радуга, сделанная очень искусно. Даже сияла она переливисто под верхним светом, точно битого стекла подмешал художник к краскам, и даже этим розово-золотистым сиянием радуги затоплена была вся третья часть картины, а отдельные пряди розово-лилово-золотые пробивались вверху из третьей части во вторую, как отблеск далеких зарниц.
При одном беглом огляде картины, по одной только чуть воспринятой музыке тонов все семеро (и Ваня и Иртышов) почувствовали, что это – значительно.
Это бывает и не с картинами. Открывается что-то вдруг, – еще и не знаешь, что именно, но уже поражен, уже прикован, застыл на месте… и только потом, спустя несколько длинных мгновений, начинаешь всматриваться в то, что поразило и приковало, – различать отдельные пятна и линии, припоминать и сравнивать, находить новому место в себе.
И первые несколько минут в обширной мастерской было совершенно тихо: все глядели, размещаясь вдоль противоположной картине стены, и все видели, что мастерская, хоть и обширная, была все-таки мала, чтобы можно было вобрать всю огромную картину целиком, и Ваня удивлялся, как мог, хотя бы и в виде триптиха, написать ее здесь отец.
И еще одно почти непостижимым показалось Ване: как мог человек, хотя и очень крепкий еще, но уже почти шести десятков лет, при ослабевшем, конечно, зрении, справиться так, как он справился, с колоритной задачей трудности величайшей… Однако он справился с нею, отнюдь не прибегая к тем сомнительным приемам, которыми художники, явно слабые, прикрывают именно эту слабость, выдавая их за новое слово в искусстве. Он был прежний по приемам своего письма: сразу чувствовалось, что все, данное на картине, происходит, – именно происходит, – на прежней, прочной, истинно сыромолотовской, дышащей, осязаемой земле.
Вот что происходило на ней:
На переднем плане первой части триптиха, в естественную величину, новенький, блестящий, окрашенный в серое, прямо на зрителя мчался торпедо небольшой, на четыре места, с бритым шофером в консервах спереди. Две женщины и двое мужчин в торпедо – одеты по-летнему, и сзади за ними летний русский вид… Горизонт высокий. На самом горизонте в белесоватой полосе деревенская церковка, но очень зловещий вид у этой белесоватой полоски над горизонтом, над которой взмахивает проливным дождем насыщенная туча. И женщины и мужчины в торпедо красивы, – очень красивы, особенно женщины, – но показана была какая-то напряженность во всех этих четырех лицах. Дана она была как-то неуловимо: слишком ли широки были глаза, слишком ли подняты головы и брови, слишком ли прикованы были эти лица с полуоткрытыми ртами к тому, что делалось впереди их, – но явная была тревога, и даже шофер сидел пригнувшись, весь сливаясь с бегом своей новенькой машины, как жокей на скачках с бегом лошади.
Очень беспокойный, последний перед грозою, разлит был в этой части триптиха свет, и если впечатлительный о. Леонид говорил впоследствии, что «автомобиль был совсем, как живой: даже посторониться хотелось – до того живой!» – то Ваня теперь смотрел на этот именно беспокойный трепетный свет, стараясь понять, как это сделал его отец. На панамах мужчин, на белых страусовых перьях шляпок дам, на серой кепке шофера – всюду чувствовался этот неверный беспокойный свет; даже сзади, где стлался широкий русский полевой вид, знакомый всякому: село вдали серело, белела ближе усадьба, полускрытая садом; в стороне краснели крыши какого-то завода с высокою трубою; паслось на выгоне стадо; ветлы тянулись вдоль большака… Обоз мужицких телег вез что-то с завода, и его обогнала и обдала пылью машина, и очень недобрые, очень насмешливые лица были у трех первых – бородатого, безбородого и с солдатскими усами: может быть, кричали они ругательства вслед машине, обдавшей их пылью. Даже у первой в обозе лошади, может быть только что чихнувшей от пыли, был очень враждебный вид.
И надо всем этим туча, сырая, насыщенная влагой, – туча, про которую говорят: давит, – так она была тяжка и низка. Туча эта сделана была с большой правдой; она одна могла бы быть картиной. Она почти шевелилась, иссиза-темная, набухая, набрякая, зрея. Должно быть, гремел даже гром, потому что четвертый мужик, снявши шапку, задрал голову и крестился.
Набрякает, бухает, зреет, давит, – вот-вот задавит – одинаково почувствовали именно это все семеро. Топтались, передвигались около стены… О. Леонид не пытался даже глядеть прищурясь в узенькую щелку своего бессильного кулачка: картина и так «отделялась»…
Она угрожала, – и во второй части триптиха во всей силе гремела гроза. Зигзаг молнии очень был резок, почти ослеплял… Ваня долго глядел на эту молнию, потом на отца и удивленно повел головой на мощной шее…
Пейзаж был прежний в своих основных не случайных деталях, и обоз был на той же дороге, только уж не двигался, – стоял, – и именно на нем дана была особенно заметно игра двойного света: света дня и блеска молнии; обоз стоял, но возчиков уже не было около обоза: они были все на переднем плане около остановленного торпедо, к которому прижался клетчатый шофер с ужасом на бритом лице. К левому углу откатилась панама, прижатая пыльным сапогом, а в середине лежали убитые.
Завод горел в одной стороне картины, – слева, – барская усадьба в другой, – справа; в испуге бешено бежало куда-то стадо, задрав хвосты… Блеском молнии, таким мгновенным и жутким среди дня, когда тускнеет другой, постоянный свет, была освещена вся даль этой части триптиха, от чего получилась пугающая трепетность, так что не терялись ни второй, ни даже третий план картины…
Очень резок был отразивший молнию серый блестящий кузов торпедо, вошедший в эту часть картины только задней своей стороной… И из-за толстого колеса машины чуть показана была свернутая набок голова с перекошенным ртом.
Третья часть картины вмещала многое, да и по площади своей она была почти вдвое больше каждой из двух первых частей триптиха.
Как бы с двадцатого этажа вниз заставлял зрителя глядеть художник.
На переднем плане ярко написана была стена небоскреба, выходящая на улицу. Окна и балконы в восемь только рядов, но чувствовалось, что над этими восемью этажами высятся еще не меньше восьми, так как следующий дом был доведен до двенадцати рядов окон, но тоже не поместился на полотне; и только третий дом, пятнадцатиэтажный, показал свою крышу.
А за этими, уходя далеко в глубь картины, стояли такие же гиганты, и так как горизонт был высок, и картина широка, то до самого горизонта, как бы не имея конца, разлегся огромный город, – сказка из камня и железа.
По улице сплошными потоками шли автомобили, причем в самой близкой к зрителю машине нельзя было не узнать той самой, которая была дана в первых двух частях триптиха. Другой поток, людской, двигался по тротуарам.
Что было лето, всякий мог заметить по пятнам светлых легких костюмов в толпе, а что перед этим только что пролился дождь, видно было и по остаткам тучи в небе и по радуге, щедро озарившей своим семицветьем даль.
В дали же этой подымались здесь и там высокие и тонкие сравнительно с мощными зданиями переднего плана трубы заводов.
Эти трубы по-рабочему дымили там, вдали, но вот что отмечал глаз зрителя при внимательном, а не беглом взгляде: очертания и окраску того завода, из которого выехала машина с двумя мужчинами и двумя красивыми, нарядными женщинами, – того завода, который был показан в первых частях триптиха.
Огромный город, воздвигнутый на пустыре, как бы сохранил, сберег, точно музейные редкости, и завод, некогда здесь стоявший, и даже машину, когда-то принадлежавшую владельцам этого завода.
И тот и другая не были покрыты футляром, – они работали в ряду других, гораздо более, конечно, соответствующих своему времени заводов и машин, но ими пользовались уже другие люди, вот эти миллионы, которые двигались и по тротуарам и на колесах сплошными потоками.
Триптих был задумал так широко, техника художника была настолько смела и уверенна, детали так жизненны и ярки, что, конечно, нельзя было бы передать и в малой части всего богатства картины словами, как невозможно выразить в словах сонату большого композитора: можно было только каждому из зрителей воспринять это полотно в меру своей личной способности понимать живопись и заражаться ею.
Глухо кашлянув, чтобы вольнее было голосу, Ваня наклонился к отцу и спросил:
– Как же ты назвал картину, папа?
– Картину?.. Да… Назвал, этто…
Сыромолотов оглядел всех остальных шестерых очень почему-то строго, исподлобья и докончил, откачнув голову:
– Назвал – «Золотой век».
Глава шестая
Иртышов
Казалось бы, что вошедшие в мастерскую совершенно случайные, во всяком случае незваные, напросившиеся только взглянуть на картину, гости должны были откланяться, поблагодаривши хозяина за любезность, и уйти, – но никто не двигался с места.
В нижнем этаже дома Вани обедали рано, – в час дня; теперь было уже половина второго, но об обеде забыли.
Даже Ваня шел в мастерскую отца с тревожным и неприятным чувством. Картина – это ответственно, и он боялся увидеть что-нибудь стариковски-вялое, слабое по тонам, боялся, что придется ему лгать, хвалить, чтобы не обидеть отца, а хвалить будет трудно: как подобрать нужные слова?
Но, судя отца только как художник художника, он увидел вещь, может быть, самую значительную из всех, написанных отцом, во всяком случае самую смелую по чисто живописным задачам… И, сам не зная, как это у него вышло, как старшему товарищу в искусстве, а не как строгому отцу, с которым и говорить-то он начал просто, по-человечески только сегодня, он положил руку ему на плечо и сказал трубным своим голосом:
– Молодчина!
Старик взглянул быстро ему в глаза снизу вверх, подняв для этого не голову, а только густые брови, увидел, что сказано было именно то, что думалось, и что суд художника над художником, нелицеприятный и строгий суд совершился, нашел его руку на своем плече левой рукою, пожал ее тихо и снял.
И, заметивши по глазам сына, что картина многое говорит, надолго и прочно залегает в память, старый художник молодо оглянулся на остальных шестерых.
Он увидел, что изможденный, бледный, в поношенной рясе священник был еще бледнее теперь, чем когда вошел к нему в мастерскую, и как будто испарина показалась у него на впалых висках, и глаза стали белее и больше; что студент, снисходительное лицо которого он приметил в зале, теперь имел несколько растерянный вид (он решал в это время про себя и не мог решить, насколько именно эта картина была хуже Матиса и в чем именно этот захолустный художник подражал любимцу Щукина, развешанному в его кабинете); он увидел, что сутулый инженер забывчиво и однообразно, часто и нервно двумя пальцами правой руки – большим и указательным – гладит свой выступающий бритый подбородок и то полуоткрывает, то стискивает зубы, точно готовится сказать речь или разболелся у него язык; что длинноволосый молодой чех только что, видимо, прошептал что-то на ухо щеголевато одетому высокому с неподвижным крупным носом, и тот махал в его сторону отрицательно перед своим полосатым галстуком одною только кистью руки, очень длинной и по-женски узкой, говоря при этом басом, но нерешительно: «Ну что это вы, синьор!..» и, наконец, увидел того, которого недавно, в зале нашел «в пожарном отношении очень опасным».
Иртышов глядел не на картину, а на него самого, и, встретившись с ним глазами, Сыромолотов почувствовал, что и взгляд его тоже горяч, не только упругая огненная бородка, и что взгляд этот явно враждебен.
Поэтому он вынул часы, – золотые, крупные, гладкие, – и сказал, обращаясь именно к нему, с враждебными глазами:
– Мой брегет показывает два без четверти… и больше мне нечего вам показывать, господа!
Однако даже и после этих слов никто почему-то не двинулся к двери, а Иртышов, согнувшись и разогнувшись быстро, отозвался совсем не на то, что сказал Сыромолотов:
– Ваша картина эта, знаете ли, почти так же хороша, как «Святейший синод» знаменитый!
– Почти?.. А я думаю, что она го-раз-до лучше! – сбычил на него голову, но чуть улыбаясь, старик.
– Одного сорта, я хотел сказать, – одного сорта!
– Ошибаетесь: другого сорта… Там совсем другая гамма тонов, – спокойно отбросил Сыромолотов.
Ваня кашлянул глухо и посмотрел на Иртышова внушительно, но в это время Дейнека, искоса глядя на широкого старика, заговорил вдруг с большой неловкостью и сипотой в голосе:
– Когда я… когда еще гимназистом был… я копировал вас… то есть картины ваши… тушью…
– А-а! – неопределенно перебил Сыромолотов.
– Но этой… этой я не хотел бы копировать, – продолжал Дейнека, не переставая гладить свой подбородок двумя пальцами нервно и часто.
– Тушью?.. Да-а… Тушью трудно… – вглядывался в его подбородок и пальцы Сыромолотов.
– Потому что очень она странная – вот почему! – вдруг залпом закончил Дейнека и отвернулся.
– Потому что это – пошлость! Вот почему! – выкрикнул Иртышов.
– Нн-о-о, вы там! – пробасил на него Ваня, развернув, как на параде в цирке, грудь.
Но странно, – совсем не обиделся отец. Он обернулся к сыну даже как-то весело, почти торжествующе:
– А что? Я ведь тебе говорил о нем!.. Не-ет, это становится интересным!.. Ведь это же вернисаж, Ваня, а публика вернисажа самая любопытная публика… Вам, например, батюшка, как показалось?
Так задушевно и просто обратился к легкому, тщедушному о. Леониду могучий старик, что тот растерялся и вдруг не виски только, а все лицо его покрылось мелкой испариной.
– Поражаюсь!.. Поражаюсь! – забормотал он. – Я поражаюсь! (И сложил перед собой руки.) Но вот… «Золотой век»… Вы так сказали, я слышал… вот Ивану Алексеичу… что картину можно назвать «Золотой век»… Почему же?.. В чем именно?
– Видишь, Ваня!.. Разве не любопытно?.. Батюшка вот не понял, почему можно назвать «Золотой век»!
– Я тоже не так вполне ясно понял, – счел нужным заявить Карасек.
– Ага! Еще один не понял!.. – довольно улыбался старик.
– Но ведь картина же разрешается в оранжевых тонах, – что же тут не понять? – протянул студент, глядя на Карасека.
А Сыромолотов подмигнул на него Ване:
– Ого!.. В оранжевых!
– Как у Матиса, – не удержался, чтобы не добавить, Хаджи.
– У Ма-ти-са?.. Это… этто… Где же это у Матиса?.. – мгновенно осерчал старик.
– Непременно нужно приплесть сюда Матиса! Непременно! – язвительно упрекнул студента Синеоков и, чтобы загладить неловкость Хаджи, добавил торжественно: – Картина говорит сама за себя, и всякие названия к ней даже, по-моему, излишни!
Как и не ожидал Ваня, отец так же быстро успокоился, как и осерчал. Может быть, примиряюще подействовала на него просто самая внешность Синеокова, или же только щегольской его костюм, или даже рисунок его галстука, но он отозвался живо:
– Говорит?.. Вот!.. Ты слышишь, Ваня?.. Вот что значит быть некогда передвижником! – «Говорит»!
– Но что говорит?.. Что именно говорит? – вот вопрос! – крикнул, совершенно не сдерживаясь, Иртышов.
– То есть: страх перед человеком у вас или жалость? – с видимым усилием разжал зубы Дейнека и уже всей фигурой повернулся к Сыромолотову. – Жалость у вас к человеку или страх?
И даже руку снял, наконец, с подбородка и вытянул вперед к старику шею.
– Вот, Ваня, какой еще может быть вопрос?!. Ну разве же это не любопытно?
И старик действительно пригляделся к Дейнеке с большим любопытством и добавил:
– И зачем ему это нужно знать, хотел бы я знать!.. И зачем художнику страх какой-то… и зачем ему жалость?
– Олимпийцы!.. – закричал Иртышов. – Бесстрашны и бесстрастны!..
– Синь-ор! – крикнул ему Синеоков. – Не увлекайтесь!
– А один даже кожу снял со своего сынка, чтобы мышцы, видите ли, му-ску-латуру зарисовать… в точности!
Ваня вторично развернул грудь и уперся глазами в рыжую бороду, но старик не обиделся почему-то: он глядел весело.
– Этто… этто… каков, а? – подмигнул он сыну на Иртышова. – Этто… У Тэна приводится такой случай… с Лукой Синьорелли… Да… да… Это Лука Синьорелли был так влюблен в мускулы… Осмелился!.. А?.. С умершего сына содрал кожу и… прекраснейший сделал рисунок мышц!.. Пре-краснейший!
– Боже мой! Разве это возможно? – поднял руки перед собой, как для защиты, о. Леонид и отступил в страхе, протиснувшись между Карасеком и студентом.
– Но тот хотя мышцы, – а вы нервы хотите щекотать… и в целях весьма отвратительных! – выкрикнул снова Иртышов.
– Черрт знает что! – зарокотал Ваня. – Замолчите же!
– Лю-бо-пытно!.. Нет, это любопытно, говорю тебе! – с непонятной веселостью остановил его отец. – Ну, пусть же его скажет, – чтобы и я знал!.. Чтобы знать мне, что будут говорить такое, когда я картину выставлю!.. Для кого же я ее и писал, как не для таких горячих?!.
– Вы для меня писали?.. – прижал руку к сердцу Иртышов, точно пораженный.
– Для вас!.. Именно для вас! – сложил руки на груди Сыромолотов. – Для вас… которые… этто… Да!.. (Тут он подбросил голову, и блеснула булавка.) – Я ведь понимаю, с кем имею дело!.. По-ни-маю!
– Не-ет… Нет, вы не понимаете! – отозвался Иртышов и даже покачал головой рыжей, и укоризна даже была в его голосе.
Но тут Карасек очень раздельно и отчетливо спросил старика:
– Господин художник!.. Эти славяне, эти русские крестиане, кого именно они убивают у вас, – хотел я знать?.. Немцев?.. Баронов немецких?..
– Ба-ро-нов?.. – удивленно протянул старик, подняв брови. – Вот видишь, Ваня, какой еще может быть вопрос!.. Ба-ро-нов!.. Гм… А я ведь и не догадался, что баронов!..
– Бывает так, господин художник, что вы даже совсем и не думали, а оно появляется вдруг!.. Как точно есть оно в воздухе самом!.. – отнюдь не смутился Карасек. – Оно и есть в воздухе… э-по-хи!.. Вы им дышите!..
– Ты слышишь, Ваня? – еще выше поднял брови старик. – Ну разве не любопытно?
– Может быть, и любопытно… – забасил было Ваня, но его перебил томным голосом, однако с подъемом студент:
– Гос-спода!.. Эта картина родила во мне ответный узыв!.. И создалась поэма в десять строф!.. Слушайте!
Он уже поднял руку для ритмодвижений, и восточные глаза его загорелись явным вдохновением, но Дейнека крикнул:
– Уберите его от меня!.. Уберите!.. Я не в состоянии!.. Не выдержу!.. Уберите!..
И руки его, сжатые в кулаки, дрожали.
Подняв к самым ушам узкие плечи и покрасневши даже от стыда за Дейнеку, размеренно сказал Синеоков:
– Дадим отдых хозяину и идемте обедать!
Но тут случилось нечто гораздо худшее, чем выходка Дейнеки.
Иртышов, в то время как внимание старика заняли сначала Карасек своими «баронами», потом студент, подобрался вплотную к триптиху, стал как раз против второй его части и перочинный ножик всадил, неуклюже размахнувшись, в волосатую голову того, который убивал мужчину колом.
Он успел и еще в одном месте проткнуть толстый, неподатливый, туго натянутый холст, попавши в икру женщины, обнаженную над спустившимся тонким чулком.
Старик оглянулся быстро на треск холста, – и тут в несколько коротких мгновений все смешалось.
С раскрытым ртом, бешено бросился он на Иртышова, который прыжками отскочил к дальней стене, выпустив из рук ножик, а Ваня кинулся за отцом, боясь, что он изувечит Иртышова, и приемом борца схватил его сзади за запястья рук всего в двух шагах от припавшего к стене рыжего… Но, чувствуя, как клокочет схваченный им отец, – вот-вот сбросит и его наземь, – прокричал, задыхаясь:
– Спасайтесь!.. Бегите!
И первым вылетел из мастерской сам Иртышов, за ним остальные пятеро, опрокидывая стулья, давя друг друга в дверях…
Как раз в это время вошла в зал Марья Гавриловна, чтобы серебряно-певуче, но в то же время с некоторым налетом досады, сказать старику:
– Алексей Фомич, – это уж совсем невозможно так поздно!.. Совсем никуда перестоится обед…
И вот мимо нее из мастерской нелепо, один другого толкая, бежали гости в полнейшем испуге, – так что, отбросившись к развешанным холстам и подняв руки, прошептала она: «Ах, батюшки!..» – и тут же в ее голове, таившей так много загадочных и романтичных историй, зажглась догадка: «Отец убивает там, в мастерской, сына… или сын отца…»
Она помедлила всего с полминуты, ловя звуки из отворенных дверей справа и слева, и все-таки ринулась в мастерскую и сразу увидала: правда, – сын убивал отца!
Правда была только в том, что Ваня изо всех сил сдерживал старика, поймав его на другой уже борцовский прием – передний пояс.
– Пус-сти! – хрипел старик, почти задыхаясь, и Ваня, изогнувшись, так как был выше его ростом, вдавливал в пол шипы каблуков своих заграничных ботинок, чтобы его сдержать.
– Ой, убивает!.. Ой!
Во весь потрясенный голос, какой у нее нашелся, взвизгнула Марья Гавриловна, и этот пронзительный визг, и метнувшееся перед невидящими почти глазами белое вдруг охладили старика. Он обмяк… Он опустил руки… Он присмотрелся к сыну более зрячими глазами, – к сыну и к Марье Гавриловне, стоявшей около на коленях (это она бросилась на колени перед Ваней, чтобы умолить его не убивать отца).
Ваня передвинул свои набрякшие руки с поясницы отца к его плечам и говорил с перерывами:
– Пус-тяки!.. Стоит ли?.. Это зашьем!.. Ничего…
– Где он? – просипел старик.
– Где они?.. Марья… Гавриловна!
Но Марья Гавриловна не могла же сразу поверить в то, что совсем не убивает, а уговаривает отца Ваня, и как же было догадаться ей сразу, что спрашивают ее о гостях?.. А когда догадалась, когда ясно стало ей, что виноваты гости, что это они хотели убить, – она закричала:
– Бе-жали!.. Прямо бежали!.. Они оделись ли?.. Может, так выскочили, без ничего!.. О-ра-ва!
– Воды!.. – шепнул старик Ване.
– Воды!.. Скорее, воды!.. Марья Гавриловна!..
И Ваня подвел отца к плетеному дивану, на который тяжко опустился старик.
Пока бегала за водой Марья Гавриловна, Ваня стоял перед ним, как большой перед ребенком, и утешал:
– Пустяки!.. Зашьем!.. Это ведь только порез… Ну, два пореза… И сколько же в них?.. Двух дюймов нет!.. Пустяки!
Сыромолотов сидел согнувшись, дышал тяжело, с перерывами, и Ваня чувствовал, как часто, беспорядочно толкалось сердце отца…
Ваня расстегнул его сюртук, вынул и бросил в сторону бриллиантовую булавку, развязал галстук: легким нажимом пальцев оборвал пуговицы сорочки… Потом начал стаскивать сюртук, сам поднимая руки отца, и когда прибежала с графином и стаканом Марья Гавриловна, сюртук был уже наполовину стянут.
Воду старик глотал жадно, хотя стакан держала Марья Гавриловна. Выпив стакан, сказал тихо:
– Еще! – и еще выпил.
Вода была холодная, и Ваня, набрав ее в свою широкую горсть, облил отцу шею и грудь: это он вспомнил, что отец говорил у него сегодня: «Умру как-нибудь от удара», – и ему стало страшно.
От холодной воды посвежел старик. Он даже поднялся и медленно подошел к картине, волоча за собою сюртук, не стащенный еще с правой руки. Провел пальцами по порезам, очень отчетливо сказал: «Мерзавец!» – и опять поволок сюртук к дивану и лег.
– Пустяки, – трубил Ваня. – Можно даже просто подклеить сзади коленкором и замазать… И заметить будет нельзя,
Старик лег, отвернувшись к стене, но сюртук с него Ваня все-таки стащил окончательно.
Марья Гавриловна взяла, проворно намочила уксусом полотенце и пыталась обвить старику голову, как чалмою.
– Черрт, – что там кислое?.. – бормотнул Сыромолотов.
– Нет, вы попробуйте, Алексей Фомич!.. Вы попробуйте только, как это полезно!.. – упорствовала Марья Гавриловна.
Но старик сбросил полотенце на пол.
Через час, однако, все улеглось в сыромолотовском доме, и перестоявшийся обед был все-таки подан.
Но то скромное торжество, которое подготовил было себе старик на сегодня, оно было испорчено, как картина, оно не могло уж наладиться, и до вина, которое было все-таки подано на стол Марьей Гавриловной, потому что так сказано было ей раньше, не дотронулись ни сын, ни отец.
И серо как-то было в столовой. Солнце теперь освещало другую половину дома, глядящую на закат, – и ничто как-то не располагало к говорливости и оживлению, даже картина.
Когда оса-наездник в двадцать первый раз подымает сорвавшегося паука и тащит его по гладкой стене к своему гнезду в полке крыши, она делает это так же бодро и ревностно, как и в первый раз… Но не всегда бывает так же много бодрости у людей, невступно шестидесяти лет от рождения.
Если в мастерской сына, да за час назад и у себя в мастерской, нашлись у старика шутливые молодые слова, то теперь слова его были жухлые, и самый тон его голоса был другой.
– Однако… бешенство какое у этой серы с фосфором… как у дикого зверя!
– Он ведь больной, – нервнобольной, – пробовал объяснить Ваня.
– Что же ты плохо ешь?.. Ты ведь аппетитом не болен?.. На меня не смотри… А тебе эта твоя готовит… трясогрудая, – с носом?.. Что же, умеет готовить?
Лицо у него стало теперь, как маска, – потухло давешнее… Щеки осунулись и побурели; под глазами набрякло; белки глаз пожелтели и как будто вздулись.
Стараясь оживить его, Ваня рокотал о его картине и, зная, что никакого сравнения с современными ему художниками отец не терпел, он сравнивал ее только с картинами старых мастеров.
Однако по безразличному виду, с которым слушал (или не слушал) его отец, видел Ваня, что рокот его неубедителен и, главное, не нужен. Отец совершенно некстати на полуслове обрывал его вставками, тоже совсем не нужными, во всяком случае не заботливыми, может быть даже насмешливыми:
– Кушай же, Ваня, кушай!.. Ешь, Ваня, а то остынет…
За стаканом кофе, побарабанивши с минуту по столу толстыми пальцами обеих рук, он сказал, отдуваясь:
– Все-таки, – Моор этот… или как его? – Аберг?.. или черт, или дьявол… на пользу тебе пошел… Не отрицаю.
– Мм… Если бы не приемы, как бы я мог тебя удержать? – протрубил Ваня.
Но совсем неожиданно отец поднял на него снова те же самые, как три месяца назад, почти откровенно ненавидящие глаза и спросил тихо:
– А зачем же тебе нужно было меня удерживать?
– Помилуй, папа!.. Ведь ты мог бы его изувечить, – что ты!..
– А если бы даже и изувечил?.. Меня он может, значит, изувечить, а я его нет?
– Это смотря как изувечить… Ведь картину мы сейчас же поправим, и никто не заметит…
– Отчего же этот докторишка его не поправит?.. По крайней мере внушил бы ему (старик повысил голос), что без-на-ка-занно таких штук выкидывать нельзя!.. Кар-тины резать нель-зя!..
– Видишь ли, я боялся, что он может и тебя ножом… поэтому…
– Поэтому и кинулся на меня?.. Именно на меня… За-щи-тил!.. Хорошо!.. Умно сделал!.. Хвалю!
– Ну что могло бы выйти, если бы ты его изувечил?.. Притом же огласка, – сам подумай!..
– Огласка?.. Ка-кая?.. У меня в доме какой-то бешеный режет мою картину, а я должен кланяться – благодарить? «Пре-красно, господин рыжий!.. Вы сделали именно то, чего я не до-га-дался сделать!.. Я три года работал, а вы уничтожили все в три взмаха своим гнусным ножом!» Где он, кстати, этот нож?.. Его бы в полицию представить!.. Вместе с рыжим!
– Что ты, папа!.. Ведь он же в какое-то политическое дело замешан!.. Как же можно?..
– А какое мне до этого дело?
– Ты его… выдашь этим, папа, пойми!
– Как любого грабителя!.. Ограбившего меня в моем собственном доме… и даже в моем присутствии… и в твоем, конечно…
– Это, папа… нелиберально, – как хочешь…
– Значит, то именно, что он сделал, – либерально?.. Не знал!..
– Папа, послушай!..
– Значит, уничтожать картины, которые мне не понравятся, ли-бе-рально?.. Но ведь картина моя – искусство! (Он уже бил ребром ладони о ребро стола.) Значит, уничтожать искус-ство ли-бе-рально?
– Тебе вредно волноваться, папа, – поморщился и крякнул Ваня. – Это сделано больным человеком, который лечится…
Марья Гавриловна появилась в дверях столовой, услышав повышенный голос старика. Она привычно убрала со стола лишние тарелки, непонимающими круглыми глазами обводя то старика, то сына, и пока она была в комнате, старик молчал, только дул носом усиленно, упорно глядел в кофе и мял пальцами салфетку.
– Ты говоришь: больной человек! – начал он, когда ушла Марья Гавриловна. – Скажем просто: нуждается в наморднике… Значит, виноват этот докторишка твой: не смел его пускать ко мне без намордника!.. И даже больше того: пре-ду-пре-дить меня был должен!.. Скажи он мне только, когда я его спрашивал: кусается, мол… – я не стал бы ждать, когда он начнет резать мою картину… Я бы его пинками с крыльца, пинками с крыльца, если бы он у меня появился!.. Но ведь я же не был предупрежден об этом!.. Однако в полицию я его представить не могу, ты говоришь он – политический… А политический, – значит, здоров, слишком здоров, более чем здоров: дол-жен всех кругом заражать своим здоровьем… Почему же, когда он меня увечит, я осужден стоять сложа руки?.. Кар-ди-наль-нейший для меня это вопрос!.. Только… Только, – имей это в виду!.. И почему у него именно патент на либеральность, а не у меня?.. Разве я для великих князей писал свою картину?.. Не для них, нет, – а для себя!.. Это мои счеты… мои личные, а не княжеские!.. Это – сыро-моло-товский мой счет!.. А Сыромолотов – ху-дож-ник! Это – моя правда художника!.. Понял?.. Разве ты зря свои «Жердочки» пишешь?.. Ты только до «Фазанника» дошел, а я… пере-шагнул через твой «Фазанник»!.. Дальше пошел я, чем твой «Фазанник»… Способен понять?.. Кого же защищал ты с таким азартом?
– С каким же азартом?..
– С таким, что руки мне чуть не вывихнул и чуть не сломал спину, – вот с каким!..
– Я часто боролся, – тебе известно, – и знаю на глаз, кто чего стоит… Я тебя едва удержал… Ты его не изувечил бы даже: ты его просто убил бы!.. Я хорошо сделал, что крикнул: «Бегите!»
– Не знаю уж, убил ли бы… Не знаю!.. Но я бы себя за-щи-тил!.. Понял? Пока я жив еще, я должен уметь и… сметь себя защитить… Сметь! – вот слово. А ты не смеешь. Ты сидишь в своем фазаннике и ждешь, когда тебя зарежут!
– Почему меня?
– Тебя, тебя!.. Тебя, а не меня!.. Меня не зарежут, конечно!.. Я о тебе говорю!..
– Что ты говоришь, папа!
– Как что говорю?.. Да раз он у меня, – у меня в доме, на глазах моих готов разорвать мою картину, то что же он сделает с ней, этот рыжий, когда ворвется в галереи?
Ваня припомнил в это время Иртышова в вечер открытия лечебницы Худолеем и сказал медленно:
– Ну, мало ли что он может говорить!
– Не говорить, а делать! – крикнул старик. – Он делает и сделает!.. Он не зря такой длинный, как складная сажень!.. А ты ему помог сегодня.
– Если бы не я, ты бы его убил… Говорил это, и еще раз скажу.
– Одним сумасшедшим коком стало бы меньше!
– Но ведь тогда для этого кока, папа, ты стал бы кок! – улыбнулся Ваня. – Что же тут хорошего?.. И знаешь ли… Я тебя понимаю… и картину твою понял… и рыжего тоже понял…
– И?.. Что же?..
– И я решил…
– Сложить руки на животе?.. Или на груди?.. В благородной позе стоять и ждать, когда тебя проглотят?
– Да ведь, может быть, и не проглотят?
– А как же… ты… А как же борьба твоя?.. Аберг твой как?.. – Старик почти умоляющими, почти испуганными глазами посмотрел на сына. – Ведь я любил тебя и за эту борьбу… да, и за борьбу тоже!.. Я видел смысл в этом!.. Борьба, – я думал, это хорошо!.. Пусть борется! Пусть хоть в цирке научится бороться, – при-го-дится в жизни!.. А тебе это пригодилось только, чтобы… отца своего… отца сломить, которому шестьдесят скоро!.. Только?.. А как же Аберг?
– Что ж Аберг… Аберг – Абергом, а… народное дело пусть будет народным делом…
– Ты его отдаешь?.. Ему?.. Рыжему?.. Почему отдаешь?.. – страшно изумился старик. – Значит… он… прав, – этот рыжий? Да?.. Прав?.. Рыжий с ножом?..
Старик поднялся, сутулясь, упираясь руками в стол, и был страшен; Ваня молчал.
– Так иди же вон!.. Вон из моего дома!.. И навсегда!.. Вон, – и навсегда!
– Папа! – испуганно поднялся Ваня.
– Вон!.. И навсегда!..
И отец смахнул на пол со стола стакан с недопитым кофе и под звон и дребезги стакана вышел из столовой, хлопнув дверью, сколько нашлось силы.
Испуганная Марья Гавриловна металась с плачущим почти лицом, сбирая стекляшки с пола. Ваня оделся было, но сидел в передней, медля уходить от отца, боясь удара. И так сидел минут десять.
Но, услышав, что отец не лег, как он думал, а ходит, крепко и звучно ставя ноги, по длинному залу из угла в угол, точно отмеряя шестнадцать шагов до поворота, Ваня вышел, наконец, на улицу, решивши прийти потом, позднее.
По людной, солнечной еще, но уже предвечерней улице двигался большой, прямой, чрезмерно широкоплечий, обдумывая все одну эту узенькую, маленькую извилистую мысль: как уладить весь случай в доме отца так, чтобы не обидеть Иртышова и чтобы он не счел отца способным унизиться до доноса.
Он шел и придумывал длинную цепь мелких убедительных доводов, и с ними пришел к себе в дом, и, не заходя к себе наверх, открыл двери нижнего этажа, а там было бурно и много голосов.
Когда от дома Сыромолотова, усердно работая руками и явно спеша, уходили Иртышов, Дейнека и другие, – они даже отрывочными словами не перекидывались на ходу: они и без того казались очень подозрительны и странны для встречных и для тех не обремененных делами, кто случайно провожал их из окон скучающим глазом.
Но, придя к себе и убедясь в том, что никакой нет погони, и начавши обедать, они развернулись, они пришли в себя, чтобы тут же из себя выйти. (Да и не бывает ли всякий человек самим собою только тогда, когда из себя выходит?)
На Иртышова нападали все, кроме о. Леонида, державшегося в стороне, так как он избегал разговоров с Иртышовым, и студента Хаджи, утверждавшего, что надо было сделать немного не так.
– Можно было серной кислотою, например, как делают, я читал, в Нью-Йорке… на улицах… с хвостами дамских платьев… – тянул он томно. – А так… ножом… какой устарелый способ!
– Серной кислотою?.. Да, было бы дельнее!.. Запомню, – отзывался Иртышов.
– А я заявляю завтра Ивану Васильичу, что если он вас не выпишет, то я выпишусь! – кричал Синеоков. – Я за вас ручался, когда мы входили, – помните?.. Я говорил: «Разве дикари мы?..» Оказалось, – дикари! Форменные! Поймите, что глупее нашего положения сейчас быть не может!
– Ерунда!.. Вы еще глупых положений не видали!.. – махал на него руками Иртышов.
Карасек поддерживал Синеокова так:
– Нет! Нет!.. Это есть совсем безобразнейшая сцена, господин Иртышов!.. Не-мыс-лимо!
А Дейнека глазами чрезмерно серьезными в упор буравил Иртышова, стучал методически по столу указательным пальцем и, несмотря на крики кругом, не повышая чересчур голоса, бросал в верткое рыжее двухсложными словами:
– Глу-по!.. Мерз-ко!.. Гад-ко!.. Гнус-но!.. Дико!..
И вообще, точно задался целью подыскать, припомнить все подобные слова и ими выстреливать равномерно, точно с прицельного станка, в то рыжее, что перед ним металось.
Когда вошел Ваня и, не раздеваясь, в своем затканно-черном заграничном клеше, остановился в столовой, там уже не было Иртышова: он лежал у себя в комнате и курил, а Прасковья Павловна старалась унять окончательно разошедшегося Синеокова:
– Да будет же вам!.. Да оставьте же!.. Вы себе же вредите этим!.. Вам же нельзя раздражаться!..
Но раскрасневшийся, дрожащий Синеоков кричал:
– Или он, или я!.. Или я, или он!.. Кто мне поручится, что мне с ним безопасно?.. Это – явный разбойник!.. Разбойник с большой дороги…
О. Леонид первый кинулся к Ване.
– Ну что?.. Как?.. Скажите, как?.. Ах, какой случай!..
И Синеоков, умолкший вдруг, и Хаджи, и Дейнека, – все столпились около Вани с виноватыми почему-то лицами.
– Отец… я думаю… ничего уж теперь… Отошел, – пробасил Ваня.
И Синеоков ему тут же:
– Я завтра же попрошу доктора, чтобы этого выкинуть вон!
– И я!.. И я тоже!.. Присоединяюсь!.. – тщательно выговорили о. Леонид, Дейнека и Карасек, точно Ваня и был доктор.
– Перед вашим батюшкой нам бы следовало извинить-ся! – протянул Хаджи, и тут же остальные:
– Непременно!.. Конечно, извиниться!
Но махнул Ваня шляпой, которую держал в руке:
– Что вы!.. Извиниться!.. И не думайте даже!.. Да и в чем именно вам-то извиняться?..
И тут же поспешно:
– А он… этот… где же?
– Иртышов?.. Здесь!
И услужливо открыли перед ним комнату Иртышова и столпились около двери, может быть ожидая с тайным интересом, как этот Сампсон без ослиной челюсти обойдется сейчас с рыжим «филистимлянином».
Но Ваня перед наседавшими пятью, улыбаясь неверно и бормоча неловко: «Наедине, господа, нам надо… Уж вы… подождите пока…» – затворил плотно за собою дверь и, чтобы не смущать Иртышова, оглядевшись, мирно уселся на стул и внимательно посмотрел на него, добродушно и с явным любопытством.
Похоже было на то, что Иртышов хотел выскочить из комнаты стремительно, но, увидев, что Ваня сел, остановился, присмотрелся к нему пытливо и тоже сел, только не на другой стул и не на кровать, а на широкий, во всю толщину каменной стены, подоконник.
Здесь все лицо его, небольшое, заросшее до середины скул рыжим волосом и со взлизами на лбу, было в тени и казалось иззелена-серым. Спиною он уперся в ручку шпингалета, а длинными руками тут же привычно обхватил острое левое колено, и так как Ваня (так показалось ему) очень уж долго разглядывал его, не начиная говорить, то он первый не выдержал и сказал вопросительно:
– Ну?
– Ну… дело ваше, конечно, скверно! – понизил Ваня свой густой голос, чтобы не слышали за дверью.
Иртышов достал папиросу, но так как спички лежали на его койке, а слезать с подоконника ему не хотелось, то он повертел ее в руках и спросил Ваню:
– В каких смыслах скверно?.. Уж не донести ли на меня желает ваш отец?
– Едва ли! – повел головою Ваня. – До-нес-ти?.. Что вы!.. Но вот приехать сюда еще раз… это он очень может!
– Предпочтет! Вы думаете?.. Дайте спичку, если есть.
– Думаю, что предпочтет… Спички?.. Нет у меня спичек.
Иртышов легко спрыгнул с подоконника, взял с койки свой коробок, закурил и лег снова, как лежал до Вани, левую руку заложив за голову.
– Когда же именно?.. Сегодня пожалует?
Ваня добросовестно подумал:
– Сегодня едва ли… Сегодня он будет исправлять картину.
– А завтра с утра я выпишусь!.. Черт ли тут!.. Хотя тут есть кое-какие удобства, но… неважно!
И Иртышов очень глубоко затянулся и потом весь заволокся дымом.
– Я думаю, вам и из города надо уехать, – еще больше понизил голос Ваня.
– Ну-у?!. Все-таки… донесет, значит?
– Нет, он доносить не будет, – это наверное, но-о…
– Понял!.. Там я какую-то видел… особу в белом… Она донесет?
– И она доносить не будет, но, знаете ли… как-нибудь стороной дойти может… Вообще, вам лучше уехать!
– У меня тут работа налаживается, – что вы?!. Отсюда я уйду завтра… А уж уехать из города, – дудки!
– Советую все-таки! – серьезно прогудел Ваня и добавил еще серьезнее: – По-моему, вы вообще никуда не годитесь… «Работа налажена»!.. Какой же вы «работник»?.. Вы и собой-то не можете владеть!.. Ну что это вы выдумали: картину… ножом?..
– Покушение с негодными средствами, – вы хотите сказать?
– Просто, – полнейшая чепуха!.. И на что же вы надеялись, – вот что хотел бы я знать!.. Пусть картина вам не понравилась…
– Мерзость! – вставил Иртышов скривясь.
– Шедевр, а не мерзость!.. Шедевр!.. Не ожидал я даже!.. Я не ожидал, – поняли?.. Но это – в сторону.
– Тем хуже, если она шедевр! – перебил Иртышов.
– Как тем хуже?.. Он взял труднейшие живописные задачи!.. Горжусь своим отцом!.. Молодчина!.. Но вот вы-то… вы-то… на что надеялись?.. Нет, мне серьезно вполне хотелось бы это знать!
– Что знать?
– Ну вот, вы изрезали картину… проткнули ножом в двух местах… А дальше?.. Что должно было произойти, по-вашему, дальше?
– А дальше… конечно, он должен был меня растоптать, ваш талантливый папаша… И до сих пор желания этого не потерял: ведь вы же сами сказали.
В это время он уже докурил папиросу и, длинно размахнувшись, бросил окурок к самой двери.
– Нет, право, – меня это интересует… как борца… Вы делаете прием, и должны ждать парада… Чего же вы именно ждали?.. На перочинный ножик надеялись?
– Вот именно!.. На ножик… Вы угадали.
И только тут, хлопнув себя по карману брюк и проворно обыскав карманы пиджака, он вспомнил, что выронил ножик, и добавил:
– Я его, кажется, потерял!
– Да-а… ножик остался там… в мастерской… Значит, на ножик вы не надеялись… И хорошо, что был тут я… и смог отца удержать… Вы думаете, – легко это было?.. Ого!..
– Ну, значит, на вас-то я и надеялся… На кого же больше?.. Не на попа же?
– Гм… Это вы серьезно?.. А если бы меня не было?
Очень внимательно смотрел Ваня, ожидая ответа.
– Я бы и не резал бы эту мазню… и только!
Тут Иртышов сделал широкий жест рукою от себя и влево, а правую ногу вздернул острым коленом вверх.
– Это вы… шутя говорите, – подался к нему Ваня.
– Нисколько!.. Если бы вас не было, и нас бы у вашего папаши не было… ведь так?
– А почему же вы… почему же вы не подумали, что я на вас тоже… вместе с отцом? – несколько оторопело даже прогудел Ваня.
Но Иртышов отозвался весело:
– Куда же на меня одного двух таких дядей?.. Неэкономично!.. На вас у меня безошибочный был расчет.
– На меня?.. Почему это? – еще больше оторопел Ваня.
– Во-от!.. «Почему»!.. Ведь вы же – наш квартирный хозяин!.. Прямой вам расчет был за меня вступиться… Теперь вот тихо-мирно можно все уладить, а уж ежели не вступились бы, – огромный мог получиться скандал… Я еще, когда вы на меня рычали, понял: себя оберегаете… свои карманные интересы.
– Понял тоже!.. А не боитесь вы, что вот сейчас я вас могу изувечить?.. Не отец уж, а я! – совсем шепотом уж и весь наклонясь к Иртышову, даже стул подвинув, сказал Ваня.
Но Иртышов только опустил правое колено, поднял левое и прищурился.
– Какой же в этом будет высочайший смысл?.. По-моему, – ровно никакого!
– Никакого?
– Решительно ни малейшего!
– Да… конечно… Но вы все-таки уедете?
– Отсюда?.. Думаю завтра это сделать.
– Нет, не только отсюда… а совсем!.. Из города уехать!
– Вы что?.. Губернатор?.. Высылаете?.. Вот сынишку нашего доктора хотят тоже выслать… власти высшие… А вы хотите меня…
Он привстал с кровати и вдруг докончил не в тон:
– А денег на дорогу дадите?
– Я чтобы денег?.. – изумился Ваня. – Как денег?
– А как я могу без денег уехать? – прищурился Иртышов. – По этапу если гонят, так и то на казенный счет… А раз в ваших интересах, чтобы я уехал…
– Да… нахальства у вас много! – вздохнул Ваня. – И много вам нужно?
– Чем больше, тем лучше… Тысячу, например…
– Та-ак!..
– Что?.. Разорительно?.. Небось, загребали деньги лопатой… на чужих лопатках… Ну, давайте, сколько можете…
Ваня, все еще продолжая смотреть на него очень внимательно, вынул из кошелька три золотых пятирублевки, подбросил их раза два на ладони и протянул Иртышову.
– Вы… что же это? – взял их и сделал движение бросить обратно Иртышов.
– Сколько могу, – шепотом сказал Ваня.
– Куда же я с таким капиталом огромным могу уехать, хотел бы я знать? – почти крикнул Иртышов.
Но Ваня положил палец на свою нижнюю губу и качнул головою на дверь.
– Кричать зачем же?.. Значит, можно надеяться, что вы на время отсюда спасетесь?
– Там видно будет, – отозвался Иртышов и повернулся к стене сначала одними коленями, потом весь.
– Советую, – сказал, уходя, Ваня. – Прощайте.
Иртышов не ответил.
Ваня, еще сидя в передней отца, просил Марью Гавриловну, чтобы та зашла к нему сказать, если отцу будет плохо. И теперь, после разговора с Иртышовым, он у себя наверху все поглядывал в окна тревожно, ждал ее и не притрагивался к кистям.
Ходил по комнатам и вспоминал картину отца. Вспоминал не так, как вспоминают зрители из толпы, наполняющей выставки и галереи, а так, как вспоминают только художники, отмечая в памяти то, что они только одни умеют ценить.
И, проходивши так довольно долго, он повернул все свои холсты лицом к стене…
Потом, когда наступили сумерки, он послал Настасью к Марье Гавриловне как-нибудь найти ее и узнать, как здоровье отца.
Настасья пришла, когда он, устав от темноты, зажег уже лампу, и передала с укоризной в голосе, точно Ваня был виноват в этом, что старик лежит на диване у себя в мастерской, конечно, не жалуется, но, однако, выпил уже два графина воды.
Ночь провел Ваня очень беспокойно, а утром пошел сам к дому отца.
Подходя к воротам, встретил Марью Гавриловну, выходившую, как обычно по утрам, на базар с корзинкой. Явно обрадовалась она, увидя Ваню, и очень сконфузилась, когда Ваня, спросивши уже: «Как себя чувствует отец?» – и получивши ответ: «Какой всегда бывает, такой и теперь!» – снял с ее темно-синей кофточки с левого рукава приставшую белую нитку.
– Ах, благодарю вас, Иван Алексеич! – пропела она серебряно. – Вот знак какой!.. Значит, блондин по дороге привяжется!
– Какой блондин? – не понял Ваня.
– Какой-нибудь… раз ежели белая нитка прицепилась!
– А если бы черная? – рассеянно рокотнул Ваня.
– Тогда уж, разумеется, брюне-ет!
Два раза не спеша прошелся потом Ваня взад и вперед вдоль ограды отцовского дома, но в калитку так и не решился войти.
Часа через два приехавший навестить своих больных Худолей имел очень убитый вид, когда говорил с Ваней о выходке Иртышова, и часто повторял:
– Ну кто бы мог подумать, а?.. И к чему, к чему это?.. Зачем?..
Как ни отговаривал Ваня Худолея, он все-таки поехал к старику извиняться, взявши с собой о. Леонида, надевшего теперь не только новые ботинки, но и новую рясу.
Старик просил Марью Гавриловну передать этим новым гостям, что он не болен и не собирается умирать, поэтому ни доктор, ни священник ему не нужны.
Марья Гавриловна не сказала этого; она пропела серебряно:
– Очень, очень извиняется Алексей Фомич!.. Очень, очень расстроился и никак, никак не может принять!
Она думала, что так будет гораздо приличнее и не обидно.
Ни доктор, ни священник на это действительно не обиделись, только долго и горячо просили передать свое сочувствие и обещали прислать письмо.
Уезжая, доктор посоветовал даже Марье Гавриловне взять для старика какие-то капли, которые дадут в аптеке без рецепта. И хотя Марья Гавриловна ответила, что Алексей Фомич лекарств никаких не любит и пить капель не будет, все-таки усиленно пыталась запомнить, какие именно капли, и все повторяла про себя, но, проводив гостей до калитки, решительно и бесповоротно забыла.
Относясь к Иртышову по-прежнему, как к больному, и потому в выражениях мягких, даже ласковых, Худолей просил его покинуть нижний этаж дома Вани.
– Я думаю, вы сами видите, что нельзя иначе! – развел он сожалеюще руками.
– Еще бы не видеть!.. Отлично вижу! – отозвался неозабоченно Иртышов.
И, дождавшись сумерек, он действительно ушел, унося с собою маленький дорожный саквояжик, в котором разместил все свои вещи: две-три книжонки, перемену белья и подушку.
Подушка занимала в саквояжике не больше места, чем рубашка, так как была резиновая.
Глава седьмая
Отец и сын
Когда Иртышов уходил из нижнего этажа дома Вани со своим легким саквояжиком, он, привычный к осторожности, выбрал для этого сумерки: не день, когда все кажется подозрительным тебе самому, и не ночь, когда ты сам кажешься подозрительным встречным людям.
Сумерки этого дня были как-то особенно удобны для дальней прогулки с саквояжиком: они были сырые, вязкие, вбирающие. Какая-то мелкая мгла сеялась, и встречные глядели себе под ноги и поправляли кашне и воротники пальто. А лица у всех были цвета необожженных свечей.
Поработавши длинными тонкими ногами с полчаса, Иртышов уже при лампе сидел и пил чай у своего случайного знакомого, учителя торговой школы, Павла Кузьмича, холостяка лет тридцати пяти, с черными волосами, очень густыми и стоящими щеткой, с рябоватым широконоздрым носом, все время встревоженно нюхающим, и с глазами черными, блестящими и косящими. Бороду он брил, а в башкирских редких усах его был очень толстый волос. Ростом Павел Кузьмич был невысок, но плотен.
Встретил Иртышова он с некоторой заминкой, однако сейчас же усадил за чай, к которому только что приступил сам.
Трудно угадать, что думает о вас человек с косыми глазами, особенно, если он в это время угощает вас чаем и подсовывает вам лимон, от которого отрезаны перочинным ножом два крупных ломтика, а на рябом носу его выступает пот; но Иртышов сразу заявил, что из-за позднего времени он опоздал к своему поезду, придется у него заночевать…
– Заночевать придется, но прошу не думать все-таки, прошу не думать, что я – искомый!.. Никто меня не ищет… Напротив, я сам ищу… постоянного места какого-нибудь… то есть должности… Вам, в торговую школу вашу сторожа не надо ли, а? – Я бы мог.
– Ну-у, «сторожа»!.. Что вы!.. Шутите?
Павел Кузьмич сразу стал весел: не от того, что Иртышов вдруг может стать у них в школе сторожем и звонить в колокольчик, не от того, что он к нему всего на одну ночь, а утром уйдет, и никто за ним не гонится, – трудно разобрать человека с косыми глазами, но даже форменные пуговицы на его тужурке просияли.
– Сторожем в школу нашему брату чем же плохо? – сделал над самоваром широкий жест Иртышов. – И ведь у вас там порядочные, я думаю, дылды есть… Вы их чему там – мошенничать учите?.. Не обманешь – не продашь?..
Комната у Павла Кузьмича была не из больших, но довольно просторная. Ширмы с китайцами, этажерка с двумя десятками книг, по виду учебников, и две стопки синих тетрадок на ней; два окна в занавесках с журавлями головами вниз, не на улицу, а во двор.
Самовар вносила не прислуга, а хозяйка, из простых, но очень толстая, о которой задумчиво сказал Иртышов, когда она ушла: «Такую кобылку вскачь не погонишь!»
Чтобы совсем уж успокоить Павла Кузьмича, он говорил одушевленно:
– Есть у меня место, то есть, наверное, будет, конторщика на гвоздильном заводе, да берегу его на крайний случай… Это такое место, что от меня не уйдет… Только крайний-то случай этот мне бы все-таки отдалить пока хотелось!.. Есть соображения против… Лучше бы мне пока в тень куда-нибудь поступить.
– Конторщиком… – улыбнулся Павел Кузьмич. – А вы разве торговые книги вести умеете?
(Когда улыбался Павел Кузьмич, то оказывалось, что губы у него двойные: откуда-то изнутри наплывали еще одни губы.)
– А как же не могу?.. Вы бы там через сынков к папаше какому невредному меня пристроили, – вот дело будет!.. Переберите в уме, подумайте!
Иртышов уже посветлел от надежды и сам весело заулыбался, обсасывая лимонную корку.
– Главное, на время мне надо бы спрятаться в тень, а куда, – неважно, лишь бы тень была!.. Поняли?
– Я подумаю… – все не собирал двойных губ Павел Кузьмич и в то же время справлялся с установкой на глазах Иртышова того своего глаза, который давал ему правильное представление о жизни, а когда окончательно установил, добавил почтительно: – Вера эта, можно даже сказать фанатизм этот меня поражает!
– «Фанатизм»!.. Подумаешь!.. – качнул Иртышов бородою. – А вот на вашего брата, на учителей, у нас большая надежда…
– Еще бы!.. Учителя… Конечно… Берите же булку!.. Да, когда подумаешь, сколько талантов, может быть, гибнет, боже мой!.. Умов великих!.. А кто они теперь?.. Один – извозчик, на углу стоит, мерзнет… Другой – сапожник какой-нибудь, – сапоги тачает… А почему?.. Потому что им невыгодно, тем, кто у власти!..
– Еще бы!
– А между тем… Я бы сам мог университет окончить, однако… греческий язык, латинский язык… К чему они?.. Убивать на них годы?.. А без этого, видите ли, нельзя… Вот и корпи учителем в торговой школе, получай пятьдесят рублей!
– Ага!.. Понимаете!
– Еще бы!.. – он оглянулся на дверь. – Вот хотя бы девятьсот пятый год… Я тогда первый год учителем был в торговой школе… Всеобщая забастовка железных дорог!.. Очень она меня поразила… Все время одну власть знали, и вдруг другая появилась!
– Ага!.. Поразила?.. Погодите, будет еще на нашей улице праздник!
– Будет?
– Ну, еще бы!.. Непременно!.. Двух мнений быть не может!
– Гм… Я часто над этим вопросом думал… – и понизил голос Павел Кузьмич: – Ведь есть же люди!.. Ничего им такого не надо… Гнут свою линию!.. Орудуют!.. «Враги порядка» – называются… Враги порядка – это совсем другое… Воры, например, грабители… А у них свой какой-то порядок!
– «Какой-то»!.. Стыдно, батенька!.. Знать надо! – поднялся было и сел Иртышов.
– Откуда же узнаешь!.. Читал когда-то Бебеля, издание «Донской Речи», а потом в печку бросить эту книжечку пришлось… Строго стало… Это вот с вами я познакомился, от вас что-нибудь услышу… В учительской о таких вещах не говорят.
– Совсем не говорят?
– Где же там!.. – и облизал скромно двойные губы. – Ведь вот движение это пятого года войсками было задавлено, – а если бы войска отказались? Что бы тогда было?
– Вот то-то и есть!
– Тогда, я помню, черносотенные газеты студенты у нас на улице жгли, а я тогда иду в фуражке форменной, в шинели, – городового на углу спрашиваю: «Ты не знаешь, что это такое там делают?» – «Проходите, говорит, куда идете!» (Очень грубо так!..) Я тогда: «Говорят, газеты черной сотни жгут?» А он мне: «Говорят, кур доят и медведи летают!» Мне!.. Чиновнику!.. «Ты, говорю, повежливей!» – «А не хотите, говорит, задержу!..» И свисток вынимает!.. Вон им какую тогда волю дали, – городовым! Даже чиновников задерживать могли!.. Я, конечно, пошел тогда дальше сам не свой… Всякий городовой, значит, может нанести оскорбление!.. Вот, восемь лет прошло, а я это помню!..
– Городовой!.. – усмехнулся Иртышов весело.
– А министров я, конечно, не видел, – приготовился уже потухнуть, но еще сиял Павел Кузьмич.
– Нет, отчего же, – пусть городовой, – поощрил Иртышов. – Кому городовой жить помешал, кому министр, лишь бы ясно было, что помешали. И мы их взорвем, – это неизбежно, как за зимой весна!
– Неужели?..
Павел Кузьмич, следя за жестами Иртышова, опять потерял твердый установ своего правильно видящего глаза, и теперь, ворочая головой, его направлял снова на серые глаза гостя, а направив, добавил тихо:
– А скоро?
– Время работает на нас, а не на них, – таинственно ответил Иртышов и протянул ему свой пустой стакан, сказавши: – Только покрепче нельзя ли!
В это время толстая хозяйка, не постучавши, распахнула дверь и обратилась к жильцу недовольно:
– Там какой-то мальчишка пришел…
И только успела сказать это и посмотреть не на Павла Кузьмича, а на его гостя, как в комнату, отстранив ее грузный локоть, протиснулся в шапке с наушниками и в кургузом пальтишке, лет четырнадцати на лицо, но довольно длинный мальчик, при одном взгляде на которого вскочил в совершенном испуге Иртышов, крикнул:
– Сенька! – и хотел даже выскочить в дверь, но ее плотно заняла во весь просвет хозяйка.
Мальчик быстро развязал шапку и снял ее и оказался таким же рыжим, как Иртышов, но так как Павел Кузьмич уже стянул губы в настороженный присосок и паправил на него по-школьному строгий глаз, то он поклонился ему очень вежливо и проговорил, в сторону Иртышова мотнув шапкой:
– Извиняюсь за беспокойство!.. Это мой папашка родный… Искал-искал, насилу нашел!
Ничего извиняющего не появилось в лице Павла Кузьмича, напротив, – явное высокомерие и строгость.
– Сенька… Ты как же это?.. Из Москвы? – бормотал между тем Иртышов, ухватясь за спинку стула.
Он стоял в углу около этажерки и бросал беспокойный взгляд на толстуху: когда же она уйдет.
Но та была сама очень изумлена: как же могла она уйти?.. Она была женщина с мягким сердцем, как все почти толстухи, и ей уже безотчетно жаль было мальчика: промок под мозглым туманом и есть хочет, конечно, – такой худой!
– Хватился!.. Из Москвы!.. – отвечал отцу мальчик. – Из Москвы я уж месяца полтора будет…
И тут же к Павлу Кузьмичу очень вежливо:
– Присесть позволите?
– Присядьте! – нашел, наконец, голос – но очень строгий – Павел Кузьмич и, чтобы чем-нибудь заняться еще, начал наливать ему чай, цедя сквозь ситечко.
Должно быть, в то же время успел он сделать какой-нибудь знак своей хозяйке, потому что, вздохнувши шумно, ушла она и дверь притворила.
К этой двери тут же подскочил было Иртышов и даже тронул было за ручку, но горестно, совсем обреченно обернулся, закрутил кончик бороды на указательный палец левой руки (знак большого волнения при неизбежности) и сел к столу, но не закидывая ногу за ногу, а съежившись и постаревши сразу.
Зато очень ясно глядел желтыми глазами – не отцовскими, но с похожим выражением – Сенька.
При лампе ли, или так показалось бы и днем, лицо у него было вялое, дряблое, без кровинки, с длинным носом и с косицами красными, опущенными на лоб; губы же у него были коротки, может быть и во сне не закрывали зубов, а теперь эти зубы, все сплошь открытые, очень заняли Павла Кузьмича: так они были разнообразны, точно нарочно насовал он себе желтых прокуренных костяшек в рот как попало, вкривь и вкось, маленьких и больших, широких и острых – и чем-то прилепил их к деснам…
– Да… вот как оказалось… Сын… Семен…
Сконфуженно и исподлобья поднял глаза Иртышов, нащупывая ими некосящий глаз учителя.
Павел Кузьмич отозвался на это, болтая в своем чаю ложечкой:
– А я думал, вы холостой…
И тут же Сеньке строго:
– Вы где-нибудь учитесь?
– Выключили, – ухмыльнулся Сенька; взялся было за стакан, погрел об него пальцы рук и поставил.
Все пощипывая бороду, повторил зачем-то Иртышов очень глухо:
– Выключили… да… Меня не было тогда, – я в ссылке был… Конечно, за мальчишкой некому было присмотреть…
И вдруг с большой тоской:
– Как же ты меня здесь нашел?.. Я ведь никому не сказал, что сюда пойду!.. Сам на ходу только этот адрес вспомнил!..
– Да я не спрашивал… Думаешь, спрашивал?.. Нико-го!.. На улице тебя встрел…
– Где встрел?
– Встрел, а потом пошел следом.
– А-а… А сюда как попал, – в город?
– Ну, это уж я в Крым отогреваться приехал, – захолодел. – И опять взял в руки стакан погреть пальцы.
– Как это так «приехал отогреваться»?
– Как наш брат ездит вообще, так и я. Зайчиком, конечно, а то как же еще?
– Значит, в полицию тебя уж приводили? – ожил было Иртышов и даже потянулся к нему длинной рукой, привставши.
Но Сенька только метнул в его сторону снисходительный желтый взгляд с ухмылкой.
– В полицию… Скажет тоже!.. Чудило-мученик!..
Очень встревоженно начал вглядываться Павел Кузьмич и в Иртышова и в Сеньку.
Шел уже седьмой час, когда он начинал обыкновенно править тетради, и если один Иртышов, как он думал, особенно помешать ему не мог, то теперь ему уж ясно было: помешают.
– Вы, собственно, куда же теперь, после чаю? – начал он, дернув головою, чтобы установить на Сеньке глаз.
– Как это куда? – с ухмылкой удивился Сенька, кстати хлебнув из стакана. – К нему… к папаше…
– Ну да… конечно, к папаше… Я только вот хотел выяснить…
Поглядел еще раз на часы, на две стопки тетрадок и докончил:
– У папаши вашего сейчас ведь тоже нет квартиры!
– Ты давно у нас тут?.. Где ночуешь? – опять усиленно задергал бороду Иртышов.
– А где ты ночуешь, там и я буду ночевать, – ухмыльнулся Сенька и допил, не отрываясь, горячий чай.
Павел Кузьмич нахмуренно отвернулся к окнам, а Иртышов встал, и сразу стало заметно, как он взволнован.
– Сенька!.. Брось штуки свои!.. Брось!.. Понял?
– Мм… конечно, я и в гостинице «Бристоль» ночевать могу, была бы мелочь!
– Не накрал! – крикнул Иртышов запальчиво.
– Не пофартило, – задумчиво вытянул Сенька и даже нос свой сделал опечаленным.
Павел Кузьмич повернулся от окон и удивленно упер скошенный глаз именно почему-то в этот опечаленный нос с горбинкой, а Сенька взял с тарелки ломтик булки и заработал беспечно своими разнообразными костяшками, отчетливо и с немалой скоростью.
– Вы уж меня извините, Павел Кузьмич: я с ним поговорить должен, – сделал просящее лицо Иртышов.
– Я… пожалуй, могу выйти на время, – привстал Павел Кузьмич.
Однако Сенька вдруг перестал жевать.
– Говори при них, не робей! – остановил он отца и тут же весело Павлу Кузьмичу: – С чего эти секреты, не понимаю!.. Раз сынишка отца нашел, – значит, ему надобность!.. Милые родители, денег не дадите ли!.. (Он подмигнул Павлу Кузьмичу.) Ну вот, попался, – значит, лезь в кошелек… Правда?
– Сенька!
– Конечно, я, может, давно уж не Сенька, все-таки крещеного имени не забыл.
– Как же ты сюда именно?.. Зачем?..
– Доктора послали на теплый воздух… «Зачем»!.. Болезнь у меня. Слышишь, сиплю как?.. Скоро сдохну!
Тем временем Иртышов сделал умоляющее лицо вполоборота к Павлу Кузьмичу, и учитель его понял, и встал, и даже двинулся к двери, но Сенька тоже поднялся, заскочил к двери сам с большой быстротою и расставил перед ним руки:
– Вот беспокойства какого я вам наделал!.. Ну разве ж я знал?.. Да он без вас застрелить меня может и вас засыпать… Он ведь бешеный!
Павел Кузьмич задергал головою, стараясь направить глаз на карманы Иртышова. Он сопел. Ему стало совсем не по себе.
– Да ты ж, змееныш окаянный, – чего ж тебе от меня надо, скажи!.. – стараясь не кричать, выжал из себя Иртышов.
А Сенька спокойно:
– Рублей двадцать дашь, – хватит!.. Пока хватит, – и уйду.
И опять к Павлу Кузьмичу:
– Только при вас чтобы дал, а то обманет!.. Он без свидетелей меня сколько раз надувал!..
Очень у Сеньки был спокойный, хотя и сиплый голос, и если бы слышать его из другой комнаты и не видеть, показался бы он, рассудительно ставящий слова, сипящий, человеком с запалом этак лет сорока или больше.
– Нет у меня двадцати!.. Нет двадцати!.. Никаких денег нет!.. Ничего нет!.. – сложился Иртышов ножиком и тыкал перед собою тонкой рукой.
Черненький галстучек его выбился из-за жилета и трепался, как черный клок в рыжей бороде; очень злые стали глаза и яркие.
Абажур лампы был в форме шара, но не матовый, светлый, и Павел Кузьмич, смотревший хоть и косым, но зорким глазом, отчетливо видел, что вот-вот не выдержит Иртышов и бросится на мальчишку. А мальчишка говорил рассудительно:
– Нет, – так займи!.. Они, я думаю, не откажут!.. – и кивок красной головою в сторону Павла Кузьмича.
– Нет!.. Я?.. Как можно!.. Откуда у меня двадцать рублей? – в большом волнении бормотал учитель.
– А вы думаете, у него нет? – нежно подмигнул ему Сенька. – Притворяется драной перепелкой!
– Сенька!.. Пять рублей тебе дам, и иди! – вдруг подскочил к нему вплотную Иртышов.
– Дашь двадцать! – не отступил перед ним Сенька.
– Каков? – умоляюще посмотрел Иртышов на учителя.
– Молодой человек!.. – начал было учитель, но Сеньке стало весело, он засмеялся сипло, широко обнажив все, и самые дальние костяшки своего рта.
– «Мо-ло-дой чело-век!» – повторил он, давясь смехом, и в глазах его, как стекляшки желтых бус, много было презрения.
Павел Кузьмич этим мальчишеским презрением был вздернут. Точно ученик у него в классе позволил себе такую выходку, за которую нужно его за дверь, в коридор…
– Да вы… вы… что это?.. – поднял он голос. – Вы… убирайтесь отсюда!
– Горя наберетесь! – опять рассудительный голос с сипотой. – Выгнать меня недолго, – расчета мало.
И снова к отцу, точно игра между ними шла:
– Двадцать.
Теперь уж и Павел Кузьмич стал рядом с ним, и то в его черные, косые, сильно растревоженные глаза, то в отцовские серые, от злости побелевшие, глядел этот желтоглазый мальчишка выжидающе, даже весело, весь подаваясь вперед, весь отдаваясь: хотите бить, – бейте.
– Десять дам, – больше нет… Последние… Грабь! Грабь, мерзавец!
И, засунув руку в карман, все хотел вытащить Иртышов из кошелька деньги, и слишком дрожала рука, никак не могла нащупать, не слушались пальцы.
– Двадцать! – опять так же и тем же голосом.
– Да бейте же его! – потерял терпение учитель, но, столкнувшись с желтыми стекляшками глаз над длинным горбатым носом, только отодвинулся и пожал плечом.
Иртышов вынул, наконец, две золотых монеты из трех тех, которые получил от Вани.
– На! – сказал он неожиданно кротко. – На и иди!.. В какое положение ты меня поставил, боже мой!.. Все – больше нет… Я тебе честно говорю: нет больше!
Сенька взял, посмотрел одну, потом другую, сказал:
– Нет сейчас, – за тобой будут, – и спрятал их куда-то за борт пальтишка.
И шапку свою с наушниками, которую все держал под мышкой, натянул на рыжие косицы и завязал под подбородком, не спеша, размеренно, суя то в лицо учителя, то в лицо отца высоко поднятыми острыми локтями.
И когда Павел Кузьмич подумал, что все уже кончено, что уйдет сейчас этот желтоглазый, он очень спокойно обратился к нему:
– А то досыпьте… чтоб еще раз не беспокоить!
– Нет, – это что же такое, а? – изумленно учитель спросил Иртышова.
– Иди уж, иди! – отворил тот дверь перед сыном, и когда тот, ухмыльнувшись, пошел, двинулся сзади, а следом за ним пошел Павел Кузьмич, и без галош дошли оба до калитки, желая убедиться, ушел ли, наконец, Сенька, а когда вернулись в комнату, оба с минуту молчали.
Даже не садились. Учитель перебирал тетрадки на этажерке, Иртышов стоял перед своим саквояжиком, скрестивши пальцы.
Наконец, учитель, положив тетради на стол, первый кашлянул, чтобы можно было сказать протяжно, – не осуждающе, однако и без одобрения:
– Да-а-а… скажу я вам!.. Был у нас в школе один подобный случай…
– А не пойти ли мне прямо на вокзал? – тронул ногой свой саквояжик Иртышов. – Как вы думаете?
Но не выдержал и опустился горестно на стул и руками закрыл лицо.
– Это называется – вымогатель! – решил между тем свой трудный вопрос о рыжем мальчишке Павел Кузьмич.
– Поезд на север идет в половине девятого, – соображал вслух Иртышов, не отнимая рук от лица. – Успеть успею… Утром в Александровске… А денег у меня осталось всего пять рублей… и три двугривенных…
– Думаете, нужно уехать? – спросил довольно Павел Кузьмич, освобождая на столе место для тетрадок.
– Непременно!.. Непременно!.. Как же можно иначе? – удивился даже Иртышов и лицо открыл. – Вы думаете, он отстанет?.. Не-ет!.. Он ни за что не отстанет!
– Однако чем же он существует?
– Разве вы не поняли?.. Вор!.. Карманник!..
Потом он подумал было вслух:
– А если переждать где-нибудь день-два?.. Вдруг он засыплется?.. Тогда я, пожалуй, могу…
Но, пытливо посмотревши в косые глаза учителя, Иртышов встал, сделал свой очень широкий жест, точно бросал что-то наземь чрезвычайно ему надоевшее, и сказал решительно:
– Иду на вокзал!.. Завтра в четыре утра – в Александровске… Несчастный случай, – ничего не попишешь!.. Чем я тут виноват? Ничем не виноват!
Учитель явно остался доволен. Пока одевался Иртышов, он спросил даже:
– Вы, – простите, – не шутите?.. Это, конечно, не ваш сын?
– А чей же? – удивился Иртышов. – Моей жены, вы хотите сказать?
И вдруг застряли пальцы на третьей пуговице пальто, и глаза стали жалкие:
– Я его за ручку водил!.. Я ему «Спи, младенец» пел!.. И вот какой получился оборот!.. Не женитесь, Павел Кузьмич!..
Павел Кузьмич даже вздернулся весь:
– Жениться на пятьдесят рублей в месяц!
– И сто будете получать, – все равно!.. Каторга!.. Отживший институт!.. Ну, прощайте!
Учитель простился с ним весело… Он два раза пожал ему руку и пожелал счастливой дороги. Он даже и до калитки, опять не надевши галош, пошел его провожать, и когда заметил, что совсем не в сторону вокзала пошел Иртышов от калитки, он крикнул ему:
– Куда же вы!.. Какой же там вокзал?..
И тут же вернулся Иртышов и забормотал:
– Вот спасибо вам!.. А то бы я зашел!.. Темно, из светлой комнаты выйдя!.. Еще раз прощайте!..
Направив путника с саквояжем на правильный путь и честно постояв еще с полминуты, Павел Кузьмич вернулся, тщательно засунув засов калитки, а Иртышов, пройдя шагов двадцать, перешел на другую сторону улицы и повернул опять туда же, как и раньше.
Фонари были скупые на свет, мга по-прежнему сеялась, скользкие были тротуары, – очень легко было потерять направление.
Глава восьмая
Еля
Идет девочка, – почти девушка, – в третьем часу дня из гимназии и равномерно покачивает тремя тонкими книжками, связанными новеньким желтым ремешком.
На ней шапочка с белым форменным значком, осенняя кофточка сидит ловко, но походка вялая, усталая: шесть часов просидеть в гимназии и ничего не есть… и вызывал физик… Она только что простилась со своей подругой, белокурой немочкой Эльзой Цирцен, и ей надо пройти небольшой скверик – всего в три аллеи, а потом еще два квартала до тихой улицы Гоголя.
Уже отошел давно листопад, и вымели, и вывезли на тачке кучи желтых листьев; потом лежал даже первозимний снег и растаял; но над головой в скверике все-таки позванивают и шуршат листья: это дубы; они упрямы, как могут быть упрямы только дубы, и не отпускают никуда своих листьев, а тем уже надоело торчать на корявых ветках, и высохли, как мумии, и холодно, и они ворчат… Кое-где на барбарисе по бордюру уцелели кисточки красненьких, но очень кислых, – невозможно взять в рот, особенно натощак, – ягод, и около них хлопочут хорошенькие, маленькие, в голубых платочках птички-лозиновки…
Аллейные дорожки очень плотно убиты десятками тысяч ног, и звонки под ногами, как камень, зеленые скамейки все в надписях и пронзенных стрелками сердцах… А в конце аллеи на одной из таких скамеек сидит драгун в своей желтой фуражке и чертит наконечником шашки дорожку. Он сидит как на тычке, и голова его в ту сторону, куда идет и она… Обыкновенно на этих скамейках, в этом скверике не сидят драгуны, и вообще они избегают одиночества и задумчивых поз… Должно быть, он ждет кого-нибудь, – товарища или даму?.. Подходя к нему, девочка (почти девушка) выпрямляет стан, откидывает голову, подбористей и отчетливей чеканит шаги, как на параде…
Но только поравнялась с его скамейкой, драгун обернулся, мигом убрал свою медью блеснувшую шашку с дорожки и встал, и она увидела того самого корнета, который провожал ее тогда из театра, тогда ночью, когда брат Володя ударил ее по щеке.
И, приложив тщательно, как его учили в школе, руку к козырьку и держа на темляке другую руку, он улыбался ей, девочке, очень застенчиво, почти робко… И с полушагу она остановилась, и карие глаза под высокими дужками бровей, и небольшой, чуть вздернутый, совсем еще детский носик ее с невнятными линиями ноздрей, и несколько широкий, тоже неясно очерченный, но явно чувственный рот, и пряди темных волос на лбу из-под шапочки с белым значком – все притаилось в ней.
– А-а! – протянула она тихо. – А вы сказали тогда, что не нашего полка!..
– Я?.. Да… (Не опустил руку, – все держал ее у козырька.) – Я тогда хотел перевестись в Киев, – потом остался.
– Скажите еще, что ради меня! – вздернула она носиком и повела плечом и головою.
– Ради вас, именно! – быстро ответил он и только тут опустил руку; и этой опущенной рукой указал на скамью, с которой встал, и прибавил робко, просительно: – Отдохните!
Она поглядела назад совершенно незаметно, на один только миг оторвав глаза от его сконфуженного лица, потом, вздернув плечом, глянула вперед и кругом, – никого своего не увидела, – нахмурилась, переложила из правой руки в левую книжки и медленно села, подобрав сзади кпереди платье – коричневое, форменное, короткое, – сказавши при этом:
– Не понимаю, чего вам от меня нужно!
Но когда он сел рядом, брякнув оружием, и вывернулся ушитый бронзированными пуговицами раструб его шинели рядом с ее коричневой юбкой, она сказала сосредоточенно:
– Вы – трус!.. Вы – последний трус!.. Вы тогда должны были меня защитить, и бежали!
И вдруг очень крупные слезы застлали ее глаза, и нижняя губа задрожала по-детски.
– Простите, – я вас тогда принял… за кого-то другого… – забормотал корнет, сплошь краснея.
Он был совсем еще молоденький, этот воин, – едва ли даже и двадцати лет, – круглое лицо еще в пуху, серые глаза еще стыдливы.
– Ах, вот как! – вскинулась Еля. – Вы меня, значит, за ко-кот-ку приняли!.. Однако я… еще не кокотка пока!.. И это не… как это называется?.. Не сутенер меня ударил, а мой старший брат… да!.. Отчего вы не выскочили тогда из экипажа, а?.. Вы бы сказали ему тогда: «Милостивый государь! Позвольте-с!.. Вы – на каком основании это?» (Она вздернула голову и брови и вытянулась на скамейке вся кверху.) А вы повернули извозчика на-зад!.. Эх, вы-ы!.. И хотите, чтобы я тут с вами сидела еще!.. – Она вскочила.
– Простите! – сказал тихо корнет, тоже вставая.
Глядел он прямо в ее темные глаза (теперь ставшие розовыми от возмущения) своими светлыми (теперь ставшими совсем ребячьими) и держал руки «смирно».
– Маль-чиш-ка! – протянула она с большим презрением. – Еще ухаживать суется!.. Провожать из театра!.. Офи-цер тоже!.. Драгун!..
Она глядела на него со слезами на глазах, но совершенно уничтожающе; он молчал.
– А хоть бы даже я и кокотка была, – что же вы женщину и защитить не хотели?.. Пусть ее бьют на ваших глазах, да?.. Пусть бьют?
И вдруг:
– Когда нас знакомили тогда в театре, вам ведь сказали, что я – гимназистка?.. Вы не поверили?.. Ага!.. А теперь здесь зачем?
– Ждал вас, – сказал он очень застенчиво.
И был такой у него почтительно убитый вид, что она усмехнулась:
– До-ждал-ся!
И, оглянувшись быстро кругом, села на скамейку снова, приказав ему:
– А вы извольте стоять!
Он звякнул на месте шпорами.
– Впрочем, – передумала она, – тянуться мне на вас смотреть!.. Садитесь уж…
Он сел рядом.
– Вы помните физику? – спросила она учительским тоном. – Или уже забыли?
Он только еще хотел что-то ответить, сначала шевельнув пухлыми губами, но она уж перебила усмехаясь:
– Вы пишете стихи?.. Признавайтесь!
– Нет… Не пишу стихов.
– Ну, врите больше… Конечно, при вас и теперь тетрадочка!.. А физику помните?
– Кое-что помню, – уже улыбнулся он, обнажая сразу все белые зубы…
– Помните – «сообщающиеся сосуды»?.. Физик меня сегодня вызвал… «Начертите, говорит, на доске!» – Я, конечно, две черты так, – вертикально, – один сосуд, еще две черты – другой сосуд… Ну-с, и сообщение… – она махнула перед собой рукою. – Подходит физик к доске… А у него глаза кислые-кислые: такие… (она сощурила глаза) и рот на бок (она скривила рот). «Ага, говорит, теперь, наконец-то, я понимаю, почему говорят: „чтоб тебе ни дна, ни покрышки!..“ Это вот ваши сосуды и есть!..» Я, конечно, говорю: «Если вы смеетесь, то я, говорю, продолжать ответа не буду!» – «Как же, говорит, в таких сосудах может держаться жидкость, если в них дна нет?» – «Может быть, это и печально, говорю, только совсем не смешно!..» Как все – захохочут!..
– Двойку поставил? – осведомился драгун.
– Ну да, – еще чего, – двой-ку!.. У меня двоек не бывает…
И тут же внезапно:
– Ради меня остался!.. Скажите!.. Так я и поверила!.. Напрасно приняли меня за такую дуру!..
И вдруг, еще внезапнее:
– Меня так тогда мучили целый день!.. И брат, и мама!.. И чтоб я это когда-нибудь простила вам?.. Никогда не прощу!
Но тут же очень пристально пригляделась она к этим губам его, мягким на вид и теплым, которые целовали ее тогда, ночью, в тени поднятого, густо смазанного экипажного кожаного верха, к этим губам, целовавшим ее безудержно, взасос, до боли, и появилась к ним, к неправильно очерченным, еще мальчишечьим губам большая почему-то нежность: может быть, ее первую целовали так эти губы?.. Потом будут целовать, конечно, многих еще, но ее все-таки первую!.. Потом будут целовать многих еще, но только ее так…
На лбу, обветренном, выпуклом лбу, лихо державшем фуражку, кожа у него шелушилась около редких бровей, над переносьем… Левая рука его, ближайшая к ней, была широкая в запястье, и, глядя на эту руку, она добавила:
– Вы, конечно, сильнее Володьки, моего брата, а вы… бежали постыдно!
И тут же:
– Вы зачем хотели переводиться в Киев?
– Мои родные там: мать и сестры.
– Ах, у вас есть сестры!.. Много?
– Две.
– Значит, вы и переведетесь!.. Раз две сестры, значит, переведетесь, конечно!
– Почему же? – в первый раз улыбнулся он длинно: – Разве с сестрами так уж весело?
– Еще бы!.. Вы их будете водить в театры… и привозить домой на извозчиках…
И тут же:
– У вас, говорят, очень строгий командир полка?
– Полковник Ревашов?.. Не-ет!.. Он любит, конечно, покричать, но… нет, он не из строгих…
– Рас-сказы-вайте!.. А сколько раз сидели на гауптвахте?
– Что вы! Что вы!.. Офицера посадить на гауптвахту?.. Это очень редко бывает!
– Какой же вы офицер?.. Вы – юнкер!
– Был юнкер, – теперь корнет… Не оскорбляйте…
– Ишь тоже!.. «Не оскорбляйте»!.. Буду оскорблять!.. Нарочно буду!..
И вдруг:
– Сейчас же извольте проводить домой, а то я есть хочу!
– Хорошо. Пойдемте.
Встал и левой рукой поправил гремучую шашку.
– Са-ди-тесь уж!.. Как вы оттуда поедете? Там ведь у нас нет извозчиков… А Володька – он ходит около дома и ждет… Садитесь, что ж вы торчите?.. Я в этом скверике люблю сидеть. Мы с братьями младшими, когда маленькие были, здесь в серсо играли и на деревья лазили… Особенно я вот на тот дуб любила лазить… Раз чуть не упала: зацепилась платьем и висела вниз головой… а красильщик какой-то с кистями шел мимо и снял… Так я тогда испугалась!.. Даже и теперь еще чуть где свежей краской пахнет, я соображаю: иду я, сижу я или вишу вниз головой?.. Мне тогда лет восемь было… Нас всего четверо, и до того мы бедокурили, что папа так нас и звал: уксус от четырех разбойников… Есть такое лекарство от зубов… Не верите?.. Что же вы смеетесь?.. Нарочно зайдите в аптеку, притворитесь, что у вас зубы болят, и спросите: «Дайте, пожалуйста, уксуса от четырех разбойников на гривенник!..» И вам дадут… Не верите?.. Попробуйте!..
Корнету нравилась болтовня девочки, – почти девушки, – корнету нравилось солнце, хоть и зимнее, но яркое, и рыжие, теплые на вид дубы, точно корявые мужики в овчинных тулупах… Он достал портсигар, серебряный, с золотой монограммой, и, дотронувшись до козырька, улыбаясь, спросил вежливо:
– Вы разрешите?
– На свежем воздухе разрешения курить не просят!.. Обратитесь к вашему полковнику, чтоб он вас научил хорошему тону… Кстати, он, кажется, холостяк, ваш командир?
– Он вдовец… А вдруг дым вам неприятен?
– Отвернитесь, и все… Вдовец?.. Послушайте, – он не может ли… Вот хорошо, что я вспомнила!.. Ведь он все-таки знаком с губернатором… Я думаю, он это может…
– Что может?
– У меня есть брат, и он сидит!.. Мальчишка еще, – и уж сидит… Вы понимаете? Здесь, в тюрьме… Политический!.. Ну, какой он там политический?.. Он просто Колька!.. А его из шестого класса выгнали за политику… Если бы не мама, его бы, впрочем, не взяли… А то – обыск, какие-то брошюрки… Одним словом, его хотят выслать в Якутку… знаете? Где на собаках ездят…
И неожиданно для нее самой вдруг на глаза ее вновь навернулись слезы. И смотрела она этими большими от скопившихся слез глазами уже умоляюще, отчего корнет вновь пристыженно покраснел, и то, что он сказал в ответ, было совершенно бессвязно:
– Я, право, не знаю… Может ли наш командир!.. В отношении политиков, – там ведомство особое… И с этим, говорят, очень строго…
– А вы почем знаете?.. Это вам так кажется, а ему, может быть, очень просто даже… Может, они товарищи с губернатором…
– Как же мне обратиться к нему с этим? – Корнет даже курить перестал и наморщил редкие брови. – Нет, я никак не могу этого…
– Ага!.. Не можете?.. А ждать меня здесь могли?.. Как ваша фамилия, кстати?..
– Жданов… Корнет Жданов…
– Жда-нов? Оч-чень мило придумано!.. Это вы сочинили, когда меня ждали?.. Ну, хорошо, все равно. Я вас и не прошу ведь за Колю просить: я сама просить буду…
– Это, конечно, другое дело… Вы знаете, о чем просить, и все… А я, – посудите сами: служу, ношу мундир, и вдруг… Да от меня даже и просьбы такой не примут!.. Вы, конечно, другое совсем дело…
– Так вот что, корнет Жданов… или как вас там…
– Не верите?.. Вот читайте!
Он повернул к ней портсигар той стороной, по которой шла золотая новенькая ликующая фигурной прописью надпись в два слова: корнет Жданов.
– Хорошо, а почем же я знаю? Может быть, вы нашли это, или в карты выиграли, или купили? – не сдавалась она. – Ну, все равно… Я сама пойду к вашему командиру, только вы скажите мне, когда он бывает дома и когда он не злой…
Узнавши от Жданова, что Ревашов бывает и дома и не злой часов в семь вечера, за чаем, Еля встала и сказала важно:
– Если хотите еще раз меня увидеть, то подождите как-нибудь здесь, когда я буду идти из гимназии. Только лучше всего не на этой аллее, а на той…
Он благодарно взял под козырек, и она пошла, кивнув ему головкой, полной новых и очень значительных надежд.
Полковник Ревашов жил на холостую ногу, но в большой дорогой квартире и при трех денщиках: поваре Зайце, кучере Мукало и вестовом Вырвикишке. Несмотря на свою великорусскую фамилию, полковнику нравилось почему-то называть себя малороссом и говорить о себе: «мы, хохлы»…
Он был еще и не так стар – лет пятидесяти двух, не больше, и имел еще бравый вид. Пышные, в два кольца, усы, красил в рыжие, а на голове нечего уж было красить: что оставалось еще волос между теменем и малиновой шеей, аккуратно через три дня на четвертый брил Вырвикишка и гладкий сияющий шар головы обтирал одеколоном, а тяжелые щеки и двойной подбородок свой брил ежедневно сам полковник…
На другой день после того, как в скверике говорили о нем Еля и корнет Жданов, в половине седьмого вечером он сидел в обширной столовой, отоспавший уже послеобеденный сон и потому не злой, за чайным стаканом в увесистом серебряном подстаканнике. И все было серебряное на столе: самовар, чайник, сахарница, сухарница… и Вырвикишка, ловкий молодой солдат, двигался около бесшумно почти в своих туфлях, устанавливая стол маслом, имеющим вид розетки, сыром четырех сортов, сардинами, ромом.
К этому часу почтальон приносил газеты, а сегодня принес еще и новый номер «Разведчика», и именно этот журнал разрезал и просматривал читавший еще без очков полковник, когда кто-то робко позвонил снаружи.
– Адъютант?.. А?.. Кто?.. Поставь еще прибор!
Вырвикишка не торопился открывать дверь, – так было заведено еще покойной полковницей, и вестовые переменялись, а порядок не нарушался.
Когда Вырвикишка пошел, наконец, к парадной двери и вернулся, он доложил не без некоторой игривости:
– Ваше высокоблагородие, – барышня!
На что отозвался полковник:
– Врешь, никогда я не был барышней.
Но застегнул все-таки пуговицы тужурки… Сказал было мирно:
– Проси сюда! – но тут же повысил голос: – Впрочем, зачем же, собственно, сюда? Спроси ее, болван ты, какого ей черта надо?.. И кто такая?
– Слушаю.
– И скажи, что я занят!..
Это уже вдогонку, и зачем-то стал переставлять на столе сыры и сардины.
Вернувшийся Вырвикишка доложил зычно:
– Гимназистка… так что по личной просьбе!
– Гимна… зистка?.. Гм… Что ж она со мной… репетировать уроки?.. Проси сюда…
Странная мысль о том, что гимназистка эта пришла покушаться на его жизнь, вспыхнула в голове полковника совершенно внезапно, когда он увидел девочку (почти девушку) в шапочке и с муфтою в руках, осторожно и деревянно ступавшую и глядевшую пристально на него из-за спины Вырвикишки… Не револьвер ли у нее в муфте? Вынет, и бац!.. Так было с генералом Жолтановским…
И полковник Ревашов на момент застыл на месте, а в следующий момент сделал то, что совершенно озадачило Елю: в два-три шага подскочил к ней и вырвал у ней из рук муфту.
В муфте не было револьвера, в муфте ничего не было, так как носовой платок остался в руках Ели, и полковник, бросив муфту на кресло, забормотал преувеличенно строго:
– В муфте!.. С муфтой в столовую входить!.. Это… это кто вас приличиям учил?.. Не могли в передней оставить?.. Раздеться немедленно!.. Вырвикишка!.. Сними кофточку с барышни!.. А то… возись с вами: разогреется, выйдет на холод, схватит какой-нибудь коклюш или дубльфлюс, – а я виноват буду!..
Когда совершенно оробевшая Еля сняла кофточку и даже шапочку, полковник скомандовал ей:
– К столу!
Но тут же спохватился:
– А может быть, разговор будет недлинный, а?
– Длинный, – прошептала Еля.
– Что-о?.. Недлинный?
– Длинный.
– Садитесь.
И указал ей стул перед прибором, поставленным Вырвикишкой.
– Для большей ясности, – с первого слова: чья такая?
Еля сказала. Полковник не был лично знаком с Худолеем, но слышал о нем.
– Но ведь у вас же там есть свой командир полка?
– Свой?.. Да, у папы, – прошептала Еля, вся еще потрясенная рокотом и рыком большого лысого полковника.
– У папы, у папы… Конечно, не у вас лично… Гм… Завилась… галстук надела… – разглядывал ее выпуклыми глазами полковник. – Значит, дело серьезное?
Еля действительно старательно одевалась и завивалась перед тем, как прийти и позвонить с замиранием сердца в полковничий звонок. Это у подруги своей, Эльзы Цирцен, просидела она с час перед зеркалом… дома сказала, что идет к ней готовить уроки, а Эльзе сказала, что идет в театр. То, что этот строгий человек, с такими ярко-рыжими усами, заметил ее старания перед зеркалом у Эльзы, не сконфузило ее: это придало ей, напротив, больше прочности, и, невесомо перед тем сидевшая, она теперь плотнее прижалась к стулу и ответила ему:
– Очень серьезное.
– Так-с!.. Ну, выпейте сначала чаю… Налейте сами, – умеете?.. Стаканов не бьете?.. Рукавчиками их не опрокидываете?.. Говорите сразу, а то я сам налью.
Еля чуть улыбнулась, но держалась на стуле прямо и чаю не наливала.
– Наливайте же! – прикрикнул полковник.
Еля вздернула плечом, поднялась, налила себе чаю.
– А рому?.. Ром пьете?
– Бро-ом?.. Не-ет…
Подняв брови, полковник соображал, ослышалась она или намеренно шутит, но слишком уж робко было юное личико, и Ревашов раскатисто захохотал, вставляя среди хохота:
– Учат вас там!.. В гимназии!.. Бро-о-ом!..
– А-ах!.. Вы сказали: ром! – догадалась сконфуженно Еля, однако не покраснела, только улыбнулась, опустив глаза, и начала усиленно мешать ложечкой в своем стакане.
– Гм… – отхохотавши, стал наблюдать ее Ревашов. – А сахар клали?.. Чем больше мешают пустой чай, тем он, конечно, слаще становится!..
Сконфуженная уже по-настоящему и прикусившая от неловкости нижнюю губу, Еля вдруг поднялась со стула и сказала довольно громко:
– Я пришла… просить вас за брата!
– А-а!.. Он кто же?.. Мой драгун?
– Нет… он… Он – политический… Сидит в тюрьме…
– Те-те-ре-те-те! Политический?..
– Не политический, так… ерунда…
Еля окончательно смешалась, и у ней захватило дыхание, а полковник откачнулся на спинку кресла. Выходило, что он был почти прав, представив барышню эту с револьвером в муфте: не у нее, так у брата ее – револьвер!
– Я такими вещами не занимаюсь, – сказал он строго. – Ваш брат политический, а я должен его освобождать, чтобы он меня же потом ухлопал?.. Дудки!.. Попался, и пусть сидит!..
– Он – Ко-олька!.. Ка-кой же он по-ли-тический! – протянула она, искренне изумленная, что такой важный по виду человек как будто боится Кольки. – Он же совсем мальчишка еще, – на год старше меня!..
– Однако… за что-то попал же в тюрьму?.. Не за то же, что по латыни кол!..
– Брошюрки нашли… и все… И, представьте, в Я-кут-ку!.. Они хотят его выслать в Я-кут-ку… Где на собаках… на собаках.
Задрожал голос, задрожала нижняя губа, и слезы блеснули…
– Э-э… на собаках!..
Полковник отвернулся, поднял повыше голову, провел рукою по шее.
– «Они хотят»… Кто это «они»?..
– Они… Губернатор… Административно…
– Вот и… возись теперь с вами!.. «Брошюрки»!.. Раз они запрещенные, ну и на черта их беречь?.. Запрещенные, – значит, в печку!..
Побарабанил по столу, стал накладывать себе сардинку на хлеб.
– Ничего я тут не могу!.. Сообразите вы с вашим братцем, что я могу?.. Губернатор ведь высылает, не я?.. Значит, к губернатору и надо… По-нят-но?
– Он отказал… Папа был у губернатора…
– Ну вот… Папе отказал, а мне не откажет?.. И мне откажет.
– Вы – командир полка!.. Как же он вам откажет?..
Так горячо это было сказано Елей, что Ревашов поглядел на нее пучеглазо и опять захохотал, хотя и не так громко, как прежде. Хохот ободрил Елю. Слова говорили одно, а раскатистый хохот – другое, и верилось именно в него, а не в слова.
Большой перстень на волосатом пальце полковника, перстень со сверкающим сине камнем, подсказал ей то же, что и все здесь, – и старинное серебро на столе, и вся щедро освещенная комната, – огромный резной ореховый буфет, тяжелые кресла, – именно, что полковник может освободить Колю и освободит: скажет только губернатору: «Охота вам мальчишку мучить!..»
– Охота вам, скажете, мальчишку мучить! – обратилась она к полковнику вслух с тем именно выражением, с каким думала про себя.
– Это кому я должен сказать? – поднял Ревашов брови.
– Губернатору! – не смутилась она. – Мальчишку!.. За то, что книжонки нашли!.. Сладили!
– Это чтоб я все ему говорил?.. Ни за что не скажу так!..
Полковник заулыбался уж, как бы готовясь похохотать снова, но вдруг спросил:
– И носик у него такой же?
– У кого?
– У Кольки?
– Такой же, – бормотнула она, сбитая с толку.
– Гм… Как же с таким носиком в Якутку?.. На таком и комар якутский не усядется, чтобы укусить!.. Ну, что я еще должен сказать губернатору? Говорите уж… Значит, – Худолей Николай… Он тоже гимназистом был?
– Гимназистом…
– Шутка ли с таким поручением ехать?.. В субботу у губернатора винт… Гм… До субботы еще два дня… Успею? Не экстренно?.. Не в двадцать четыре часа?
– Не знаю…
– Кто же знает? Я, что ли?.. Надо узнать… Конечно, предлог у меня есть… Не моего полка врач, но-о… Но я считаюсь начальником гарнизона… Сын врача моего гарнизона… Ну, пейте же чай свой… В субботу я у него винчу и… ввинчу… насчет Кольки… Он стрелять еще ни в кого не стрелял?.. Бомбами не занимался?
– Не-ет!.. Он же мальчишка!..
Еля сияла. Ей казалось теперь, что уже кончено: не сошлют Колю в Якутку, где на собаках… Ей захотелось как-нибудь поблагодарить полковника… И, глядя поверх его глаз на сияющий шар его головы, она вскочила быстро и сказала, счастливо запинаясь:
– Я вам так… так признательна!.. И все мы!..
– Погодите еще: «призна-тельна»!.. Вы думаете, с этим народом так просто? «Все мы»… Сколько же всех вас?
– У меня два брата еще, – старший и младший… Мама…
– А мама где хлопочет?
– Мама?.. Она не хлопочет…
И тут же поправилась:
– Она больна… И так на нее это действует скверно!
– Еще бы… гм… Я думаю!..
Полковник посмотрел на стенные часы, тоже старинные, в виде длинного ящика, и посмотрела Еля. Было уж семь без трех минут.
– До свиданья! – присела по-гимназически Еля.
Полковник подал ей руку и, задержав несколько ее пальцы в своей мягкой ладони, спросил вдруг оживленно:
– Это какая, какая у вас там, – говорили мне, но без фамилии, меч-та-ет стать ко-кот-кой?
– Это… не я! – вся похолодела Еля.
– Еще бы вы!.. Конечно, не вы!.. С таким носиком… А кто же?
– Не знаю, – прошептала Еля.
– Гм… Ко-кот-кой!.. Хороша!.. Так и бухнула в классе!.. Хо-хо-хо!.. Ко-кот-кой!..
И держал ее руку. Потом вдруг бросил:
– Ну, одевайтесь!.. Остыли.
И сам помог ей надеть кофточку, подал муфту.
– Вырвикишка! (Он выговаривал: «Вырвыкышка».) Проводи барышню!
И пока явился Вырвикишка, успел ей сказать еще:
– Так, значит, в воскресенье… в это же время, не раньше…
– Хорошо… До свиданья! – чуть слышно отозвалась Еля.
Но когда она сошла с крыльца на тротуар, то не шла, а быстро летела, едва касаясь асфальта высокими каблучками ботинок.
Даже и не у девочек (почти девушек) бывает иногда такая необыкновенная легкость, невесомость тела во время какой-нибудь удачи (положительно, сила притяжения земного весьма изменчивая сила!), но девочки в пятнадцать-шестнадцать лет, – иногда их точно отталкивает сама земля… и бывает задумчивость на лицах у тех, кто прожил уже долгую жизнь и глядит им вслед, невесомо идущим, почти летящим…
Оставшись один в своей большой столовой, полковник Ревашов раза четыре прошелся по ней, гулко звеня шпорами, потом вдруг крикнул:
– Вырвикишка!.. Отвори форточку!.. Надушатся, как… как… черт знает что!.. Терпеть не могу!
И все ходил и звякал шпорами, пока возился с тугою набухшей форточкой денщик. Потом, когда он вышел, прошелся около стула, на котором сидела Еля, увидел на полу около него что-то матово-блеснувшее, нагнулся, поднял, – это была тонкая шпилька, выпавшая из ее волос.
Он повертел ее в пальцах, согнул, опять бережно выпрямил, подошел к форточке, чтобы выкинуть ее на улицу, и, повернув опять к столу, раскрыл толстую книжечку – стрелковый устав – и бережно уложил в середину этого устава… Даже страницы зачем-то заметил: 86–87.
Глава девятая
Облако счастья
В воскресенье с утра в волнении большом была Еля и часто смотрела в зеркало.
Так как Вася чертил на завтра карту Северной Америки и сепией разрисовывал Кордильеры, то мелькнула было старая мысль навести себе интересные веснушки, но вовремя вспомнила, что до весны еще далеко. Зато усиленно занималась прической и меняла ее раз шесть; и когда Вася, окончив карту, вздумал было налететь бурей на сестру и ее взъерошить, так закричала на него, так, вскочивши на стул, решительно замахала перед собой тяжелой линейкой, что Вася бросил ее и ушел на улицу играть на тротуаре в «классы». Теперь как раз был сезон «классов», и везде были хитро расчерчены то мелом, то углем тротуары, и мальчишки шумно прыгали на одной ножке и загоняли в «классы» плоские черепки.
За обедом Еля сидела в «греческой» прическе, которая делала ее на целый год старше на вид. Да, в этой прическе, как на старых греческих вазах и камеях, она казалась семнадцатилетней, и за обедом именно семнадцатилетней (на год с лишком старше!) она и воображала себя. Она будто репетировала роль: сегодня вечером ей надо было казаться семнадцатилетней… Почему?.. Если бы ей задали этот вопрос, она бы ответила на него по-детски: «Так!» – и это было бы вполне искренне.
И за обедом она держалась несколько чинно и снисходительно и делала молчаливо-большие глаза, когда Вася клал локти на стол, ел с ножа и кривлялся… И к Маркизу она приглядывалась не как к брату, которого видела каждый день, а как совсем чужая и, главное, семнадцатилетняя. И находила, что он интересен, конечно, но очень манерен. И думала про себя эти слова так: «Ин-те-ре-сен, да, но ма-не-рен ужа-асно!..» и говорила то, что говорила, врастяжку и даже почему-то немного в нос… Ела мало.
– Ты чего же это не ешь? – спросила мать.
– Не хо-чет-ся мне…
– Почему это не хочется, скажи, пожалуйста?..
– Ах, ма-ма!.. Ну вот не хо-чет-ся, и все!..
И поводила при этом шеей и пожимала плечом, как поводят и пожимают девицы только в семнадцать лет.
И ей хотелось, чтобы Володя это заметил, но тот прогулял все время до обеда по трем главным улицам и такой нагулял себе аппетит, что не обращал внимания ни на новую прическу ее, ни на новый тон, и только Вася, передернув носом, прошипел так же врастяжку:
– За-да-ется на ма-ка-роны!
– Ах, каким милым словечкам научился у денщика! – обиделась и заговорила совсем по-вчерашнему (на год моложе) Еля.
И еще перекинулись двумя-тремя ясно говорящими взглядами, и Вася погрозил ей из-за тарелки прочно сложенным кулаком, а она ему ложкой.
Вася покосился на эту ложку и сказал вполголоса:
– А я тебя грызану! – и нарочно щелкнул клыковатыми зубами.
Но он был очень похож на Колю, которого она спасала от Якутки; глядя на Васю теперь, Еля вспоминала того, который томится и ждет, и, улыбнувшись слегка и снисходительно на слово «грызану» и на клыковатые зубы, снова становилась семнадцатилетней.
От обеда и до семи часов очень трудно было убить время. Еще надолго занялась прической, вплетая в волосы лиловую ленту, соображая и представляя, как она будет казаться при электричестве. Но маленький серый котенок, которого звала она Фаустом, играя на ее плече, вытянул лапкой ленту, и она подумала, что это что-то значит, и заменила лиловую темно-алой.
Приехал отец, никогда почти не попадавший к обеду, и ей захотелось показаться отцу. Она вошла в столовую и стала к нему боком (так яснее должна была броситься ему в глаза ее греческая прическа) около окна и этажерки. Перебирала на этажерке, на своей полке, учебники, кстати вспоминая, что надо было готовить на завтра (вспомнила по привычке, совсем почему-то не думая завтра идти в класс).
– А в городе два случая оспы… Натуральной! – сказал отец матери.
– Во-от!.. Гоняют целый день по улицам, еще подцепят! – отозвалась мать и на нее оглянулась.
– Оспа у нас привита… и я ведь не гоняю, а сижу дома! – пожала она семнадцатилетним плечом.
– А уж куда-то собралась!.. Смотри, догоняешься!..
Еля глядела на мать из своей новой (семнадцатилетней) дали, точно и не на мать… Какой неуемный у нее, вдавленный, сжатый с боков лоб!.. Какие щеки – два вздутых ромба!.. Какие маленькие, какие тусклые глаза!.. И как хорошо это, как счастливо, что она, Еля, вышла не в нее, а в отца! И вот Коля не в нее, и как же вскинется она сейчас, если сказать про Колю!
– Колю, может быть, выпустят под надзор полиции, – сказала она небрежно.
– Кольку?
Совершенно безразлично или в недоумении, – это мать.
– Как выпустят?.. Откуда ты это? – перестал есть суп отец. – Губернатор мне наотрез отказал, даже говорить не хотел…
– Могут все-таки выпустить… О нем кто-то хлопочет…
– Это как «под надзором полиции»?.. Пускай кто хлопочет, тот ему и место ищет!
И, вскинув голову, низкорослая, жирноволосая, широкоплечая, в стоптанных туфлях, в серой юбке, висящей косо, мать пошла из комнаты, гремя пустой тарелкой, поставленной на кастрюлю.
– Кто хлопочет за Колю? – спросил отец, когда ушла мать.
– Я, – тихо ответила Еля.
– Ты?.. Каким образом?.. У кого же?.. У губернатора?
– У губернатора.
– Как?.. Лично?
– Не лич-но, – семнадцатилетне протянула Еля, – а через другое лицо… Авто-ри-тет-ное…
– Это ты… по своему почину?
– По своему собственному…
– Ты – хорошая девочка, Еля!.. Дай я тебя поцелую за это!..
Он быстро вытер салфеткой короткие усы, а она подошла к нему и протянула губы, сложенные сердечком, так что, когда снова вошла в комнату мать с компотом из сушки, она уже отошла к этажерке и потом, не желая стирать с губ ответом матери отцовского поцелуя, ушла в свою комнату.
А в своей комнате опять нечего было делать, и от скуки она прочитала все, что было задано на завтра, кроме геометрии, которой вообще она никогда не читала, считая ее недоразумением сплошным и явным.
Так как выйти из дому в седьмом часу, когда было уже совсем темно, показалось бы всем очень подозрительным, то вышла она в пять и сказала, что идет к подруге Эльш готовить уроки и часа через два придет.
Она действительно зашла теперь не к Цирцен, а к Эльш, и у нее долго сидела перед зеркалом, освещенная лампой. Темно-алая лента шла ей, – так сказала и Эльш, – а лиловая, которую все-таки захватила с собою Еля, имела совсем линючий вид.
– Вот какое у меня чутье! – похвасталась она подруге.
Между прочим, чтобы показать ей, что она уже приготовила все на завтра. Еля рассказала ей про Верцингеторикса, обманывавшего своих врагов будто бы тем, что подковывал коня наоборот.
– Как же это наоборот? – спросила Эльш.
– Во-от еще «ка-ак»!.. Что я, драгун, что ли, что должна это знать?.. Это уж кузнец Верцингеторикса понимал, как надо ковать наоборот! – ответила Еля снисходительно.
В высокие двери парадного хода квартиры Ревашова она уперлась плечом и с минуту стояла так, не решаясь звонить; и только когда вспомнила отцовское: «Ты – хорошая девочка, Еля!..» и губы отца, вытертые заботливо салфеткой, – нажала кнопку.
Потом… шарканье туфель Вырвикишки, бряканье ключа, и отворилась дверь, и денщик почтительно сказал:
– Пожалуйте!
Она только что хотела спросить робко и тихо, как девочка, дома ли полковник, но услышала, точно денщик услыхал ее мысли:
– Ждут…
И, раздевшись в передней, в знакомую уже столовую Ревашова вошла походкой размеренной, уверенной, семнадцатилетней.
Полковник действительно ждал, и ждали на столе самовар и что-то много закусок, и по тому, как он поднялся с места, отложив в сторону свернутую вчетверо газету, как протянул, улыбаясь: «А-а-а!.. Здравствуйте!..» – Еля поняла, что Колино дело она направила по верной дороге и что она, такая, как была тогда, два дня назад, почти шестнадцатилетняя, понравилась полковнику, а теперь у нее греческая прическа и темно-алая лента в волосах… И она уже не сделала реверанса, когда здоровалась с Ревашовым, а только по-взрослому наклонила голову и подала руку ладонью книзу, а он жал ее если и не крепко, то гораздо дольше, чем нужно было едва знакомому, да еще и командиру полка. (Это отметила Еля не сознанием даже, а просто проявившимся в ней с сегодняшнего только утра семнадцатилетним чутьем.)
– Ну-с, так вот-с… Садитесь сюда… И чаю вам с бромом? – спросил полковник, усмехнувшись носом и углами тяжелых век.
Еля заметила, что он был теперь как будто франтоватее, чем в прошлый раз, хотя тужурка на нем была та же. Может быть, он просто лучше выспался теперь, недавно побрился, вытерся одеколоном… На правой руке его не один уже, а три было перстня и все с крупными камнями.
– С бромом… только без рому, – ответила она не тихо и не робко и остановила даже, докоснувшись безымянным пальцем, его руку, взявшуюся было за бутылку.
– Те-те-ре-те-те!.. Жалость и огорчение!.. С бромом, но без рому!.. Плохая нынче девица пошла!.. Ну, берите хоть шоколад…
Он сел на свое место и начал безотрывно глядеть на нее с напускной строгостью и шевелить медленно толстыми губами. Почти безволосые брови он надвинул для большей строгости на самые глаза так, что из-под них стеклянно блистали только две белых точки.
Но Еля не испугалась и не поверила даже, когда он сказал:
– Что же касается Кольки, швах дело!.. Послана бумага министру внутренних дел, чтобы разрешил он столь важного преступника выслать…
Еля только улыбнулась в ответ недоверчиво и покачала головой влево-вправо.
– Во-от тебе на-а!.. Не верит! – выкрикнул полковник.
Но Еля вдруг радостно хлопнула в ладоши:
– Его отпустят?.. Да?.. Отпустят!.. Я по глазам вашим вижу, что отпустят!..
И, вскочивши с места, она кинулась к Ревашову, и, как совсем еще маленькая девочка-восьмилетка, ткнулась губами в один из перстней его правой руки.
– Ну что вы, что вы, дитя!.. – и он тронуто коснулся щекой ее греческой прически с алой лентой.
– Правда?.. Ведь правда?.. – смотрела она на него утопляюще радостно и улыбалась лукаво не одним только большим несколько ртом, а сразу всем телом и всеми складками платья, а он проводил щекою вверх и вниз по ее прическе и потерянно приговаривал:
– Ну, уж и правда!.. Так вот и правда!.. Так вот и отпустили!..
Потом откачнулся, кашлянул басом и тем особо свирепым голосом, каким говорят взрослые с детьми, когда хотят их напугать в шутку, заговорил:
– Вот что-с… Извольте слушать ушами!..
(Она стала почтительно.)
– Кольку вашего отпустить могут, но-о-о… только под мой личный надзор!.. Да-с!.. А чтоб у меня ему быть под надзором, – у меня полк, а не какая-нибудь там гимназия! – поступить он должен в мой полк… вольноопределяющимся, если имеет права… Может поступить!.. Я приму!.. И-и-и… дурь и чушь эту из головы в манеже выбью, будьте покойны!.. И лихой из него может выйти ка-ва-ле-рист, корнет!..
Еля мгновенно представила брата таким же молодцеватым, как Жданов… Так же сидит на скамейке в их скверике и ждет свою гимназистку… Это ей понравилось необычайно; она вновь захлопала в ладоши.
– Ого… Браво!.. Колька – корнет!
– Ну, уж сразу так и корнет!.. Скорохваты какие! – бурчал Ревашов, а сам отводил глаза к самовару. – Ну-с, так с чем чай будем пить на радостях?.. С бромом?..
– Хорошо! – тряхнула она лихо греческой прической и протянула ему стакан свой, а глаза у нее совсем по-мальчишески блестели крупными искрами.
– Ну вот… Это я понимаю!.. Вспрысните братишку!..
И Ревашов налил из черной бутылки в ее стакан, а она так же лихо, запрокинув голову, отпила с полстакана чаю, как пила где-то грог на святках, и по-мальчишески сказала:
– Ух!
– Ром приличный, – отозвался Ревашов. – Английский ром, – вот марка.
– А когда же выпустят Колю?
– Когда?.. Ну, уж это там фор-маль-ности всякие. Целая куча формальностей!.. (Ревашов скривил левую щеку, потер за левым ухом и махнул перед собой левой рукой.) Под-писки, ручательства, обя-за-тельства!.. А вдруг он не захочет в полк, а?.. Мы-то за него решили, а он вдруг… Кто их знает, этих социалистов!.. «Мои у-беж-де-ния мне не поз-во-ляют!..» Тогда его, значит, непременно туда… где на собачках…
– Что вы?.. Колька?.. Как же он не согласится?.. Пусть только он попробует!..
– И очень просто скажет… «Кто, скажет, вас просил хлопотать?.. Вовсе я хочу пострадать за идею!..»
– Ка-ак?.. Это чтобы ему не тошно было там сидеть?.. Ни за что не поверю! – даже почти испугалась Еля.
А Ревашов продолжал:
– К собачкам тоже пойдет по этапу с гордостью даже, а?.. «Мною теперь, скажет, не шутите: я человек опасный: политический ссыльный! И на собачках буду ездить с удовольствием!.. Нравится мне это занятие, и все!»
– О-о!.. Конечно, он именно такой!.. Что же, так его и слушать?.. Что он понимает, этот Колька?
– Хо-хо-хо!.. – Ревашов встал, прошелся, подошел к ней сзади и положил руку на ее прическу. – Вот как мы братьев учим!
И когда она еще не знала, как ей отнестись к этой руке, он нагнулся к самому ее уху и шепнул:
– Колька ваш отказался, представьте!
Обдало ее запахом табаку, рома и вместе злостью на Колю: за него хлопочут, а он!.. И он стал вдруг непонятнее и дальше, а понятнее и ближе сделался полковник.
Ревашов же снял тяжелую руку и зазвякал шпорами по комнате, говоря повышенно:
– «Вольноопределяющимся?.. Юнкером?.. Кор-нетом?.. Вы надо мной издеваетесь!..» Это он так сказал, ваш братец… За оскорбление принял, что ему дают возможность заработать офицерский чин!.. Вот как!.. На лошади ездить не желает, а на собачках – очень!.. В этом и заключается верх геройства!..
– Когда же вы с ним говорили? – вдруг усомнилась было Еля.
– Сегодня в обед… Не верит!.. Хо-хо-хо!.. Она глядит на меня неверующими глазами…
И, подойдя вплотную, опять положил он ей на голову руку отечески просто:
– Я был уже давно ротмистром, когда вы только что, только «уа» начали кричать!..
– Где же вы видели Колю? – спросила она, глядя на него намеренно боком: она знала, что у нее красивый профиль.
– Те-те-те!.. Где?.. В тюрьме, разумеется, где он и сидит…
– Вы… сами… к нему ездили?
– Да не к нему, – эти мне штатские барышни!.. «К нему»!.. По долгу службы, а совсем не к нему!.. Мой полк сегодня в карауле… Понимаете?.. Наряд в тюрьму… Я – командир, да еще начальник гарнизона, имею я право проверять посты?.. Имею и должен… И поехал… И все!..
– И он вам посмел так сказать?.. – возмутилась Еля. – Вы беспокоились, а он…
Полковник скорбно и кротко покачал головой и развел рукою (левой, правая же все еще лежала на греческой прическе), и Еле стало очень неловко: он просил, ездил сам, к кому же? К мальчишке!.. И тот отказался!
– Простите меня! – прошептала Еля, поднявшись.
А Ревашов удивился:
– То есть… как простить?
– Я вас беспокоила… из-за дрянного мальчишки… Его и мама не любит!.. Знаете, она сказала даже, что он – не ее сын, а нашей кухарки!.. То есть, он, конечно, ее сын, но он нам совсем как не родной… всем нам… и мне… Да, и мне тоже!..
Проговорила она это очень задумчиво и тихо, глядя на среднюю пуговицу его тужурки: даже перед пуговицей этой чувствовала она себя виноватой.
– Нет, нет… что вы!.. Вы – нет! – забормотал полковник. – И прощать вас не за что, а напротив… совсем напротив… Вас… похвалить надо!.. Вы – очень милый ребенок… очень славный… да, да… Заботливый…
Полковник, видимо, волновался несколько и не знал как, не мог точнее выразить, за что именно он хвалил Елю. Он положил руку ей на плечо, так что большой палец его пришелся против ее открытой шеи, и тихо, очень нежно, проводил он по этой шее пальцем, а она стояла, опустив виновато голову вниз.
Сильный звонок вдруг задребезжал, и Еля заметила, что точно кольнуло Ревашова.
– Ну, непременно!.. Какой-то черт!.. Вырвикишка!..
Шмурыгал уже проворно туфлями денщик.
– Не принимать!.. Скажи: нет дома!
– Слушаю.
Оба здесь, и полковник и Еля, как заговорщики вслушивались в то, что делалось там, в передней, где уж отворилась дверь.
– Вот черт знает!.. Как же так нет дома? – чей-то густой, прохваченный ветром голос.
– Никак нет, уехали, – врал Вырвикишка.
– Это мне нравится!.. Сам же приглашал и уехал!..
– Кого я приглашал? – тихо спросил полковник Елю, но вспомнил тут же. – А-а, это – ваш, полковник Черепанов!.. Ну, черт с ним!..
– Важное дело было, вашескородие! – врал Вырвикишка.
Полковник подмигнул Еле, точно хотел сказать ей: «Ничего, этот малый нас не выдаст!»
– Какое важное дело? – опять голос, прохваченный ветром.
– Не могу знать!
– Ну, доложи потом, что я был… Ты меня знаешь?
– Так точно, вашескобродь!..
И как будто успокоенный именно тем, что его знает Вырвикишка, командир пехотного полка Черепанов ушел, и опять захлопнулась дверь и загремел ключ.
– Молодец!.. Знаю… слышал… Ступай! – предупредил денщика Ревашов, когда тот остановился было в столовой для доклада.
Они откуда-то приходят вдруг и все затуманивают – облака счастья…
Их форма необычайна; их окраска до того нежна и необычайна, что просто ошеломляет… И они клубятся, они влажны, они живут… Новый какой-то мир приходит вместе с ними, и в этом новом мире все – радость… Все не наше, и так неуловимо, так мгновенно, так изменчиво!.. Но ведь тысячу раз проходили вы мимо этого счастья, не замечая, занятые слишком земным, где все – расчет и скучные цифры, – и вдруг вы вырвались, и они опустились к вам – облака счастья… Пусть тикают часы в вашем кармане, безжалостные часы, инквизиторы ваши, – вы их не слышите… Вы смотрите в сторону от себя, – вверх, где все так необычайно, и вот на вас нисходит радость, – радость оттого, что вы – все-таки вы, что вы – живы, но что вы о себе забыли… Это – колдовство, волхвование?.. Нет, это только те облака, мимо которых проходили вы каждый день, их не замечая… Но вдруг вы подняли голову, и они пришли (они приходят ко всем, кто поднимает голову), и заклубились около, и плывут вместе с вами… Они поглощают вас, – вот в чем их чародейская сила, – и не слышно, как тикают часы, – пока чей-то голос, такой земной, преувеличенно земной и знакомый, не всколыхнет около вас воздух: «Идите обедать!..»
Вы вздрагиваете от ужаса… вы вспоминаете, и вам страшно вдруг: быть самим собою, земным собою, всегда страшно… Но вы сопротивляетесь все же, вы думаете: «Это кому-то еще… это не мне… Это не может быть мне… я… я… – совсем не это…»
– Идите же обедать, говорят вам!
Голос звонкий, и вы знаете, чей… Вы представляете лицо, и свое лицо тоже… Вы бормочете: «Обедать… обедать… что это? И зачем?..» Но вы уже опустили глаза вниз, вы уже снова видите землю, вы стали очерченно короче…
И вы обедаете, как всегда.
Очень ясно почувствовала Еля, что после ухода из передней Черепанова, – ради нее не впущенного Ревашовым, – рассеребрело вдруг старинное серебро на столе, подешевела мебель, полиняли гардины окон, проще и меньше стал самовар, – зато покрупнели они двое: один свыше пятидесяти лет, другая – невступно шестнадцати…
– Да, я теперь помню: я ему действительно сам назначил это время – воскресенье, семь-восемь часов, этому вашему командиру… – плутовато сказал Ревашов и почесал правую бровь.
А Еля шевельнула плечом, выпятила нижнюю губу и отозвалась:
– Какой же он мой командир?..
– Ну и не мой же!.. Этого еще не доставало, чтобы он – мой был!.. Наливайте же себе чаю… Или давайте я вам налью… Да-а… Колька, Колька!.. Задача нам теперь с этим Колькой!..
Еля смотрела на него наблюдающе, задумчиво и наивно по-детски в одно и то же время: не могла еще смотреть иначе. А Ревашов налил ей чаю, – уже не спрашивая, долил ей стакан ромом, и зарокотал, намеренно понижая голос до очень низких внушительных нот:
– Я не имею этого глупого обыкновения болеть… да… глупейшего… И не знаком поэтому коротко и близко ни с одним врачом… также и с вашим папой… Но-о… много о нем слышал…
– Папа… о да!.. Его, конечно, все уважают…
– А скажите, милая, у вас есть еще и сестра?.. Постарше вас, должно быть, есть?..
Ревашов очень прищурил глаза, и Еля насторожилась вся, но ответила беззаботно:
– Нет, я одна… Три брата, и я…
– Гм… Та-ак!.. – Ревашов повеселел вдруг. – Та-ак-с… Слыхал я, что одна гимназистка… и будто бы по фамилии тоже Худо-лей…
– А-а!.. Так это – моя однофамилица!.. Она старше меня классом, и такая!..
Еля махнула рукой и поджала губы: лучше не говорить… И тут же:
– Вы мне напрасно налили чаю: мне уж домой надо.
– Вот на!.. Зачем же это? – даже искренне вполне удивился полковник и брови вздернул.
– Как зачем?.. Восемь часов почти, – и мне еще на завтра уроки…
– А-ах, боже ж мой, какой ужас!.. У-ро-ки!..
– Да, не ужас!.. Как поставят двойку в четверть!..
– Хо-хо-хо! – весело стало Ревашову: – Двой-ку в четверть!
Даже и по лицу его было видно Еле, как это для него смешно и странно и непонятно даже, что вот ей, такой именно в греческой прическе, с темно-алой лентой, и с таким носиком поставят вдруг двойку, точно маленькой или уроду!.. И будто заразилась она его смехом, – самой ей стало смешно вдруг, что завтра какой-нибудь историк или физик, который так тщедушен, что его зовут «Фтизик», поставит ей двойку… Ей!.. Сегодня с нею говорит командир драгунского полка, полковник Ревашов, сам наливает ей чаю, ради нее (да, ради нее!) не принял Черепанова, перед которым должен стоять навытяжку ее отец, а завтра ей – такой, – могут поставить двойку и сказать пренебрежительно, с усмешкой: «Плохо-с, Худолей Елена!..»
Это даже не смешно и не страшно было, это была обида… Она очень остро почувствовала ее, и вдруг стали влажными глаза, и как сквозь дождь она еле различала перед собой Ревашова…
И он это заметил.
– Те-те-ре-те-те… Зачем же плакать?.. Мы его выручим, – Кольку!.. Он глуп еще, конечно, но мы ему внушим, ничего!.. Мы его не отдадим собачкам, – не надо плакать!..
Он встал, стал сзади ее стула, нагнул большую голову к ее детской и с пробором посередине голове, коснулся щекой, – только что чисто выбритой, – ее щеки и повторил напряженно:
– Чтобы в Якутку?.. Собачкам?.. Не дадим… Нет-нет!..
Правую руку он отечески положил ей на плечо, а в левую взял ее левую руку, и слезинка с ее левой щеки перепрыгнула на его правую щеку.
– Ого! – заглянул он снизу в Елины глаза. – Плачет!.. Самым серьезным образом… Ну, ска-жи-те!..
– Я пойду! – сказала она кротко и очень тихо. – Меня ждут дома, – перешла она на шепот почти: – ведь я сказала, что пойду к подруге…
– Ну что ж!.. А с другой – в театр или к другой подруге… Мало ли куда?..
– Мне нельзя! (Это совсем шепотом.)
– Ни-ни-ни, – посидите со мной, поскучайте!..
Еще гуще овеяло ромом и сигарой.
– Я могу посидеть еще… минут десять, – подарила Еля, и знала, что совсем не по-семнадцатилетнему у нее это вышло, а по-детски, и чувствовала, что именно так и надо было сказать.
– Те-те, – десять!.. Скажите, – утешила!.. Что же такое десять?.. Девять и одна!.. Хо-хо-хо! – смеялся Ревашов. – Так кто это, кто это, злодей, может влепить двойку?.. Мы ему покажем, постой!..
– Не злодей, а Фтизик, – уныло ответила Еля, не вынимая своей руки из полковничьей…
И так же, как недавно корнету Жданову, она рассказала о сообщающихся сосудах, в которых не было ни дна ни покрышки.
– Сообщающиеся!.. Хо-хо-хо! – загремел очень весело Ревашов.
Еля видела, что эти сосуды здесь имели несравненно больший успех, чем в скверике, на зеленой скамейке, и спросила, помнит ли он Верцингеторикса, того самого, который… «Ну… наоборот как-то коня своего подковывал…»
– Наоборот?.. Хо-хо… Как же это наоборот?
– А я знаю?.. Вы – кавалерист, и вы должны знать, а совсем не я… И на что он мне?.. Верцингеторикс какой-то!.. Совсем это мне не интересно!..
– Учат вас там… в гимназии!.. Хо-хо-хо!..
Он положил уже всю щеку свою на голову Ели. Волосы ее, старательно целый день чесанные, чтобы сплести из них греческую прическу, пахли детским еще запахом волос.
Ревашов потерял жену всего только два года назад, но он имел и дочь, умершую десятилетней от какого-то злокачественного нарыва, когда его как раз не было дома – он был в командировке в Москве и получил жестокую телеграмму: «Нина опасно больна»… Но действительность оказалась еще более жестокой: Нину уже схоронили, когда он приехал… Это было лет восемь назад, но на всю жизнь остался в нем и жил запах ее детских волос.
– Мне тяжело так, – сказала Еля, пробуя шевельнуть головою, но Ревашов не сразу снял свою щеку и выпустил ее руку из своей.
Он сел за стол, выпил остаток холодного уже чаю и, точно желая окунуться в то детское, что почудилось ему в преднамеренно греческой прическе, попросил ее:
– Ну, расскажите еще о чем-нибудь своем…
– О чем же еще? – пожала плечом Еля.
Плечи у нее были покатые: шея будто уширялась исподволь, образуя плечи, и Ревашов все смотрел в этот изгиб шеи, неслышно перешедший в левое плечо, бывшее как раз под светом лампочки над столом (на правое падала тень), и сказал, точно вслух подумал:
– У покойницы, жены моей, тоже была высокая шея…
Взглянув на него удивленно, протянула Еля:
– Да-а?.. Будто уж у меня такая высокая?! У меня – средняя шея…
И она, чуть заметно ребячась, подняла плечи и втянула в них голову.
– Это наша начальница так: «Дети!.. Дети!.. Будьте… всегда… всегда… послушны!..»
И далеко, но на один только момент, выпятила нижнюю губу.
– Ах вы, шалунья этакая!.. Ах, шалунья!.. Когда у вас будет вечер гимназический, я непременно приеду… вас послушать… Как вы там какую-нибудь… «Птичку божью»… изобразите… Маленькую какую-нибудь… кукушку, например…
– У нас были часы с кукушкой, – брат их разбил, – глянула на часы Еля.
– Это все тот же, Колька?
– Нет, это другой, младший… Он вечно что-нибудь разобьет… Вот уж десять минут и прошло… Мне надо идти…
И встала.
– Ку-да? – испугался Ревашов.
И тоже встал. И руки положил ей на плечи.
– Нет, вы еще посидите немного… Он же ведь мне теперь до гроба не простит, ваш командир, – а это ведь я ради вас!..
– Надоели уж вам полковники? – сбочив голову, семнадцатилетне спросила она.
– Очень!.. Чрезвычайно!..
– И вам скучно с ними? (Это по-детски.)
– Необыкновенно!.. А с вами нет…
И опять, как раньше, положил он на ее голову правую руку, а она, медленно глядя ему в глаза по-детски, сняла ее обеими своими и поцеловала, как раньше.

Ревашов не сказал ей: «Что вы?» – он как-то всхлипнул носом, обнял ее вдруг всю целиком, бурно и забывчиво, и понес куда-то в другую комнату, где было темно, и когда нес, звякали внизу под Елей шпоры его неравномерно…
Она отбивалась, вырывалась, кричала сдавленно: «Куда вы меня?.. Что вы?.. Не смейте!..» Но исподволь настал уже тот момент, когда суждено было полковнику стать моложе, ей – старше, и вырывалась она настолько, чтобы не вырваться, и кричала так, чтобы никто не услышал…
И, пронеся ее в дверь, Ревашов даже не захлопнул эту дверь за собою: он знал, что Вырвикишка на кухне вместе с Зайцем и Мукалом самозабвенно играет теперь в засаленные карты и без зова не войдет.
Хорош папоротник в чернолесье!
В тени, под березами, под дубами он пышен, он сочен, он все кругом захватил, этот вееролистый!.. Но когда же он так переполнен любовью, что зацветает вдруг ярко, огненно? – В Иванову ночь, в самую полночь, когда через костры прыгают с разгону визжащие девки, сами опьяненные своею любовной силой.
И отчего же ей не одарить, этой толстопятой, босоногой, могучей девке, даже папоротника родных лесов своею чрезкрайной любовью? Пусть и он цветет, бедный!.. Пусть хоть один момент, когда ударит полночь!..
Вот распускается!.. Смотрите! Смотрите!.. Вот блеснул, – расцвел!.. Вы не видали?.. Не видали?.. Ничего не видали, слепые?.. Теперь уж нечего пялить глаза – он отцвел, – конец!..
– Даже в Иванову ночь не цветет папоротник! – скажет этой босоногой, курносой фее лесов мудрый книжник и развернет перед нею тощий учебник ботаники.
Промолчит на это фея, разве только шмурыгнет носом, промолчит и потом отвернется… Но хорошо бы сделала, если бы сказала: «Пошел ты, дурак, и с твоею книгой!..»
– Нет, не цветет папоротник даже в Иванову ночь!
– Цветет!
– Нет, молчат, спокон веку молчат камни!
– Говорят!
– Нет вечности!.. Оледенеет и обезлюдеет земля.
– Есть вечность!.. Теплая, цветущая и даже… даже нежная и ласкающая, как мать!.. Разве бросит мать своего ребенка?
– Но ведь бросают же тысячи матерей!.. Ежедневно, ежечасно бросают!
– Нет, это неправда!
– Нет никаких облаков счастья!
– Есть, и они проходят вдали, и они спускаются внезапно, и они озаряют, и они осеняют, и шелестят, шелестят!..
Это дано знать только маленьким детям, большим поэтам и тем, кто богат любовью!
На часах в виде узкого длинного ящика выстукивался уже медным маятником двенадцатый час, когда Ревашов вышел из своей спальни в столовую, огляделся кругом рассеянно и выпил рому; потом он переставил кое-что на столе, пожевал задумчиво ломтик мещерского сыру, раза четыре прошелся из угла в угол, – наконец вошел снова в спальню и повернул там выключатель.
Еля, лежавшая на кровати и теперь ярко освещенная, натянула на себя одеяло и сказала досадливо:
– Потуши, пожалуйста, Саша!.. Зачем зажег?.. Я хочу спать.
– Видишь ли, Еля… теперь двенадцатый… К двенадцати ты будешь у себя… Скажешь дома, что была в театре…
– Что-о? – поднялась на локте Еля и поглядела изумленно. – Где это «дома»?.. Я только здесь – дома!.. Зачем говорить глупости, Саша!
– Вот тебе раз!.. «Глупости»!..
Ревашов растерялся даже: обыкновенно в это время он отпускал женщин, и они весело уходили.
– Видишь ли, Еля, – мама будет думать бог знает что, если ты не вернешься… теперь же…
– Она и так думает бог знает что!.. Зачем, Саша, говорить чушь? Завтра мы ей напишем и пошлем с денщиком… Потуши, пожалуйста, свет!
– Гм… Может быть, ты… ты бы оделась, Еля, поужинать бы села?
– Да-а… Пожалуй, я бы чего-нибудь съела… Только одеваться, выходить… что ты?.. Я так угрелась уж… Будь добр, Саша, принеси мне чего-нибудь сюда.
– Гм, да-а… «Смотрите, дети, на нее!» – продекламировал полковник задумчиво.
Он вышел снова в столовую, еще выпил немного рому, еще съел ломтик сыру, намазав на него паюсной икры… Потом совершенно непроизвольно (потому что сказала что-то об еде Еля) взял коробку шпротов и коробку сардин, поставил на тарелку, посвистал тихонько, соображая, что надо еще, – прибавил три ломтика булки и вилку.
– Вот что, Еля, голубчик, – говорил он, когда она ела, сидя на кровати и поставив тарелку себе на колени, прикрытые одеялом. – Ты бы все-таки оделась сейчас и поехала домой… Денщик найдет извозчика… А то, знаешь ли, дома ведь будут о-чень беспокоиться!.. Могут думать даже, что ты… утонула, например!
– Ну, выдумал: «у-то-нула!..» В нашей-то речке… Никто такой чепухи не подумает, – даже не улыбнулась Еля.
– Не утонула, – ну, вообще… вообще что-нибудь скверное!
– Там думают, что это вот, что со мной у тебя случилось, и есть самое скверное… А разве же это скверное?.. Ведь ты же меня полюбил? – сказала она очень тихо. – Вдруг взял и полюбил маленькую Елю… такую маленькую Елю… и сделал ее женой… А она даже про Вергинцеторикса не знает, как это он подковы подковывал!..
Небольшая головка Ели в греческой прическе (очень прочная оказалась эта прическа!) глядела на Ревашова невинными большими детскими глазами; длинная шея немного изогнулась вправо; с левого покатого плеча, теперь матово ясневшего, спустилась вниз рубашка и бойко в сторону глядела небольшая шестнадцатилетняя грудь с розовым соском.
Полковник поглядел на нее ленивыми уже глазами и заговорил размеренно:
– Видишь ли, насчет Коли твоего – это у меня экспромт… У губернатора вчера я не был и не винтил, – в карауле сегодня совсем не мой полк, а ваш, пехотный… а ты этого и не знала!.. Затем, еще что?.. В тюрьме я, конечно, не был: о-хо-та по этим учреждениям кому-то ездить!.. Никакого Коли не видал…
– Ка-ак так не видал? – очень изумилась Еля, даже рубаху натянула на плечо.
– Так и не видал!.. И ни о чем с ним не говорил, конечно, и ни от чего он не отказывался… Все это, одним словом, мое сочинение…
– Вот не ожидала я, чтобы ты, командир полка, и так умел сочинять!
Еля посмотрела на него внимательно и добавила:
– Ну, ты сегодня… то есть завтра, к нему поедешь…
– Куда поеду?
– К губернатору… Милый Саша, милый!.. Ради меня сколько насочинял! Это чтобы я его полюбила!.. Дай я тебя поцелую крепко-крепко!..
Она подалась вперед и протянула в его сторону голые тонкие руки… Ревашов чмыхнул носом и подставил ей щеку для поцелуя.
– А теперь я буду спать… Убери, пожалуйста, тарелку с кровати!
Ревашов кашлянул, взял тарелку и вынес ее в столовую. Он был теперь в ночных туфлях, вышитых серебряной ниткой по тонкому, табачного цвета сукну, и без тужурки, в одной фуфайке серой, плотно обтянувшей его спину и грудь, ожиревшие, как у всякого, начавшего уже шестой десяток жизни, но еще крепкого человека. В столовой он еще походил немного, подумал, выпил немного рому.
– Вот что, милая, – сказал он, войдя в спальню и стараясь взять совершенно уверенный тон. – Ты все-таки сейчас поедешь домой (денщик найдет извозчика) и скажешь, – пока, – понимаешь, – что ты была в театре…
– Спасибо, Саша!.. Я уже один раз приехала на извозчике домой в такое время, и, представь, – действительно из театра, – и что там было тогда!.. У меня такой старший брат, что… «Ты, – кричал он, – честь семьи мараешь!..» Честь семьи! – Тем, что была в театре!.. Покорно благодарю!.. Он меня и тогда чуть было не убил, а уж теперь, если я одна приеду!.. Он совсем бешеный у меня,
– Гм… Хороши братцы!.. Один острожник, другой бешеный… а третий что такое?.. Часы с кукушкой бьет?.. Семей-ка!..
– Ворчи-ворчи… А зачем тебе моя семейка?.. Семейка моя к тебе не придет, не бойся, – у тебя будет только маленькая женка, – да?.. Маленькая, любименькая, хорошенькая и… умненькая… да?.. Ты, может быть, думаешь, что я – глупая?.. Нет!
– Я вижу, что нет!
– А отчего же ты это так уныло?.. Ты должен быть рад, что я… Ведь я же рада!
– Еще бы – ты!
– А ты не рад? Не рад?.. Ты сейчас только говорил мне, что рад, что я – твое солнышко!.. Ведь ты же называл меня своим солнышком?.. Или ты и здесь врал?.. Да?.. Врал?.. Скажи!..
Хрустально звенящие чистые ноты, близкие к рыданию.
– Видишь ли, – нет, тут я не врал, – думал вслух полковник, но вдруг вспылил: – Ну, ты сама, если не глупая, пойми же, черт возьми, – это скандал на весь город!.. Полковник Ревашов, командир полка, вот-вот бригады, – и… и… гимназистка!.. Что тут общего?
– А-а!.. Тебе стыдно какого-то города?.. Хорошо!.. Завтра мы будем кататься по городу, – целый день будем кататься, – да, Саша?.. И пусть все решительно тебе завидуют! А Лия Каплан пусть отвечает про Верцетрикса!.. Это моя бывшая подруга – Лия Каплан, на одной парте со мной сидела… Ну, потуши, пожалуйста, электричество, и будем спать… А письмо маме напишем завтра.
Ревашов решительно подошел к штепселю и повернул его. И наставший вслед за тем мрак был тепел, мягок, полон девичьих шепотов и полусна.
А наутро Вырвикишка действительно принес совершенно потерявшей голову Зинаиде Ефимовне записку от Ревашова. Правда, записка эта была составлена в таких выражениях, что не давала повода думать определенно и радостно: хлопоча об участи брата, задержалась допоздна и пришлось ей заночевать не дома, – но была к этому письму приписка самой Ели:
«А что касается Верцетрикса, то пусть об этом отвечает историку Лия Каплан».
Она очень зорко следила, чтобы именно это, ею самой засургученное письмо попало в руки очень удивленного Вырвикишки, которому Ревашов говорил в это время веско:
– И передай, чтобы сюда не трудились приезжать, пенял? Я сам приеду!
Глава десятая
Тревога
Зинаида Ефимовна ждала Елю до поздней ночи.
Она всегда спала после обеда, поэтому засыпала поздно с вечера: сидела одна и пила чай в прикуску.
Она никогда не читала, она тщательно избегала карандаша, чернил и бумаги, она не раскладывала даже пасьянса, когда сидела так одна.
Все ее расчеты по хозяйству, все ее выводы из наблюдений над жизнью, все ее правила, которые хотела она привить и иногда успешно прививала детям, складывались там, в мозгу, может быть, бедном извилинами, но зато богатом клетками упрямства.
Когда близко к полночи подъехал извозчик и застучал в калитку, не один только Фома Кубрик сонный вылез из своей кухни, – она тоже, накинув вязаный платок и пряча стоптанный башмак в карман передника, вышла встречать своевольную дочь, – но оказалось, что это приехал Иван Васильич, до того усталый, что, показалось ей, даже не понял как следует, что Ели нет до сих пор, не отозвался никак на ее крик о «гнусной девчонке», которая теперь, может быть, «черт знает в какой трущобе!..»
Только когда ложился спать, пробормотал он неуверенно, что наверно она где-нибудь у подруги, и скоро уснул, а Зинаида Ефимовна осталась в столовой, погрузясь снова в чай и размышления.
Будильник на угольнике с загадочным треском показал час и пошел дальше отсчитывать секунды. Чай остыл. В половине второго она выпила валерьянки и потом, откинувшись на спинку единственного в доме старого мягкого, крытого черной клеенкой кресла, упрямо смотрела в огонек маленькой лампочки. И только в начале третьего услыхала со двора усиленное бряцанье щеколдой.
Встала, сказала с большой энергией:
– Вон когда, стерва, грязь!.. По-го-ди!..
И потом снова теплый платок, стоптанный башмак, и опять столкнулась с сонным Фомой Кубриком, вылезавшим из кухни.
Строго, как говорят только ночью, и недовольно, как это принято у хозяев, обеспокоенных некстати, справился, подойдя к калитке, Фома:
– Это кто-й-то стучит там, а?
Но с улицы отозвались очень зычно и бодро:
– Его высокбродь доктора Худолея в казармы полка!
– Что-о?
Спустившая платок с головы на плечи, чтобы не мешал, и с карающим башмаком в руке, Зинаида Ефимовна поразилась чрезвычайно.
– Как это, в казармы?.. Ночью?.. Зачем в казармы?.. Не смей отворять, Фома!
Она была вне себя от этой явной шутки каких-нибудь шалых парней.
Но из-за калитки еще более зычно:
– Тревога!.. Неприятель наступает с моря!
– Что-о?.. Неприятель? С какого моря?.. А-а?.. – визгнула Зинаида Ефимовна. – Не отворяй!.. Это – воры!
А с улицы снова неотступно-бессонное:
– Дежурный по полку послали!.. И командир полка там!.. Ко всем офицерам на частных квартирах!..
Очень проворно, как и не ждал от нее Фома, отбросилась Зинаида Ефимовна к крылечку и уж оттуда в голос:
– Не отворяй, Фома!
А с темной улицы зачастили двое наперебой:
– Нам всходить незачем!
– Наше дело сказать!
– Нам еще в десять местов бежать!
– Неприятель наступает с моря!
И потом побежали звонким солдатским бегом, и на них залаяли впереди соседские собаки очень ожесточенно.
– Поэтому будите барина! – посоветовал Фома. – Тревога!
Но Зинаида Ефимовна кричала:
– Чтобы я его будить стала?.. Ради жуликов всяких?.. Ни за что в жизни!.. Ишь, «неприятель»!.. Нам только родная дочь неприятель! Вот кто нам с мужем неприятель!
Однако Фома, послушав с минуту, как заливисто лают собаки по всей улице Гоголя, и поглядев, как беспокойно ныряет в тучах луна, решился пойти наперекор:
– Может им быть замечание, – барину, – через то, как служба!
– Что бубнишь там?.. Ты что бубнишь?.. Меня учишь?
Зинаида Ефимовна на крыльце перед Фомою размахивала своим башмаком и кричала, как привыкла кричать в подобных случаях, так что сколь ни крепко спал Иван Васильич, он проснулся.
Нужно было заступиться за Елю, так ему казалось, – и он оделся наскоро и вышел на крыльцо и услышал здесь, что Ели нет, что кричали с улицы будто бы солдаты из полка, что требуют в полк, что неприятель наступает с моря.
– Чепуха!.. Дичь!.. – усиленно тер он себе уши. – Какой неприятель?.. Почему с моря?..
Но минут через десять он все-таки шел по совершенно пустой улице Гоголя к казармам.
Идти было далеко; ночь показалась пустынной, бессмысленной, холодной даже почему-то, хотя он знал, что термометр стоял на нуле.
К городовому около скверика подойдя, спросил он:
– Какой это неприятель наступает?.. Почему с моря?
Городовой в башлыке переспросил:
– Неприятель?
Оглянулся кругом, взял под козырек и ответил уверенно:
– Не должно быть!
Еще раз оглянулся кругом, спросил:
– С моря? – и ответил, но не так уж уверенно: – Не могу знать!
Ивану Васильичу стало жаль себя, наконец: он устал, лег очень поздно, недавно, и вот разбудил кто-то… хулиган уличный, – кто же еще? Но зачем? Что он ему сделал?
– У меня в семье несчастье, может быть, – вспомнил он про Елю, – и вот кто-то мерзко, гадко подшутил надо мною! – вдруг неожиданно для себя пожаловался он городовому, как будто затем только и вышел из дому, чтобы пожаловаться.
Городовой, – он был высокий и плотный, средних лет, – опять взял под козырек и сообщил догадливо:
– Солдаты тут двое пехотные бежали с четверть часа назад… Уж не они ли?
– Солдаты… после поверки… спать должны, – соображал вслух Иван Васильич. – Как же солдаты бегали!
Но из переулка к тому же скверику справа выходил в это время, бренча и топая, капитан Целованьев из пятой роты, бородатый, брюхатый, которого, хоть и ночью, узнал Иван Васильич и который узнал его.
– Фантасмагория! – зарычал он подходя. – Какой неприятель наступает?.. Не дали, черти, выспаться, а завтра мне в караул!
И дальше пошли они вместе, причем Иван Васильич никак не мог попасть в ногу Целованьеву: пройдет шагов с десять и собьется, переменит на ходу ногу и через несколько шагов непременно собьется.
А Целованьев шел неуклонно, как паровоз, и сопел на ходу и плевался, так как, по его мнению, никакого неприятеля быть не могло и кто-то страдает гнусной бессонницей.
Но на углу Полицейской и Тюремной улиц столкнулись с ними поручик Древолапов и штабс-капитан Лузга – начальник пулеметной команды.
– Хорош неприятель без объявления войны!.. А?.. Фантасмагория! – зарычал на них Целованьев.
У него была недурная октава, и, желая пустить особенно густую ноту, он прятал бороду и выпирал живот.
Но поручик был особенно пылок, молод годами, и ему нравилось даже самое слово «неприятель».
Отозвался он весело:
– А японцы как начали?.. Пустили брандеры, – и готово!
– Японские брандеры – ерунда!.. А не хотите воздушный десант? – поддержал Лузга и поправил фуражку, чтобы стояла дыбом, и вздернул голову на всякий случай в мутно-белесое небо.
– Господа, господа!.. А дипломатия на что?.. Перед войной говорят! – укорял их Иван Васильич.
– «Дипло-матия»!.. – передразнил Лузга. – Почем мы с вами знаем, что там дипломатия?.. Говорено уж, не бойтесь!.. Приказано, и готово!
От него пахло вином, и очень широкие стал он делать шаги, длинноногий, так что капитан Целованьев, не поспевая, зарычал на него:
– И-иррой!.. Куда устремился так?.. Поспеешь!
Но из Архиерейского переулка вынесся галопом на своем Арабчике батальонный первого батальона Мышастов, на скаку крикнул им:
– Поспе-ша-ай!.. Эй!..
И пропал в ночи, только подковы Арабчика отчетливо шлепались о камни.
Лузга бросил назад Целованьеву:
– Чуешь, где ночуешь? – еще круче заломил фуражку и пошел форсированным, так что Древолапов приземистый едва за ним поспевал.
И чем ближе подходил Иван Васильич с пыхтящим капитаном к казармам, тем гуще отовсюду валили офицеры, и в казармах еще с подходу была большая суета: краснели ярко окна и доносился гул.
А капитан Политов, черный, похожий на грека, говоривший всегда громко и уверенно, высказал свою догадку, внезапно озарившую его мозг:
– Неприятель с моря – матросня, не иначе!.. Какой-нибудь новый Шмидт-лейтенант!.. Ходили же мы на них в пятом году!.. Почему не так?
– Ах, чепуха какая! – поморщился Иван Васильич.
– Почему чепуха?
– Не может быть, господа!
– Почему не может?
– Сколько угодно!
– От таких жди!
Перед самыми воротами казармы нескольким уже показалось просто это и понятно: появился там в Черноморском флоте новый лейтенант Шмидт, занял крепость и наступает с моря.
И когда говорил Иван Васильич:
– Все-таки господа… крепостные батареи… Морские орудия… Гул какой-нибудь был бы слышен… И городовой бы уж наверное знал!
– Во-первых, ничего не будет сюда слышно, – объясняли ему, – затем – сообщение прервали…
– Внезапное нападение… что ж вы хотите?
– Пропаганда бы только была, а то в один час все сделают… Самое важное – пропаганда!
Иван Васильич вспомнил Иртышова и своего Колю, которого, предупредивши его, пошла сегодня куда-то выручать Еля и пропала сама, – вспомнил ее тщательную Греческую прическу и жертвенный вид за обедом – и замолчал.
Казарма гудела.
Солдаты метались.
На широком мощенном булыжниками дворе со всех сторон стукотня каляных сапог и крики:
– Стройсь!.. Рравняйсь!..
Офицеры подходили к ротам, собираемым фельдфебелями, и не здоровались; со стороны цейхгаузов ярился простуженный бас полковника Черепанова. Каптенармусы и артельщики бежали оттуда по ротам с ящиками патронов.
– Заряжать винтовки?
– Не приказано!.. В подсумок!
– По скольку обойм?..
– По скольку обоймов!.. Тебя спрашивают?.. Что мечешься?
– По три… або по четыре!.. Мабуть, по три!
– Котелки просмотри во второй шеренге!
– Кто с саперными лопатками – шаг вперед!
– Поручик Глазков!.. Есть поручик Глазков?..
– Поручика Глазкова до командира полка-а!
– Зачем поручика Глазкова?
– Не могу знать!
– Где у тебя, черта, второй подсумок?.. Второй подсумок где?
– Да это и пояс не мой… Ребята, у кого мой пояс?
– Шинеля застегай!.. Та-ам, на левом фланге!
– По порядку номеров рассчитайсь!
Зачем-то музыкантская команда, с капельмейстером Буздырхановым из бахчисарайских цыган, тоже строилась рядом с околотком; кто-то, продувая медную трубу, на свету из окна резко блеснувшую, рявкнул совсем некстати, и на кого-то кричал надтреснуто слабогрудый Буздырханов:
– Я тебе двадцать разов говорил, мерзавец ты этакий!..
Со стороны канцелярии донеслась команда казначея Смагина:
– Писаря, равняйсь!
А вблизи какой-то бойкий солдат в строю ахнул:
– Ах, смертушка, – концы света!.. И писарей потревожили!
Большой полковой козел Васька, белый, заанненской породы, очень старый и жирный, обеспокоенный тем, что обозных лошадей вывели с конюшни, недоуменно бегал, поскрипывая, нырял то туда, то сюда между ротами и блеял вопросительно, а солдаты отзывались ему:
– На неприятелев, Вась!
– С четвертой ротой!
– Лезь в восьмую!.. Второй батальон не подгадит!
И даже к Ивану Васильичу метнулся было козел, мекнул жалобно и прыгнул в тень.
Весь огромный двор казарм слоился от красноватых лучей из окон.
Трехэтажные корпуса кругом, каменные, очень прочные, днем светло-зеленые, теперь серые, усиленно жили и стучали всеми своими лестницами. Иван Васильич зашел было в околоток, но там классный фельдшер Грабовский, губернский секретарь по чину, мужчина с роскошными усами и изысканных манер, сказал ему, что младший врач Аверьянов пошел в обоз, что в околотке вообще нечего делать, что тут достаточно дневального, а там лазаретные линейки, санитарные линейки, аптечные двуколки, и надобно проверить.
И когда вышли вдвоем из околотка на двор, очень зычная раздалась около команда подполковника Мышастова:
– Первый батальон, смирна-а-а!.. Господа офицеры!
Это Черепанов подошел от цейхгауза, и видно было его издали, освещенного из окна нижнего этажа: высокий, с черной бородою во всю грудь, с новым, очень белым (полк был третий в дивизии) околышем фуражки, и руки в перчатках.
– А я и не надел перчаток! – вслух вспомнил Иван Васильич. – Совсем даже из ума вон!
– Авось, холодно не будет… Не должно быть холодно, – успокоил Грабовский.
– Вы ничего не слыхали? – спросил Иван Васильич, обходя с ним плотную массу первого батальона с тылу.
– Телеграмма будто бы с какой-то станции.
– Что, неприятель наступает?
– С моря… А в газетах ничего не было, – я читал… И каждый день аккуратно я слежу за газетами. Между прочим, решительно ничего… Может быть, спросите полковника Ельца?.. Вот полковник Елец.
Помощник командира, полковник Елец, на кого-то кричал, кто стоял в тени, не очень громко, но довольно внушительно:
– А я вам говорю: не рассуждать много!.. И делайте, что вам прикажут!
Иван Васильевич едва разглядел оружейного мастера Небылицу, сказавшего «Слушаю!» и нырнувшего в двери мастерской.
– А вы в обоз? – хрипнул Елец Ивану Васильичу, едва тот с ним поровнялся. – Младшего врача надо послать, а то болтается, как цюцик!.. Ни черта не знает!.. Верхом умеете?.. Можете взять лошадь… Вам с обозом за главными силами… а младший врач за авангардом… с первым батальоном. А классного фельдшера – в тыл.
– Что это за неприятель с моря? – успел спросить Иван Васильич; но апоплексический, багроволицый днем, теперь серый, Елец закашлялся, как всегда, оглушительным акцизным кашлем и буркнул:
– Увидим!.. Там увидим, какой!..
И пошел от него, тяжко брякая шпорами.
В обозе за воротами казарм шла своя суматоха.
Тут метался, наводя порядок и подгоняя, командир нестроевой роты капитан Золотуха-первый (был в полку еще Золотуха, его брат, тоже капитан, командир шестнадцатой роты).
Спешно запрягали лошадей в линейки и двуколки, возились с походными кухнями… Здесь же оказался и козел Васька: его гнали, но он был неотбоен.
Стоялые лошади грызлись и визжали… Перед Золотухой таскали фонарь, он то здесь, то там, в обстановке не совсем обычной, зато на вольном воздухе, в густом запахе лошадей и конюхов ругался весьма картинно, удивительно разнообразно и с неизменным подъемом.
Свои санитарные и лазаретные линейки нашел Иван Васильич уже готовыми в поход, а около них, как неприткнутый, стоял младший врач Аверьянов, молодой еще, но чахоточный, длинный и сутулый, очень близорукий человек, при одном взгляде на которого всякому почему-то становилось или досадно, как Ельцу, или немного грустно.
Пустое ночное поле, луна вверху, стучащие под тобою неуклонные крепкие колеса, древний запах лошади впереди, древняя невнятная жуть, оставшаяся в душе от детства, и в то же время твоя полная связанность, подчиненность силе, тебя влекущей, это или навевает сон или огромную отрешенность от своей жизни, похожую на тот же сон.
Ты не спишь, но ты забываешь о себе на время, – ты становишься способен не думать даже, а только представлять, и довольно ярко, разнообразнейшее чужое, как будто сам ты не участник жизни, а только проходишь над нею или безостановочно проезжаешь по ней.
Не лезет в глаза, совсем не отвлекает тебя то, что перед тобою и справа и слева, и вот, далекое оно или недавнее, но непременно не твое личное, а чужое, выдвигает в тебе для просмотра кто-то, ведущий в тебе самом сортировку людей и событий, их кропотливый отбор и их подсчет.
Это состояние странное, определить его трудно, но в нем прежде всего есть какая-то помимовольная прощальная легкость, когда сказаны уж все нужные слова, сделаны скорбные мины, поцеловались, помахали платочком, и вот уж никого не видно, и довольно притворства, и можно свободно вздохнуть.
Иван Васильич больше не спрашивал уже, какой именно неприятель и почему с моря, и некого было спрашивать: он ехал один, а впереди сидел обозный солдат, ему незнакомый, который ничего и знать не мог, – и что осталось дома, то осталось: и Еля, куда-то пропавшая, и Зинаида Ефимовна, ожидающая ее с башмаком, и денщик Фома, и больные в городе (тяжелый случай скарлатины у мальчика восьми лет, задержавший его до полночи), и больные в нижнем этаже дома Вани Сыромолотова.
Теперь он только старший полковой врач; теперь полк кругом, в котором он служит долго, этот полк куда-то идет, как одно большое тело, а куда именно – знает начальство.
Знает или нет, но оно ведет.
Полковник Черепанов едет теперь верхом впереди главных сил – второго и третьего батальонов.
Он теперь для него расплывался в обои его квартиры – синие и серые, в пепельницы на столах его из раковин-перламутренниц, в янтарный мундштук его папиросы… У его старшей дочери сначала малокровие, потом неврастения, потом курсы и неудачный роман, и полковница вполголоса и под секретом говорила ему о какой-то мерзкой акушерке из Новгорода (почему именно из Новгорода, – он забыл), о «почти-почти что заражении крови, – едва спасли», и он советовал ей сакские грязи, а сам Черепанов смотрел тогда на него проникновенно и стучал мундштуком о ноготь большого пальца… Младшая же дочь его, Варя, отболевшая уже малокровием и теперь болевшая неврастенией, пока еще только готовилась поступать на курсы, и где-то ждет уж ее своя акушерка.
Он криклив, Черепанов, но размеренно, медленно криклив, – ему некуда торопиться: тот, кого он разносит, должен выслушать все, что он скажет – левая рука смирно, правая к козырьку… Трахома – его конек, и новобранцам он торжественно сам задирает веки. Хорош, когда благодарит офицеров за стрельбу ли, за смотр ли. Тогда лицо его с отечными глазами очень становится чопорным, почти ненавидящим, он медленно тянет руку к середине носа и говорит почему-то неизменно так:
– Э-э-нны… э… спасибо за службу!
Потому ли, что все время соприкасается с ним и вот теперь едет с ним рядом, очень высокомерен адъютант, поручик Мирный, – блондин, лицо длинное, усы бреет.
Мундштук для папирос у него тоже янтарный, только янтарь белее, чем у Черепанова.
Очень любит приказы по полку, которые составляет сам, и чуть что:
– В приказе об этом было… Приказы по полку надо читать, а не в небесах парить…
Вид у него всегда занятой и строгий, даже когда он слушает анекдоты. Но у всех кругом, даже у батальонных, он в чести, потому что все знает.
– Как писать в отчете: мотык железных столько-то или мотыг?.. То есть «к» или «г»? – спросил раз Мышастов.
И Мирный в ответ высокомерно, вправляя папиросу в мундштук:
– Конечно, «мотык», от глагола «тыкать» в землю… Отсюда «мо-тыка»…
Мышастов был очень доволен, что трудный вопрос разъяснен.
Он задумчивый, этот Мышастов, ведущий теперь авангард в бой. Он длинный и горбится, носит очки, очень припудрен сединою… Любит бильярд в собрании, но когда по субботам получает от жены записку карандашом на клочке линованной бумажки: «Из бани пришли: приходи обрезать ногти мне и Ляле», – то бросает и бильярд… Он знает, что жена его боится всяких режущих предметов – ножей, ножниц, – дочь тоже, и так уж заведено у них, что после бани он обрезает им ногти сам…
Это – нежно… Это идет к неуютным, длинным дождливым вечерам поздней осени, когда бывает темно, гораздо темнее, чем теперь, ночью, когда дует порывами ветер, скрипит вывеска портного Каплуна, мигает фонарь на углу, лают только собаки, обладающие густыми басами, а звонкоголосые почему-то молчат, точно их и не бывает совсем на свете.
Во втором батальоне – Нуджевский, представленный уже в полковники. Этот сразу прибавился в весе, как только узнал, что представлен… Глаза у него навыкат, нос с гордым горбом, в усах пока еще только золото – серебра нет.
Но он сорвал как-то голос на высокой командной ноте, и у него сухой фарингит, – это его несчастье.
У него прекрасная лошадь из имения жены, а имение недалеко от города, верстах в тридцати… У него покупает полк овес, солому, сено… В последнее время в разговоре он очень стал щурить свои выпуклые глаза (не щурит, только говоря с Черепановым). А с батальонным третьего батальона Кубаревым, который – нарочно ли, нет ли – при нем рассказал ядовитый анекдот о поляках, он совсем перестал говорить.
Но лысый крутощекий Кубарев, у которого белесая бородка, вся в завитках, как у Зевса, он прирожденный краснослов, балагур, на «ты» с любым подпоручиком. Придумать нельзя человека, который менее его был бы способен тянуть подчиненных и принимать службу всерьез.
У него шашка – для салюта, револьвер – для караульной службы и для полной походной амуниции, ордена – для парадной красы.
Он учил солдат стрельбе по мишеням, когда был ротным; он и теперь, когда бывает дежурным по стрельбе, может ругнуть какую-нибудь свою роту: «Тю-ю, двенадцатая, ни к чертовой маме!.. Эть, сволочь какой народ!.. Стрельба, как у беременных баб за ометом!..» И сокращенно расскажет к случаю о беременных бабах…
Но он не верит, чтобы ему или вот этим его солдатам когда-нибудь довелось стрелять в кого-то: на свете и без того очень много смешного!.. Правда, было с кем-то подобное в японскую войну, но это уж исключительно по чьей-то нарочной глупости. Он же в это время в Одессе в запасном батальоне, в казармах Люблинского полка заведовал хозяйством… И какое это было милое, пьяное, сытое, веселое время!.. Он и сейчас вспоминает об Одессе, как о любимой когда-то женщине: «Эх, Одесса. Одесса!.. Красавица-город!»
Служба, конечно, стара, как мир, но фуражки на головах его людей сидят почему-то чрезвычайно залихватски, и бойчее поют песни в его ротах.
Подполковник Нуджевский дожидается нового чина, чтобы выйти в отставку генералом, заняться имением жены, разъезжать по соседям и щеголять красными лампасами и отворотами шинели. Кубареву же хоть бы и век служить батальонным. Ни в какого неприятеля, наступающего с моря, он не верит, конечно, по самому существу своей натуры, и почему-то именно этого плохого службиста приятнее, чем других, хороших, представлять Ивану Васильичу.
Наступает или нет неприятель с моря, но едва ли не в первый раз со времени зачисления в полк, вот только теперь, в обозе, за топающими ногами впереди, среди колес стучащих, ясно стало ему, что ведь это те самые, которые будут, может быть, умирать у него на глазах на перевязочном пункте, с которыми бок о бок при случае придется, может быть, помирать и ему, – граната не разбирает, кто с каким крестом, – рядом с веселым Кубаревым, брюхатым Целованьевым, поручиком Мирным… Не с больными, которых он лечил в городе, а вот с этими, которым болеть неудобно.
Какие разнообразные они все в своей одинаковой форме!
Капитан Диков, например, из шестой роты, который жить не может без лобзика и рамок!..
Сам по себе это забубенная головушка; живи он в тридцатые – сороковые годы прошлого века, сколько бы у него было дуэлей!.. Голова задрана, фуражка на затылке, ястребиное лицо вперед… С таким дерзким сероглазым мужественно-красивым лицом, казалось бы, для какой-то особо занимательной жизни он был рожден, – однако не хватало чего-то в нем, мелочи какой-то, пустяка, – и вот он только капитан в пехотном полку; когда пьян, способен только на ничтожный уличный скандал, когда трезв и сидит дома, старательно выпиливает рамки, и все стены его квартиры в фотографиях однополчан, отнюдь не потому, что так уж они ему милы, а потому только, что нужно же куда-нибудь пристроить рамки.
Жена старше его лет на пять и все болеет; дети, их трое, золотушные…
А откуда у Саши фон Дерфельдена, штабс-капитана, начальника учебной команды, такая страсть к церковному пению?.. Как начальник учебной команды, откуда выходят унтер-офицеры, он должен быть строг, даже свиреп, и Иван Васильич слышал, что он, молодой еще, с приятным лицом, гроза этих будущих взводных и отделенных, что при нем они каменеют и стынут… Так откуда же у него, немца по отцу и матери, любовь ко всяким «Херувимским» Бортнянского и Бахметева, и такая любовь, что ни одной церковной службы он не в состоянии пропустить, и хоры всех городских церквей ему известны, как никому другому? И он не женат еще и одинок, лихой танцор на вечерах в офицерском собрании, и даже сам Иван Васильич зовет его Сашей, потому что никто в полку не зовет его иначе, и как-то странно даже назвать его вдруг по имени-отчеству или даже по чину: капитан Дерфельден!.. Не идет к нему это… Но – Саша!.. – и вот быстро повернулся молодой легкий стан, на приятном лице улыбка, голубые глаза спокойно ждут, что вы скажете… Голос у него – грудной тенор, очень высокий и чистый, и руки теплые и жмут крепко…
Они все игроки и кутилы, как солдаты всех веков и народов, – но сколько разных оттенков в этих кутежах и игре!..
Когда ремизится, например, капитан Чумаков из девятой роты, он неподвижно глядит на того, кто его обремизил, точно перед ним кролик, а он – удав; и только через минуту говорит медленно:
– Так это ты… меня… таким… образом?.. По-го-ди!..
И, обремизивши в свою очередь, довольно хохочет:
– А чтэ-э, бра-ат?.. Пэпэлся, котэрый кусэлся!.. Тэ-э-тэ!..
«Тэ-тэ» вместо «то-то», потому что он пропускает его и через хохот и через выпяченную дразняще нижнюю губу, и второй подбородок его отдувается в это время, как у сделавшего себе запас пищи пеликана. Он играет ради самого процесса игры, всегда по очень маленькой, и, выигравши гривенник, очень бывает доволен.
Любит щеголять в сером плаще, ссылаясь на переменчивость погоды. За это его, бегемотоподобного, зовут Бедуином.
Но и командир восьмой роты, Кухаревич, небольшой, вертлявый, с синими жилками на плешивом лбу, хорош бывает во время игры.
Он горячится, он наскакивает, он частит и сыплет словами, присловьями, прибаутками русскими и польскими, и украинскими… И когда выигрывал, когда брал взятки, никогда не мог усидеть на месте; торжество так торжество: он вскакивал, чтобы быть на голову выше других, и очень как-то звонко бросал на стол свои карты, размахиваясь ими выше головы.
Но если не шла карта, он сжимался, как паучок, глядел подозрительно, становился очень меланхоличен и крутил усы, и прибаутки его были исключительно по-польски и не для дам.
Все пили, но редко у кого это выходило красиво.
Нужен ли для этого особый талант природный, или можно этому научиться, если задаться подобной целью, но только у одного из целого полка это выходило так, что им любовались, – у капитана Баланчавадзе из третьей роты.
Он пил только вино и пил его из дедовского турьего рога, оправленного в серебро с чернью, а в рог этот вмещалось чуть ли не четверть ведра.
Потому ли, что детство его прошло среди телавских виноградников, он знал вино, и вино его знало, и, выпивши целый рог, он делался только неистощимо веселым, и неутомим был в лезгинке!.. Лет тридцати пяти, очень гибкий и ловкий, он носился между столами в собрании, подкрикивая и прищелкивая языком, с тарелкою вместо бубна, а со столов ему тонко подзванивали стаканы, блюдечки, бокалы, бокальчики, стаканчики, рюмки…
И разве не любопытен идущий теперь впереди всего полка начальник команды разведчиков поручик Венцславович?.. Его зовут не иначе как полностью, потому что выходит в рифму: Юрий Львович Венцславович… Франтовато всегда одетый, в золотом пенсне, он лучший стрелок в полку и недурно читает «Энеиду» Котляревского. И даже больше того, – он читает книги, – да, он берет в полковой библиотеке книги и читает их тут же в собрании на глазах у всех, и когда его привычно насмешливо спрашивают:
– Ты-ы что это такое?.. В Академию, что ли, готовишься?
Он отвечает без тени смущения:
– Ну да, – готовлюсь!.. А как же?.. Стал бы я иначе читать?
А Середа-Сорокин, поручик, не так давно переведенный с севера!..
Он длинный, с гусачьей шеей, и с ним неотлучно везде две борзых собаки пегие, длинные и тоже с гусачьими шеями… У этого страсть к охоте, но охотиться здесь на кого-же?.. Лесов поблизости нет, степь вся распахана, даже дрофы – и то далеко от города – попадаются очень редко… но к дрофам без воза соломы и без всяких хитростей степных невозможно подойти на выстрел… Кроме этих борзых, у него есть еще и пара гончаков, но те сидят дома.
На жалованье поручика трудно прокормить столько собак, может быть потому так худ их хозяин… Он молчалив; он изысканно вежлив; но он никогда не откажется, если кто-нибудь в собрании вздумает его угостить. Он даже не враль, как большинство охотников, только вспоминает часто лесистую Костромскую губернию, где он служил:
– Помилуйте – скажите, но ведь там же охо-та!..
Когда выпал тут в ноябре снег, затравил он четырех зайцев в полях, но тем и кончилось его счастье. Снег растаял. В поле одни мерзлые кочки, и он грустит… Теперь шагает он, длинноногий, в первой роте и, как природный охотник, различает в ночи что-нибудь такое, чего не видят другие, и говорит, должно быть, своему ротному, капитану Жудину:
– Посмотрите пристальней влево!.. Там что-то движется… Видите?.. Вон там!..
Ивану Васильичу приятно представлять такого зрячего человека, потому что сам он ничего не видит по сторонам.
Впереди обоза плотная масса двенадцатой роты, но она чуть чернее полей; ее больше слышно, чем видно, однако слышно только, как сплошной гул, как аккомпанемент для колесной арии, кругом добросовестно исполняемой.
Какие основательные, прочные эти обозные колеса, рассчитанные на долгие походы, и как они катятся звонко!.. Кухни же тарахтят совершенно бесстрашно, так же, как могут тарахтеть они и у неприятеля с моря, так же, как тарахтят вообще все кухни на земле, какие бы секретные наступления ни делали люди.
Обернулся с козел солдат; разглядел Иван Васильич, что голова у него пирогом и нос длинный.
– Вашескобродь, дозвольте спросить, – это мы спроти кого же идем?
– Не знаю, – удивился вопросу Иван Васильич.
– Говорили, будто матросня, – понизил голос солдат.
– Кто тебе говорил? – еще больше удивился Иван Васильич.
– Я тоже думаю, – не должно быть… Болтают зря…
Какие-то солдаты, которым надоело трястись на подводах, идут сзади. Но они говорят о том, что знают:
– Корова, например, требушистая, а бы-ык, он, брат, кишков много не имеет, у него, брат, вес большой…
– Или возьми свинью… До чего важка, стерва!.. У ней мяса плотная, страсть!
Но вот кто-то растолкал их сзади.
– А? Кто?.. Кашевары?.. А доктор где едет?
И у повозки крепко сбитый подпоручик Самородов показал свое крупное круглое лицо с усеченным носом.
– Вот где вы?.. Покойной вам ночи!.. К вам можно?.. Ногу натер, понимаете, сапог жмет…
– Вы что, – догоняли, что ли?
– Вона!.. Догонял!.. Я – ваше прикрытие – у меня сзади взвод… А мудрец какой-то сказал: лучше сидеть, чем ходить… Правильно!
И вскочил на ходу.
Где и когда успел выпить Самородов, но чуть только он уселся рядом, сильно запахло спиртным.
Он еще молод, чтобы проявиться как следует, и пока пьет, впивается деловито, обдуманно, точно осенний крепкий огурец, вбирающий соляной раствор, чтобы достоять в бочонке до лета, чтобы хозяйка, вынув его в мае и подавая гостям, могла бы сказать с приятной улыбкой:
– Вы посмотрите только: как свеженький!
И гости чтобы ахнули и похвалили: «Вот это засол так засол!..»
– Что это мы, а?.. Куда именно?.. И зачем? – сразу задал ему все свои вопросы Иван Васильич.
– «Куда»!.. И что это значит «зачем»?.. – усиленно задышал огурец рассолом. – Их ведет, грызя очами… начальство, а они тут в обозе мыслями задаются!
И даже по плечу его легонько похлопал.
– Однако?.. Все-таки? – поежился Иван Васильич, отодвигаясь.
Но огурец зевнул сладко и равнодушно:
– Наше дело детское, – мы обоз!
И так неожидан после этого сладкого зевка был орудийный выстрел спереди, верстах в пяти!.. И еще не успели опомниться и точно установить, что это выстрел из орудия, а не ружейный залп, – новый орудийный раскат.
Самородов сказал:
– Вот так штука! – и спрыгнул на дорогу.
Кашевары почему-то поспешно уселись на свои места.
Спереди длинная команда:
– Стой-й-й!..
И оборвался гул шагов.
И сам затпрукал солдат его повозки, и лошадь стала.
Колесная ария кругом оборвалась раньше чьей-то команды:
– Обоз, сто-о-й-й!
Подошел фельдшер из лазаретной линейки Перепелица, – полковой фельдшер со жгутами на погонах, и сказал почему-то:
– Шпарят!
Голова у него была круглая, лицо тоже, нос маленький, чуть заметный, а шинель сзади стояла птичьим горбом, и Иван Васильич подумал невольно: «Какие меткие бывают фамилии!» – и повторил зачем-то:
– Шпарят?..
И еще пушечный выстрел, а за ним тут же команда спереди:
– …рота ма-арш!
И солдаты, – теперь их лучше рассмотрел Иван Васильич, последняя двенадцатая рота, – пошли влево по кочковатой земле.
– Роты разводят! – объяснил Перепелица.
– Зачем?
– А как же?.. В колонну снаряд попадает или в развернутый фронт, – большая разница!
– Да скажите мне, наконец, что это?.. Откуда снаряды?.. Чьи снаряды?.. – нагнулся к нему с повозки Иван Васильич.
– Кто же их знает!.. Люди боевые патроны получили… по три обоймы…
– Дозоры усилить! – скомандовал влево кто-то верхом, и только по голосу узнал Худолей батальонного Кубарева.
– До-зор-ных! – повернулась в испуге голова пирогом.
– Патронные двуколки вперед! – откуда-то спереди, и потом голос Кубарева:
– Вперед двуколки патронные!.. Жива-а!..
И сразу затарахтели колеса двуколок, устремляясь вперед, в бой, а солдат на козлах протянул горестно:
– Патронные!.. Э-эх!.. – и махнул левой рукой коротко, но совершенно безнадежно.
– Ничего не понимаю!.. А пулеметная команда наша?.. – опять того же Перепелицу спросил Иван Васильич.
– Пошла с первым батальоном…
И вдруг добавил Перепелица:
– Раз неприятель наступает, он по железной дороге должен наступать, – а это ему зачем?.. Ему вокзал нужен.
– Может быть, вокзал защищает кавалерия? – догадался Иван Васильич.
– Сколько же той кавалерии!.. Кавалерии – ей бы здесь место, а нас бы туда…
Но тут потянуло скверным запахом сзади, и Перепелица добавил:
– Бочки, должно быть, со свалок едут.
– Вот тебе на!.. А вдруг их остановят?
– Удовольствия мало…
Спереди еще грохнул пушечный выстрел…
Минут через десять, хотя и странно было это слышать, но ясно стало и Ивану Васильичу, один за другим два орудийных выстрела раздались дальше, чем первые; потом двинулись снова вперед солдаты, а обоз стоял еще минут десять, пока не подъехал ординарец и не крикнул передним подводам:
– Командир полка приказал медленно двигаться!
– Как?.. Медленно или немедленно? – не дослышал Иван Васильич.
– Это ведь все равно, – отозвался Перепелица и – шинель все-таки горбом – зашмурыгал к лазаретной линейке.
Опять началась ария звонких колес на шоссе.
– Поэтому, выходит, наши погнали его, вашескородь? – обернулась с козел мудреная голова в фуражке, растянутой спереди назад.
– Столько же я знаю, сколько ты, – кротко ответил Иван Васильич, потому кротко, что с этим новым движением представилась ему вдруг Еля, – то милое лицо, какое было за обедом вчера, когда она сказала важно: «Я хлопочу о Коле!..» Почему-то он не спросил ее тогда, у кого она хлопочет, – не успел спросить… Может быть, у губернатора?.. Может быть, она просто пошла к нему на квартиру?.. Добыла какое-нибудь письмо, чтобы войти в губернаторский дом, а там… сказала что-нибудь слишком резкое и арестована за это?.. Конечно, арестована при полиции, только для острастки, и будет выпущена утром… Плохо, конечно, но все-таки лучше, чем то, в чем обвиняет ее мать…
Сначала это кажется нелепым Ивану Васильичу: арестована гимназистка, девочка, его дочь!.. Но он вспоминает губернатора, генерал-майора, лет сорока, с вензелем на погоне, с очень жестким лицом, высокого, коротко стриженного красивого брюнета, голова вполоборота и полуслова вместо слов: «Что?.. Худолей?.. Полковой врач?.. Вы – отец?.. Очень жаль!.. Как же вы могли… допустить?.. Послано министру… Нет, не могу… Ничего не могу…» Кивок, и дальше… Что же он, такой, может сказать ей?.. Может быть, накричал на нее, а она не сдержалась… Приказал задержать до утра при полиции… Придется идти объясняться… А что, если за это уволят из гимназии?.. Куда ее тогда?..
Колеса стучат совершенно безучастно, но сзади подходит Самородов так же, как в первый раз, и уж не спрашивая, можно ли, – лезет на подножку, припрыгивая на одной ноге.
– Лучше сидеть, чем ходить!.. Думал, пустяк, оказалось, трудно идти…
И опять запахло рассолом…
– Что это значит, что мы двинулись? – спросил Иван Васильич.
– Что это значит?.. Это значит, что… «Еще напор, и враг бежит…»
– Трудно понять…
– Ночные бои, доктор… Мы его боимся, он нас боится… Но, конечно, силенки у него жидковаты… Трехдюймовки… две-три…
– А если он вокзал атакует?
– А здесь ложная диверсия?.. За это уж мы-то с вами не отвечаем…
– А почему наших пулеметов не слышно?
– Не видят противника… Зачем же себя обнаруживать?.. Не вошли в столкновение… А в белый свет стрелять не приказано.
И в громыханье колес наклонился со своим рассказом ближе к нему и пониженным голосом:
– Понимаете, какая штука!.. Познакомился на днях в частном доме с одною дамой, не то чтоб с какой-нибудь, а вполне приличной, и вот… благодарю, не ожидал!.. Ходить почти невозможно, – еле терплю… На сапог это я из приличия свалил…
– Ну вот, и пьете еще!.. Зачем же вы пьете?
– Досада, понимаете!.. Никак не думал!.. Молодая дама, приличная… Если уж такой не верить, какой же верить?.. Вы только представьте…
Но не удалось Самородову рассказать о знакомой даме полностью: слева где-то по линии обоза, может быть даже несколько сзади, явно ружейный, безбожно сорванный залп…
– Что такое?.. Обошли?.. – и вскочил подпоручик.
– Может быть, наши?
– А в кого же наши?.. Сзади полковник Елец с четвертым батальоном.
Новый залп, жидкий, но также сорванный.
– Далеко где-то… Может быть, дозоры наши?..
И стал на подножку.
Но те, кто стреляли скверными, жидкими залпами, точно загадали: соскочит ли подпоручик Самородов, если они сделают еще залп?
Сделали еще, и он соскочил и затерялся среди повозок, а спереди опять повернулась странная голова и проговорила скорбно:
– Что же это?.. Неужто милости к своей крови не будет?
И до самого рассвета то медленно двигались, то зачем-то стояли в сонливой неизвестности, пока не перестали уж доноситься орудийные выстрелы спереди и жиденькие залпы слева.
Рассвет этот, которого он так ждал, показался Ивану Васильичу необыкновенным, чудодейственным… Очень отчетлив в нем был момент, когда он увидел, – или угадал скорее, но близко к истине, что затылок его кучера под засаленным околышем не темноволосый, как он думал ночью, а русый; что у лошади, везущей аптечную двуколку рядом, подвязанный белый хвост…
Иван Васильич и не хотел верить в то, что, может быть, действительно приведут или принесут раненых, и боялся, – а вдруг?.. И, наконец, утро, едва наступившее, разъяснило ночную «фантасмагорию», как называл это Целованьев.
Никто ни в обозе, ни в главных силах, ни даже в первом батальоне не видал этого, – это передавал потом Венцславович: когда рассвело так, чтобы хоть что-нибудь видеть впереди, он наткнулся с тремя разведчиками из своей команды на машину «лимузин», стоящую под тополем, а над нею на тополе висел белый платок, знак конца военных действий и возможности мира и покоя, и из автомобиля вышел начальник дивизии генерал-лейтенант Горбацкий, тучный, седобородый старец, доедающий бутерброд с сардинкой и теперь широко открывающий масляный рот, как рыбы в аквариуме, а за ним с серебряным стаканчиком вина, из которого он пил мелкими глотками, и тоже с недоеденным бутербродом в другой руке, вылез начальник штаба дивизии полковник Корн, высокий блондин с красиво подстриженной бородкой; и, протирая на ходу запотевшее пенсне, чтобы разглядеть лучше это видение, замедляя шаг, подошел к машине Юрий Львович, вздернул руку к козырьку и застыл, и за ним застыли разведчики.
– Здравствуйте, э, поручик! – сипло, не спеша, сквозь хвостик сардинки.
– Здравия желаю, ваше превосходительство!
– Вы… это… что такое?.. Цепь?..
– Начальник команды разведчиков, ваше превосходительство.
Генерал дожевал хвостик, сонными глазами, на каждом верхнем веке которых было по бородавке, обвел всего Венцславовича, потянул носом и сказал, морщась, Корну:
– Что это так… завоняло, а?..
– От ног, – пригляделся Корн.
– Ваше превосходительство… попали случайно на свалки, – объяснил Юрий Львович.
– На свал-ки?.. Прочь, прочь!.. Идите!.. Назад!.. – замахал на него генерал толстыми жирными пальцами обеих рук. – И все чтобы назад!.. В казармы!.. Своей местности не знают!.. «На свалки»!.. Пф, пф, – на-во-ня-ли как, а?..
И когда пошел назад Венцславович, движением рук и кивками головы осаживая своих разведчиков и наступающие цепи, он заметил косвенным взглядом, как шофер и механик снимали с тополя белый платок…
Горнист первой роты затрубил отбой… Игра кончилась.
А минут через двадцать Иван Васильич видел, как проезжал мимо в город, трубя, чтобы сторонились повозки, лимузин с генералом Горбацким, начальником штаба дивизии и Черепановым.
Когда часам к девяти утра Иван Васильич все в том же обозе и теперь уже впереди третьего батальона подъезжал к воротам казарм, гимназист какой-то высокий и тонкий зачем-то стоял поодаль от часового и глядел на обоз.
От беспокойной этой ночи, полной колесного грохота и темноты, холостых залпов и мозглого холода, Ивану Васильичу нехорошо было: в ушах неразборчиво стучало, глаза устали видеть общесолдатское серое тесто, полная ненужность этой поездки ночной огорчала, почти оскорбляла так, что хоть бы пожаловаться своему кучеру, как жаловался он городовому в два часа ночи.
Но солдат, голова пирогом, теперь ретиво, как ни в чем не бывало, натягивал вожжи, чтобы не напирала слишком на передние повозки его лошадь, почуявшая близкие конюшни и кормушки с сеном из имения Нуджевского.
И когда перед казармой своротил с дороги на свое постоянное место обоз и ступил, наконец, твердо на знакомую, туго убитую солдатскими сапогами землю Иван Васильич, он заметил – идет в его сторону длинный гимназист, идет, и не верится, однако ясно, что это – Володя.
И еще только старался догадаться Иван Васильич, какой сегодня праздник, – почему не в гимназии Володя, – как он подошел бледный, с красными глазами, очень взволнованный и срыву крикнул почему-то визгливо:
– А папа и не знает, что…
– Что такое?.. Володя!.. – испугался Иван Васильич и за локоть его ухватил крепко.
Володя глянул на лошадей, на солдат рядом и докончил тихо, но очень брезгливо:
– Елька дрянь, грязь… метреской стала… полковника Ревашова!..
До того взволнованное, что даже почти плачущее стало его длинное лицо.
– Еля?.. Как?.. Что ты говоришь?..
И пошел вдруг отец торопливо вперед, а сын за ним.
– Елька, да!.. Метреской!..
Еще вдумывался отец в это слово, – что оно значит такое, а сын уже частил и сыпал наболевшими словами.
– Скандал на целый город!.. Девчонка!.. Дрянь!.. Повесилась на шею!.. Старику!.. Продалась!.. Папа!.. Нужно туда ехать сейчас же!.. К нему!.. К Ревашову!..
– Но ведь постой!.. Что ты!.. Откуда?.. Ревашов… он ведь защищал вокзал этой ночью!.. Ты не то!.. Вокзал!.. По тревоге!..
– Где тревога?.. Какая?.. Драгуны на ученье!.. Я там был сейчас!.. Письмо от нее!.. Письмо с денщиком. Дрянь она! Гнусную записку прислала!.. «А про Верцетрикса пусть отвечает Лия Каплан»!.. Вот мерзавка!..
Возмущенные глаза Володи сверкали, мигали, и от этого поморщился болезненно Иван Васильич и простонал почти:
– Ах, ничего я не понимаю!.. Ничего!.. Пойдем отсюда, пойдем!..
Они было двинулись оба стремительно от фыркающих законченно лошадей, от зеленых колес прочнейших, становящихся снова на долгий отдых, но нельзя было уйти далеко: тот, кто потревожил почти две тысячи человек ночью, он был еще здесь, в казарме, – он и явился только затем, чтобы сегодня никто от него не смел уйти.
И едва отошел Иван Васильич шагов на двадцать, взволнованно слушая бессвязную речь Володи о «подлеце Ревашове» и «мерзавке, которую стыдно назвать сестрой», – как сзади бежал уже, звонко, как лошадь, топая, солдат и кричал на бегу:
– Ваше благородия!..
А шагов через пять поправился:
– Ваше сокбродь!
Остановился Иван Васильич, и белесый солдатик, с каплями пота на светло-свекольном носу, доложил, вздевши руку:
– Просют до командира полка вашу честь!
Так и сказал «вашу честь»… Это был солдатик из обоза, конечно, из новобранцев, и не твердо еще знал, как называть полкового врача.
Сказал и задышал облегченно разинутым ртом и голову сбочил, как птица, только что перелетевшая через море.
– Ну что же, Володя… Говорят, вон куда идти надо!.. А ты уж в гимназию пока, голубчик!..
– В гимназию?.. Чтобы меня на смех там подняли?.. Ни за что не пойду в гимназию! – и дернулся Володя всем телом.
– Ну как же быть… Ну, домой пойди… Я сейчас… Ведь и мальчик этот… скарлатина… заехать бы надо, и нельзя… И Еля еще!.. Ах, Еля, Еля!.. Вот не думал!.. Вот не ждал этого! Иди же домой, Володичка, – я сейчас!
И нетвердой походкой пошел к воротам казармы, а белесый солдатик вразвалку, но усердно глядя ему в ноги, чтобы взять шаг, за ним неотступно, точно гнал его.
На двор казармы между тем прошел уже 3-й батальон, и теперь вздвоенными рядами, гудя вливались роты 2-го, и команды звонкие слышались:
– В помещение!.. Ря-яды стройся!.. К но-ге-п!
Иван Васильич долго сквозь рыжее месиво солдат на дворе искал глазами высокого Черепанова, пока не вспомнил, что он не может быть один, что он теперь второе здесь лицо, даже третье, а первые два – генерал Горбацкий и начальник штаба полковник Корн.
И когда подошел, наконец, к дверям околотка, нашел всех троих, и генерал говорил почему-то громко:
– Это не относится, нет!.. Это не относится к его службе!..
И указательным пальцем махал около своего носа.
Внутри же сеней околотка, куда уже настежь была открыта дверь с качающимся блоком, виднелся великолепный, прямо и смирно лежащий светлый ус фельдшера Грабовского.
Когда подошел Иван Васильич и, остановясь зачем-то, совершенно непроизвольно щелкнул каблук о каблук, беря под козырек, Черепанов сказал густо:
– А-а, вот… Старший врач Худолей!
Генерал протянул в сторону Ивана Васильича тот самый указательный палец, поглядел, остро прищурясь, и прогнусавил длинно:
– Мм… та-ак-с!.. Старший врач Худолей… – что уже само по себе ничего хорошего не предвещало.
Потом бородавки на его верхних веках задвигались, и под ними выпуклые черные глаза поглядели очень вопросительно, точно ожидали, что он придумает в оправдание того, что он – старший врач.
Иван Васильич стоял руки по швам, а Горбацкий глядел, пока не вздохнул, наконец, почему-то и не сказал уныло:
– Ну, покажите мне ваш околоток.
Черепанов мигнул ему на дверь, и он понял, сказал: «Слушаю!» – первый вошел мимо Грабовского в свою полковую больничку и тем четырем солдатам, которые находились там и стояли и без того вытянувшись у топчанов, скомандовал, как в таких случаях полагалось:
– Встать!.. Смирно! – и, глаза к двери, взял под козырек.
Больные солдаты, поворотом голов напружинив шеи, глядели в дверь, как дикие кони, выкатив белки.
Генерал поздоровался. Они гаркнули не в лад. Генерал оглядел кругом стены, потолок, где-то в углу заметил паутину и протянул туда перст.
– Это… что, а?.. Должно это быть?.. Нет-с!.. Грязно!.. Да-с!.. Грязно!.. И… и воздух тут…
– Открыть окно! – густо пустил Черепанов.
Фельдшер Грабовский бросился открывать форточку.
– Чем больны? – кивнул на солдат генерал.
– Лихорадка… Прострел… Чирей на ноге… – поочередно показывал на своих больных Иван Васильич, а больные эти впились в генерала глазами диких коней, особенно черный болгарин Апазов, немного даже страшный излишним усердием.
Генерал поглядел на Апазова очень внимательно и спросил вдруг:
– А младший врач где?.. Есть младший врач?
– Еще не вернулся, ваше превосходительство.
– От-ку-да не вернулся? – строго спросил генерал. – В от-пус-ку?
– С первым батальоном пошел, – ответил Иван Васильич.
– Ка-ак с первым?.. Как же вы это… вперли его туда?
– Полковник Елец приказал, ваше превосходительство…
И почувствовал Иван Васильич, что безымянный палец его в руке у козырька слабо вдруг задрожал.
– Ка-ак это полковник Елец? Где полковник Елец?
Все оглянулись на дверь, в которую протискивался откуда-то подошедший Елец. Он был чугунно-багровый, но сказал твердо:
– Такого приказания, ваше превосходительство, я не мог сделать и не делал! Врачи должны были быть при обозе…
– Как же так не делали? – очень изумился Иван Васильич и только что хотел сослаться на Грабовского, как генерал крикнул вдруг:
– Извольте слушать, а не… не… не толочь черта в ступе! Какие приказания вам?.. Сами должны знать без приказаний, где ваши места!.. В авангарде, – там ротные фельдшера и санитары… А вы извольте служить и зна-ать службу, а не так!.. Не посторонние дела, а чтобы служба-с!.. Я знаю!
Лицо у генерала стало очень ненавидящим вдруг и лупоглазым, и мешки под глазами вздулись.
«Донос какой-то нелепый?» – думал Иван Васильич, глядя прямо в эти мешки, и вслед за безымянным пальцем начали дрожать средний и мизинец.
– И волосы не угодно ль либеральные эти… подстричь! – неожиданно закончил генерал и двинулся к выходу, отдуваясь и поправляя орден на шее, который только теперь блеснул из-под серой бороды между красных отворотов шинели.
За деревянной перегородкой, где была аптечка и стояла койка Перепелицы, Иван Васильич устало сел, не на табурет, а на эту самую койку, застланную шерстяным тигровым одеялом, и слушал, глядя в пол, как горячо говорил Грабовский:
– Нет, как вы хотите, а это уж я и не знаю что!.. Ведь при мне же говорил полковник Елец: «Младшего врача – с первым батальоном…» Я даже удивился!..
– Удивились?.. Отчего же мне не сказали?
– Да, знаете, ведь все думаешь: начальство!.. Оно, думаешь, лучше нас знает.
– Я пойду домой, – кротко сказал Иван Васильич и поднялся.
Но Грабовский удивился очень:
– Что вы, – домой! Разве теперь можно?.. Вдруг еще что-нибудь…
– Еще вздумает на меня кричать?.. – и улыбнулся горько Иван Васильич. – Сколько лет служу, – это в первый раз на меня так кричали!.. – Вспомнил про Елю и добавил: – И нужно же, чтобы теперь это, когда… в такой день!..
В это время вошел круглоликий с куриным носиком Перепелица и сказал, усмехаясь:
– В музыкантскую команду пошел, а там как раз к сверхсрочному Пинчуку жена из деревни приехала: зайти зашла, а выйти боится… Под топчаны спрятали!.. Если увидит, – вот будет каша!.. Съест Буздырханова!
И только Грабовский поглядел на него осуждающе и с тоской, Иван же Васильич разминал левой рукою пальцы на своей правой руке и упорно думал при этом: почему они у него так по-мальчишески вздумали вести себя только что при генерале?
Офицерский народ, наполнивший зал собрания после осмотра казарм генералом, был голоден, и к буфету ломились.
Хозяин собрания, поручик Ильин, едва успевал записывать, кто на сколько напил у стойки.
Иван Васильич вошел в собрание вместе со всеми и так же, как все, выпил одну за другой две рюмки, но потом сел не за общий длинный стол, а подальше от генерала, за небольшой в углу, где уж сидело трое: капитан Сутормин из второй роты, капитан Караманов из пятнадцатой и поручик Шорохов.
Неловко, как и всегда бывало с ним в собрании, придвинулся он боком, поклонился очень церемонно и спросил:
– С вами, господа, можно?
И капитан Караманов с сильной проседью в черном ежике волос, очень смуглый и с длинным кривым носом, сказал:
– Говорят наши балаклавские греки: доктору честь и трон! – и тронул рукою стул, взметнув на Ивана Васильича жирным, как маслина, глазом.
А капитан Сутормин, стройный и бравый человек, лет сорока, но со странной наклонностью всех подозревать в плутовстве, подмигнул ему хитро, потер руки и рассыпал добродушный горох:
– Ррракальство, – а?.. Доктор в собррании завтрракать решился!.. И уже… пропустил киндеррбальзаму!
Шорохов же, поручик, поднял на него от стола один (правый) ус, блеклый по цвету, но стоящий лихо под прямым углом, и не то пожаловался, не то похвастал ни с того, ни с сего:
– А мне сегодня в городской караул рундом!
– Ты посмотри-ка там на главной гауптвахте, – говорят, штабс-ротмистр Зеленецкий деньги арестованных пропил, – ей-богу! – ввернул Караманов весело.
А Сутормин опять потер руки, опять подмигнул хитро и горох рассыпал:
– Рракальство!.. Протопи поди, порручик Шоррох, дабы не пропиться тебе!..
– Господа! – обвел всех трех усталыми глазами Иван Васильич. – А как вы думаете, если бы, например… горячего борщу… или супа?
Он совсем не о том хотел сказать: он хотел как-нибудь намеком, обходом каким-нибудь осторожным спросить о своем, – об Еле и о полковнике Ревашове, – как бы кто из них поступил на его месте, но не нашел для этого таких отдаленных слов. Он и этим вопросом своим очень удивил Караманова.
– Бо-орщу!.. – совсем закривил нос Караманов. – В десять часов утра какой это вам борщ?
А бравый Сутормин положил свою руку на его плечо и протянул очень умиленно:
– Давайте, цвибельклопсик закажем, а?.. Идет? – и, не дожидаясь, что он скажет, застучал ножом по тарелке.
В это время шумно было кругом, несмотря на то, что под люстрой, посередине стола пышно сидел начальник дивизии. Со всех сторон стучали ножами по тарелкам, и всюду метались солдаты с подносами, было уж накурено до синего тумана, а из тумана этого выхватывал глаз то крутую лысину, то блеск погона на крутом плече, то крутую щеку, щедро красную от водки и прогулки по ночным полям.
Около генерала розеткой расселось штаб-офицерство полка, и сияющ был лик полковника Корна, так что нет-нет да и взглядывал на него Иван Васильич: приятно было, что он очень спокоен, ко всем кругом благожелателен, молод еще и так на диво выхолен и так вынослив, что совершенно свеж после бессонной ночи.
Он заметил, что и в околотке, когда кричал генерал, то смотрел на него, на своего начальника, несколько удивленно и непонимающе полковник Корн.
А генерал огрузнел, и еще больше, чем в околотке, набрякло у него подглазье: снизу мешки, сверху бородавки, и между ними тускло что-то чернело… Челюсти же работали больше насчет передних зубов, отчего серые усы все целовались с нахлобученным носом, и серая борода вела себя очень беспорядочно.
Громко говорили все кругом, однако яснее и отчетливей все-таки было то, что капитан Сутормин, подмигивая, пытался втолковать Караманову:
– По полевому уставу, брратец ты мой, – да не по старому, какой ты в юнкерском учил, а по новому, от прошлого года, никакого прикрытия к обозу первого разряда не полагается, а Кубарев взял у меня взвод на прикрытие!.. Понял?!
– Разве не полагается? – спрашивал Караманов.
– Ага!.. Я, бррат, знал ведь, что ты не знаешь!
– А на черта мне это знать?.. Обоз полковой, а не ротный…
Поручик отозвался тоже:
– Не полагается днем, – это так, согласен… А ночное движение… в уставе не сказано…
Подскочивший к столику солдат-буфетный помешал Сутормину установить точно насчет ночных движений и прикрытия: нужно было заказать цвибельклопс на четверых, – и поручик добавил, небрежно утюжа усы:
– А у нас в роте чуть солдат не утонул, черт его знает…
– Ну уж, ну, у-то-нул! – скривил нос Караманов.
– Факт!.. В колодезь упал… Дозорный один…
– До-зор-ный!.. И вытащили?..
– Да колодезь был полный, а шейка, понимаешь ли, узенькая… сам вылез… болван, черт его знает!.. Ну уж мокрый шел, как… бредень!..
И очень довольный, что рассказал занятное так складно, поручик Шорохов посмотрел улыбаясь не только на всех за своим столом, но и на генерала под люстрой.
Цвибельклопс был любимое и дежурное блюдо в полку, – его не пришлось ждать долго, и когда он задымился на столе, Иван Васильич пригляделся несмело к остальным троим и сказал очень для всех неожиданно:
– Может быть… водочки возьмем… графинчик?
– Ого, доктор!.. Брраво, эскулап!.. Угощаете? – подхватил Сутормин.
– Я?.. Да… Отчего же…
– В кои-то веки! – повеселел Караманов.
А Сутормин умиленно положил руку на руку Ивана Васильича, рассыпал свое: «Ррракальство!» – и подмигнул левым глазом.
Но тут Шорохов, сидевший лицом ко входной в собрание двери, протянул командно, как на ученье:
– Ка-ва-лерия… с фронта!
И все оглянулись на дверь, куда он смотрел, и, озадаченно открывши рот, полуподнявшись, увидел Иван Васильич вошедшего в зал полковника Ревашова: колыхался в дыму синем, брякая шпорами, и вот подошел прямо к тому месту стола, где сидел генерал.
Совершенно выпрямился было Иван Васильич, но кинул ему насмешливо Караманов:
– А кто вам командовал «встать», доктор?.. Можете не беспокоиться!..
Но, и садясь, следил Иван Васильич, как здоровался с генералом и Корном и Черепановым Ревашов и как раздвинулась розетка около Горбацкого, чтобы усадить гостя.
– Он с рапортом, как начальник гарнизона, или так? – спросил несмело Иван Васильич Караманова.
– Если бы с рапортом, – мы бы для приличия тоже встали, – ответил тот, а Сутормин добавил:
– Он за ним посылал, кажется, – Горбацкий… Он ему по жене покойной какая-то вода на киселе…
– Десятая, – догадался Шорохов.
Из принесенного солдатом графинчика выпил Иван Васильич еще две рюмки, пробормотавши после второй:
– Чувствую как будто озноб маленький… а спирт – он все-таки согревает…
– Браво, эскулапия! – подмигнул Сутормин, и Иван Васильич вспомнил вдруг, что капитан этот тоже имеет дочь-гимназистку, и спросил зачем-то совершенно неожиданно для Сутормина:
– Как ваша девочка?.. Помню ее… видел… славная такая…
– У меня их две… Вы о которой? – удивился вопросу капитан.
– О старшей это я, о старшей, – сконфузился было, но тут же оправился Иван Васильич.
– Старшая – Катя, а младшая – Варя… Что же им?.. Цветут и благоухают… Тянут с папаши соки…
– Старшая?
– Да и младшая тоже не отстает…
– А она в каком же классе… Катя?
– Да ведь в одном, кажется, с вашей… в шестом… Ррракальство, – графинчик наш мал и ничтожен!.. Болтается одна рюмка на дне!
– И той нет! – сказал Караманов, налил себе и поспешно выпил.
На одну минуту, видя, что не знает Сутормин и никто за столом о Еле (да и откуда они могли бы узнать?), на одну минуту всего хотелось забыться Ивану Васильичу, и повторил он по-отцовски благодушно, что сказал бравый капитан с подмигом левого глаза:
– Да-а… тянут соки!.. Тянут… Это так!.. – но не выдержал и минуты забытья.
С Колей было не то… Уволен из гимназии за брошюрки, арестован потом – сидит в тюрьме, ждет высылки куда-то, – не хорошо, но не стыдно, как с Елей!.. Не зря зеленое лицо и глаза красные были у Володи. Некогда было и спросить о Зинаиде Ефимовне: прибежал белобрысый солдатик с потным носом и погнал на разнос к генералу, – но ведь у нее такое плохое сердце, и она тоже не спала ночь – стерегла дочку со своим старым башмаком в кармане…
Ревашов пришелся задом к их столику, и Иван Васильич когда бы ни отрывал глаза от своих в его сторону, – все видел безволосый, гладкий, прочный шар его головы, налитую красную шею и толстую спину, плотно обтянутую мундиром.
Со всех сторон говорили громко, гул от голосов стоял в зале, но только туда, под люстру тянулось ухо, только там говорилось что-то для него значительное, важное… и страшное.
Вот захохотал раскатисто Ревашов на какую-то шутку генерала, конечно – кого же еще? Черепанов не мог бы пошутить, – не умел, а Кубареву шутить при генерале было бы неприлично… – как, отвалившись, плотно упер он толстую спину в спинку стула!.. Вот-вот не выдержит, – треснет и расскочится легкий венский стул!..
Иван Васильич раза два провел ладонью по волосам и, когда почувствовал, что сидеть уж больше не может, отставил от себя тарелку с цвибельклопсом и поднялся.
Мимо столиков нетвердой своей вообще, а теперь, после водки, еще более вихляющейся походкой, продвинулся Иван Васильич к большому столу, к люстре, под бородавчатые генеральские глаза и стал перед красной шеей, толстой спиной и гладкой головой, похожей на шар…
Стал на момент, на два, но уж почувствовал огромную неловкость оттого, что стоит здесь неизвестно зачем, и, наклонившись срыву, сзади, к уху Ревашова, – к плоскому яркому уху, волосатому внутри, – сказал шепотом:
– Я… изумлен, полковник!
Он шел сюда не с тем, – он думал, что просто зайдет несколько сбоку между Ревашовым и Ельцом и скажет первому вслух и отчетливо: «Вы – мерзавец!..», но сказалось почему-то это вот – «Я изумлен» – на ухо и шепотом.
Однако и этого было достаточно, чтобы ошеломленно обернулась гладкая, как шар, голова и, тужась, толстая спина поднялась над спинкой стула.
– Доктор Худолей?.. Здравствуйте! – вполголоса сказал Ревашов и протянул руку.
Тут было несколько пар глаз около, любопытно на них обоих глядевших, – и бородавчатые в мешках тоже, – вот почему свою узкую руку сунул Иван Васильич навстречу этой заплывшей руке и сказал:
– Нам надобно поговорить с вами…
Хотел сказать твердо «мне», а сказалось «нам»…
– Нам с вами?.. О чем?.. – спросил было Ревашов, но тут же, извинясь перед генералом, и кивнув Черепанову, и быстро оглядев зал, захватил левой рукой локоть правой руки Худолея и пошел со шпорным лязгом к отворенной двери библиотеки. Иван Васильич всячески пытался не отставать, а идти с ним вровень, чтобы не казалось всем кругом, что он его тащит.
В библиотеке было, конечно, пусто: три желтых шкафа с книгами под стеклом, стол с газетами на деревяшках, и ни одного стула: все были взяты в зал.
– Что же это такое? Послушайте! – начал горячо Иван Васильич, когда увидел себя только вдвоем с Ревашовым.
– Что такое?.. Почему вы волнуетесь? – и Ревашов положил руку на его погон.
– Как почему?.. Как?.. Вы мою дочь… девочку еще… Елю… и что вы сделали с нею?.. В метрески к вам?..
Иван Васильич весь дрожал, и никто бы не узнал теперь его глаз, обычно источавших жалость. Теперь они круглились, мигали часто, порозовели, и из христоподобных волос свисли на лоб и трепались две жидкие пряди.
– Позвольте-с, доктор!.. Вы получили ее письмо?.. Она ведь писала вам, что-о…
Руку свою Ревашов снял с его погона и грудь выпятил.
– Письмо?.. Какое?.. Когда?.. Это говорил мне сейчас Володя, мой сын… Я же был вызван по тревоге!
– А-а, да… Не читали?.. Ну вот, приедете домой, прочитаете… И все узнаете… Вот что: поезжайте прямо домой, а я следом за вами!.. Поезжайте сейчас же!..
Это было сказано командным тоном, точно Иван Васильич был офицер его полка. Ревашов и руку положил было опять на то же место его плеча, но Иван Васильич отступил на шаг и сбросил руку.
– Сейчас же скажите! – повысил он голос. – Я сейчас же хочу узнать это! Я – отец!..
Очень щегольской мундир был на этом большом, плотном старом полковнике, – и, может быть, Еля сама помогала ему его застегивать, помогала надевать эту шашку, как помогала иногда ему, – подавала кушак этот…
– Я прекрасно знаю, что вы – отец, но… ведь мы не приватно тут, послушайте, – а на службе!.. Поезжайте домой, говорю я вам!.. И протрезвитесь… Советую!
Совершенно брезгливо даже было сказано это Ревашовым, и Иван Васильич покраснел вдруг.
– Я не пьян, нет!.. Я хочу только узнать от вас, что вы сделали с моей девочкой?.. И как это вышло…
Но тут из залы раздался крепкий начальственный голос генерала:
– Господа штаб-… и обер-офицеры!
И все там задвигали стульями, подымаясь, и Ревашов поспешно повернулся и пошел в зал, а Иван Васильич почувствовал себя очень слабым, оглянулся, куда бы сесть, и сел на подоконник, уперевши ноги о стол с газетами. Голос же Горбацкого и сюда доносился отлично:
– Я знаю, господа, и знаю прекрасно, многие из вас, наверно, думают: «Тревога – тревога!.. А к чему?.. Пройтись по шоссе ночью верст пять, послушать, как из орудий стреляют, сапоги свои в гадость выпачкать… как этот… в очках поручик, начальник команды разведчиков… и только!..» Нет-с, не только-с!.. Экзамен выдержан полком не скажу, чтобы скверно, а так, лишь бы барщину отбыть… Полк выступил поздно!.. Это первое: поздно! А почему?.. Потому, что господа офицеры изволят жить от расположения полка своего как можно дальше… Это уж скверно-с!.. А средств нет ближе жить, или, там, детям ближе чтобы учиться ходить, – телефон заведи!.. Телефон, по-современному, а не чтобы солдат гонять… Пока солдат гоняли во все концы города, – часа два ведь прошло?.. Не меньше?.. То-то и да!.. А город стоит в сорока верстах от границы морской, а на границу десант могут подвезти во всякое время… Прошу на будущее иметь это в виду-с!.. В любой можете вы мо-мент… понадобиться для за-щи-ты… и царю-батюшке и матушке России!.. У нас ведь и дворцы их величеств и их высочеств, великих князей, на границе, на морском берегу… Это я говорю… для иллю-стра-ции, так сказать… Но-о могут потребовать нас с вами и подальше от наших тихих палестин… Балканы… это… очаг!.. Две войны уж там было, только что кончились, а где га-ран-тия, что третьей не будет?.. Такой, что и нас может задеть!.. Во-от!.. Прошу это про себя помнить!.. Лошади у вас в порядке… да… ло-шади… в большом порядке, а люди… могли бы быть и сытей!.. А люди – ночь не поспали как следует и уж ни к черту!.. От солнечного света качаются!.. Командиру довольствующей роты ставлю это на вид!.. Кто довольствует?..
– Я, ваше превосходительство!
И протолкался вперед брюхатый капитан Целованьев.
– Ка-ков!.. – удивился даже как будто генерал. – Небось самого себя он откормил на славу, а вот людей в тело вогнать не умеет!..
Махнул на Целованьева рукой и поднял голос, чтобы закончить:
– Так вот, господа, и еще, может быть, – да не «может быть», а наверное, обеспокою я вас ночью и дам задачу, – на сборы тогда чтоб… не больше сорока минут!.. Как хотите, – хоть на крыльях летите… И местность свою знать, как… свою ладонь!.. И все замечания мои, о которых в приказе по дивизии будет, принять к сведению и руководству… И на тактические задачи налечь!.. Командир полка! (Кивок головы в сторону Черепанова.) Помощник командира! (Другой кивок в сторону Ельца.) Командиры батальонов! (Борода направо, борода налево.) На вашу ответственность!.. Вот-с!.. Больше двусторонних маневров, чем шагистики!.. Стрельба!.. Зимнюю стрельбу сам проверять буду!.. Не на па-ра-ды только людей го-то-вить (палец около носа), а-а-а… (Палец от носа в сторону и немного кверху.) Прошу иметь это обстоятельство всегда в виду!.. Ну, а теперь… Покушали, послушали… и можете быть свободны!.. Еще раз, господа, спасибо за службу! (Борода резко вперед.)
Офицеры кругом грянули: «Рады стараться!», но заметил Иван Васильич, что очень насторожились даже и после этого крика у всех лица.
– Ваше превосходительство, позвольте узнать, – раздался вдруг красивый теноровый голос, – что это была за артиллерия против нас?
– А кто это хочет узнать? – удивленно поднял свои бородавки генерал.
Но тот же бодрый и красивый голос отозвался:
– Начальник учебной команды, штабс-капитан фон Дерфельден!
– Гм… Любопытный какой!.. – крякнул генерал, но добавил добродушнее, чем начал: – Занял по дороге полубатарею… капитан фон Дерфельден!.. А где была ваша команда во время ночного движения?
– При главных силах, ваше превосходительство!
– Неправильно!.. При главных силах!.. Неправильно-с!..
– Другого приказания не получал, ваше превосходительство!
– Неправильно!.. Оплошность командира полка…
Но Иван Васильич не слышал, в чем была тут оплошность Черепанова, он не слушал даже, что говорил генерал: ему это не нужно было. Он увидел круглое лицо подпоручика Самородова, который говорил ему ночью о своей болезни, и подумал вдруг: «А что, если этой же самородовской болезнью болен и Ревашов?» Очень нехорошо стало от этой мысли, но, видя, что продвигаются все вслед за генералом к выходу из собрания, Иван Васильич решительно вмешался в толпу и в толпе этой стал пробираться ближе к Ревашову: ему узнать хотелось, когда именно он думает приехать, во сколько часов, к нему, на улицу Гоголя,
У дверей при выходе опять показалась прямо перед ним в двух не более шагах круглая, голая, лоснящаяся голова полковника Ревашова рядом с похожей, только более узкой кверху головой Ельца, и когда вышел генерал в коридор, ведущий к раздевальной, напирающие сзади толкнули Ивана Васильича так, что, не удержавшись, прямо в спину Ревашова пришелся он плечом.
Быстро повернулась к нему красная шея, давшая наплыв над тугим воротником, и потом серый глаз, круглый и презрительный, жирная губа и сдержанный голос:
– Мне это не нравится, доктор!
– Не нравится?.. А мне?.. Мне?.. – не совладел со своим голосом Иван Васильич, и вышло крикливо и заносчиво.
– Я вам сказал уже… и прошу вас, доктор… – вполголоса, но очень выразительно говорил и строго глядел на него Ревашов, продвигаясь за генералом.
– А я вам говорю… – начал было громко Иван Васильич, но тут Черепанов, о чем-то толковавший генералу, обернулся с кислым лицом:
– Тише там, господа, пожалуйста!.. Ничего неслышно!..
И тут же спереди Елец поднял на Ивана Васильича безволосые брови, а сзади Кубарев два раза стукнул пальцами по его правой лопатке, и он замолчал и осел как-то бессильно, а Ревашов тем временем в два-три шага кривых ног догнал генерала и пошел рядом с ним, и некому уж вблизи было сказать об Еле.
Очень отчетливо в гулком коридоре звякали шпоры штабс-офицеров, плечи теснились, и пахло табаком, спиртом и потом.
Генерал же говорил раскатисто:
– Собрание у вас богатое! А вот в четвертом полку ни-ку-да!.. И казармы там дрянь!.. В чем виноват город, конечно: скупится!..
Не понял Иван Васильич, в чем виноват город, в котором стоит четвертый полк, но уж прошел генерал в раздевальную.
– Что это вы, доктор, говорили Ревашову? – спросил сзади поручик Шорохов.
Оглянулся Иван Васильич, удивился даже:
– А зачем это вам нужно? – и поднял плечи.
В раздевальню набилось густо, и, как всегда бывает, зачем-то все спешили скорее одеться, и руки затурканных солдат, подававших шинели, метались вполне бессистемно.
А когда Иван Васильич вышел, наконец, во двор казарм, где было солнечно, просторно, чуть-чуть морозно и шумно от тысячи солдат за окнами, ясно стало ему, что он вел себя в собрании очень странно, – что здесь полк, смотр начальника дивизии, служба, – мужская служба: если хоть завтра пошлют всех этих людей на смерть, они пойдут и умрут…
Совершенно некому было сказать о своей девочке Еле и незачем говорить.
Глава одиннадцатая
Чистилище
Слишком много времени надо, чтобы себя найти; иным, бедным духом, не хватает для этого целой жизни; зато с какой стремительной быстротой иногда себя теряют!..
Когда частный пристав, широкобородый, весьма представительный шатен, пахнущий шипром, отпустив после допроса Макухина и Наталью Львовну, оставил Алексея Иваныча пока арестованным при части, – это был уже не тот Алексей Иваныч, другой…
Фамилия этого также писалась – Дивеев, и так же, как днем-двумя раньше, значилось в написанной о нем приставом бумажке, что он – коллежский асессор и имеет от роду 35 лет, но о том, что узнал о нем и прочно знал пристав, совершенно забыл прежний Алексей Иваныч… Он почему-то стал вдруг просто Дивеев, чего давно уже не было с ним (было до Вали, когда он учился), и со странною ясностью почему-то стало носиться перед ним не то, что было около и сегодня днем, а старое, студенческое, просто дивеевское, задолго до Ильи, задолго до Мити, даже до Вали… Но в то же время, когда его спрашивали, какой системы был его револьвер, он без запинки отвечал:
– Парабеллюм!
Он хорошо помнил частности, мелочи, например: сегодняшнюю волчью шубу Ильи, красные волчьи из-под шерсти шапки глаза Асклепиодота, черновекую армянку с двумя девочками, дьякона, который ел курицу, павлина, который сидел на парапете шоссейной казармы, наконец Наталью Львовну, как ее, обхватив поперек, точно сатир нимфу, уносил на руках Макухин, – но все это мелькало в особицу: появится вдруг, блеснет и исчезнет… То здание, по-своему стройное и имевшее какой-то смысл, которое создал было он себе из этих людей и явлений, вдруг рухнуло в нем куда-то ниже его…
Как паук-крестовик, из тонких, блестящих нитей свил он какую-то хитрую сеть исключительно для того только, чтобы поймать своего врага – синего шмеля… Каждый день он все расширял и укреплял сети, каждый день с замиранием сердца ждал… вот он летает около, темный, прочно сработанный, и гудит вызывающе!.. Около!.. Близко… Сейчас, сейчас!.. Вся жизнь свелась только к этому: – Поймать?.. Не ловить?.. Около!.. Близко!.. Сейчас!.. – И, трубя победно, ослепленный солнцем удачи, ворвался шмель в паутину… попался!.. И он добежал до шмеля и прокусил его тело давно готовыми к этому зубами… Но, падая, сдернул шмель на пол всю его сложную сеть и его самого… Вмешались около, думая спасти шмеля, а его выкинули гадливо куда-то вон из жизни…
Только в том странном здании, которое построил для себя Алексей Иваныч, он еще и держался последние месяцы, но рухнуло оно, и как же мог вспомнить он, почему и зачем его строил?.. Еще частному приставу он бормотал что-то полусвязное и отнюдь не с тем жаром, как жандармскому вахмистру на вокзале, но, проведя ночь в кордегардии при части, пустой и холодной, следователю на другой день он уже ничего не мог сказать. Он смотрел на форменную строгую тужурку с золотыми наплечниками, выслушивал строгие, точные по форме вопросы, рассматривал, казалось бы, внимательно, холеные белесые симметрично изогнутые, точно приготовленные для капители мавританской колонны усы его и под ними спереди, вверху три золотых зуба, поднимал свои глаза на высоту его серых холодных и пустых глаз, но тут же опускал, так и не пытаясь даже узнать, каков лоб над этими глазами.
Вопросы свои следователь повторял по два и по три раза, но Алексей Иваныч или только пожимал недоуменно плечами и молчал, или чистосердечно вполне отвечал:
– Не знаю, простите… Не представляю ясно…
И только когда услышал почему-то очень знакомый вопрос:
– А какой системы был ваш револьвер?
С большой готовностью ответил:
– Парабеллюм!
От следователя был он отправлен в тюрьму. Тюрьма тут была недалеко от вокзала, и ее из окон вокзала раньше видел Алексей Иваныч, но теперь, будучи только Дивеевым, он не узнал ее. Высокая стена на улицу, окованные темные ворота, полосатая около них будка и дальше, за всем этим, тяжелый второй этаж и решетки в окнах…
– Это чистилище? – почему-то очень серьезно и вполголоса спросил Алексей Иваныч молодого помощника смотрителя, блондина в пенсне, в барашковой шапочке и черной шинели, вошедшего с надворья следом за ним в приемную.
– Вроде того! – ответил весело помощник, посмотрел бумажку, поданную городовым, и добавил еще веселее: – Ага!.. Дивеев!.. Так это вы самый и есть?.. Та-ак!..
– Вы меня ждали? – удивленно спросил Алексей Иваныч.
– Еще бы нет!.. Мы хронику в газете читаем…
Дивеев этого не понял… Дивеев увидал тут еще одного, старого, с прижатым носом, с седыми усами, как у моржа, и с револьвером на синем шнуре. Старый хрипуче спросил молодого:
– В какую камеру?
Молодой ответил, подумав:
– В третью.
А старый сказал ему, Дивееву:
– Раздевайтесь… Сейчас одежду дам.
– Раздеваться? – переспросил Дивеев.
– Переодеваться, – объяснил молодой и стал что-то вписывать и толстую книгу, сильно нажимая на перо.
Дивеев смотрел на то, как он писал, и думал о нем: «Должно быть, пальцы озябли…» Тут же заметил он, что пол в приемной бетонный, шлифованный, стены побелены недавно, – этим летом… И потом, вспомнив, что нужно (кто-то так сказал) раздеваться, снял свою бурку, подержал в руках, положил на деревянный желтый диван и сел рядом.
– Все снимайте! – вдруг неожиданно строго приказал молодой, держа почему-то в руках его замшевый кошелек.
Дивеев поглядел на него довольно устойчиво с полминуты и медленно начал снимать пиджак.
Точно ртутный шарик термометра выскочил из разбитой стеклянной трубки, разбился на массу мельчайших игривых шариков, и все они запрыгали и забегали по полу перед глазами. Шарик в трубке имел назначение и смысл; эти же маленькие никакого смысла не имели, и чрезвычайно утомительно глазам было следить за ними. Шарик термометра был для Алексея Иваныча – Илья, но вот разбилась трубка, забегали кругом маленькие, – утомительно и ненужно… Лучше спать, да… И Дивеев остался в одном нижнем белье и отчетливо думал о деревянном желтом диване: «Жестко…» и, упершись глазами в красные пальцы молодого, почувствовал холод ниже шеи, между лопатками, и поежился.
– Белье тоже долой! – приказал молодой равнодушно. – Принесут казенное…
– Казенное? – повторил Дивеев, не понявши этого слова, но появился перед ним старый, с охапкой в руках, и сказал строго:
– А ну, зкиньте рубаху – споднее!..
И повесил перед ним на спинку стула верблюжьего сукна бушлат с казенным клеймом внутри.
Покорно пожав косым левым плечом, Дивеев скинул рубашку…
Лестница на второй этаж, не шире, чем в два аршина, была тоже из шлифованного бетона, перила простые железные, – это Дивеев четко отметил, когда подымался по ней рядом со старым… Окно перед площадкой лестницы на втором этаже, очень мутное и с решеткой, он тоже заметил, по привычке замечать просветы стен в домах, и потом длинный коридор за высокой, охрой окрашенною двойною дверью, коридор широкий и почему-то слегка синий: так показалось после лестницы.
Дверь в общую камеру отпер не старый, а другой, черный и в черной оспе лицо, и когда протолкнул его в эту камеру старый, увидел Дивеев: многооконное, светлое (окна были на солнце) и несколько пятен в нем светло-рыжих и белых и две пары отчетливых глаз, и от порога, тут же, только войдя, только выставив вперед левую ногу, он приставил быстро к ней правую, каблук к каблуку, и поклонился чинно.

Он не объяснил бы, зачем это сделал и так серьезно и с такой учтивостью, и зачем потом потупил глаза, а не оглядел сразу все и всех бегуче, как это умел еще вчера Алексей Иваныч.
– Вот твое место, – указал старый, – иди-ка сюда вот… А на довольствие завтра зачислят… Денег на руки не получишь, – все одно скрадут…
– У меня были деньги… – вдруг вспомнил Дивеев.
– Это все записано в приемной… Нам известно… В случае нужно будет, мы дадим…
Это очень отчетливо слышал Дивеев; потом он сел на топчан, указанный старым, и не заметил, как он ушел, сидел, согнувшись, и смотрел между кончиками своих туфель, а когда захохотал кто-то около него, поднял глаза так осторожно, точно боялся ими обжечь или столкнуть того, кто хохочет, – столкнуть в пропасть.
Необыкновенный ударил в него свет, почти нестерпимый для глаз (никогда в жизни не видел такого Дивеев!) – свет пластами, слоями, и в свете этом, прямо тут же, около, широкоухое, широкощекое, придавленное сверху, многозубое, розовое, безглазое лицо, подпертое снизу желтым воротом бушлата.
Тут только дошло до сознания слово «довольствие», как сказал надзиратель. Слова этого он не понял, – показалось «удовольствие»… И хохот около, как камни сыпались в уши…
– Удовольствие? – бормотал Дивеев в испуге. – Вот это – удовольствие?..
Резкий вдруг мальчишеский окрик сзади:
– Много чубурахнул, дядя?..
И другой около голос, как камни в уши:
– Врозволочь пьяный!
И шершавое прошлось, как терка, по его левой щеке, и вылез спереди страшный, немигающий черный выпученный глаз и под ним нос курносый:
– А ну, дыхни!
Дивеев откачнул голову назад, наткнулся на чью-то жесткую руку… Вскочил, и все заходило кругами: ярчайшие полосы света, лица, бушлаты, топчаны… и сверлящая раздалась боль в обоих висках, такая боль, что высоко вздернул он брови и рот открыл широко, как мог, чтобы крикнуть в голос…
Но не крикнул, – так и остался с открытым ртом: вдруг показались страшно почему-то знакомыми маленькие серые глаза в набрякших веках, и он сдавил с усилием челюсти и подался к ним стремительно, бормотнув удивленно:
– Как?.. И вы… вы тоже здесь?..
– А ты ж меня откудова знаешь? – отозвались набрякшие глаза и придвинулись.
– Нет, нет! – откачнулся Дивеев.
Но придвигалось все набрякшее от спанья и безделья толстогубое налитое лицо:
– Стой, черт!.. Это не ты меня засыпал?.. Это с тебя я намедни шубу стащил?.. в Почтовом переулке…
– Волчью шубу?.. – догадался Дивеев.
– Эге, брат!.. А теперь кого-сь сам из шубы вытрусил?.. Сто-ой!..
И кто-то сзади – мальчишески звонко:
– Гладить его!..
И со всех сторон потянулись волосатые крупные руки, очень четкие в ярчайшем свете, с разжатыми пальцами, с грязными ногтями…
– Рас-тер-зают!.. – бормотнул Дивеев… Отбросился назад, наткнулся на стену, ударился об нее головой, крикнул и повалился на пол…
Но тут же на него навалился кто-то удушающей тяжестью и задышал ему в лицо зловонно… А вверху гогот, и навалилось еще тяжелее, и еще… и уже нельзя дышать, нечем. В мозгу Дивеева засветилось одно ясное слово: «Смерть!..» И потом все погасло.
И когда надзиратель – черный и в черной оспе – отпер дверь и вошел, все разбежались. На полу лежал Дивеев щекою в пол, ничком и без чувств. Его подняли, положили на топчан, намочили голову водою. Но он плохо понимал, даже и открывши глаза. Где он, и что с ним, и кто около, этого не мог объяснить ему и черный с синим шнуром на животе. Если он видел, как говорил ему что-то, – шевелились губы, желтели щербатые зубы, упирались в его глаза, – то не слышал; если он слышал (как камни сыпались в уши слова), то не понимал. В лицо черного, очень густо изъеденное оспой, только кое-где пучками воткнулись толстые волосы, и эти волосы больше всего занимали Дивеева. Он даже на локтях поднялся, чтобы рассмотреть их поближе, и вдруг сказал неожиданно твердо:
– Их надо сбрить!
– Че-го? Кого сбрить?
Черный только что грозил кому-то в сторону карцером, и у него было наигранно суровое лицо, когда он обернулся к Дивееву, но тот повторил настойчиво:
– Сбрить, да, сбрить!.. И тогда не будет такой пестроты!
– Я ж тебе говорю: пьян, как зюзя!
Звонкий мальчишеский голос, такой звонкий, что Дивеев страдальчески повел головой, лег и спрятал ее между поднятыми локтями, и все-таки будто полные уши набило камнями… Ноги он тоже поднял в коленях, и колени крупно дрожали. Черный вздумал было взять его за колени обеими руками и прикрикнуть на него:
– Ты-ы… что это, а?
Но колени расскочились и стукнулись.
Он подсунул свое загадочное лицо к самому носу Дивеева и сказал задумчиво:
– Между прочим… винного запаху нет…
А Дивеев на это настойчиво:
– Сбрить, сбрить, сбрить!
И кругом хохотали ошеломляюще, отчего зажал крепко голову в локти Дивеев и не разжимал, сколько ни требовал этого черный…
Потом он отчетливо очень слышал, как щелкнул дверной замок, а спустя немного еще раз щелкнул точно так же.
Потом было не то забытье, не то пробел в сознании, и только от ясно кем-то около сказанного слова «Симулянт!..» опять начал вбирать в себя и вспоминать Дивеев и прежде всего хотел понять, что значило это слово, и казалось, что как будто когда-то знал, но не мог понять. Однако знал почему-то (по знакомому оттенку голоса), что сказал это слово молодой в пенсне, в форменной барашковой шапке. Он стоял около и рядом с ним кто-то еще новый с лысым лбом и красным большим носом.
– Сядьте, Дивеев, – сказал этот новый негромко.
И удивленный Дивеев сел и поглядел на него с любопытством… Оглядел его широкий пиджак, желтую цепочку на жилете, брюки из черного шевиота, даже вычищенный носок левого ботинка.
– Вы чувствуете себя больным? – спросил опять новый.
Очень знакомым показался вопрос, и Дивеев помнил, как на него ответил недавно кому-то, и сказал, дернув головой:
– Я?.. Болен?.. Ничем не болен!.. И никогда не был болен!..
– Положите ногу на ногу… вот так, – показал красноносый, севши с ним рядом.
Потом он погладил и пощупал его колено и вдруг ударил ребром ладони; нога Деева подпрыгнула и соскочила с другой ноги…
Красноносый мигнул хитро молодому и сказал вполголоса:
– Каков рефлекс?!.
И тут же Дивееву:
– А ну-ка разденьтесь…
Из-за него не видно было рук молодого, но Дивееву почему-то захотелось неудержимо теперь их найти глазами и на них посмотреть… И он сильно изогнул голову и поглядел: тонкие пальцы были так же холодно красны.
– Будет холодно, – сказал он вдумчиво.
– Снимите рубашку, вам говорят!
Опять глядя только на приковавшие его пальцы, снял Дивеев рубашку, а лысый около вынул из жилетного кармана зубочистку, написал ею на голой спине его буквы и спросил:
– Какое слово?
Но Дивеева занимали теперь только руки молодого, и он вспомнил, наконец, почему занимали, и сказал ему с большой укоризной:
– Я видел в руках у вас мой кошелек!.. Видел!.. Да, видел!..
На это молодой чмыхнул носом, повел головой, снял пенсне, протер его и сказал:
– Ну что ж, Дмитрий Иваныч… Возьмите его пока в больницу, а там видно будет.
И красноносый спрятал свою зубочистку, сказал Дивееву:
– Оденьтесь! – встал и добавил: – Придется взять… Закатим ему вероналу, посмотрим… Оденьтесь же, вам говорят!..
Дивеев медленно натянул на себя рубашку воротом назад и так сидя смотрел, как они уходили из камеры, – впереди молодой, талия стянута поясом, за ним лысый – без талии.
В тюремной больнице в сумеречный час полагалось быть полнейшему покою, так как старый тюремный фельдшер Дмитрий Иваныч уходил в это время на практику. Но покоя в этот день не было там: Дивеев как раз в этот час начинал приходить к разным тревожным подозрениям и делился ими с длиннобородым лет за пятьдесят больным на соседней койке.
Всех коек было шесть, и только на одной еще лежал кто-то, с головой закутавшись в рыжее одеяло, а бородатый уже успел показать Дивееву язву на ноге, спустив для этого перевязку:
– Видал, какая?.. Почитай что до самой кости!.. Так, братец ты мой, и жгет!.. Та-ак и жгет!..
Может быть, вид этой действительно искусно растравляемой раны подействовал на Дивеева: сумерки, тихо (только кто-то топтался за дверью), густая длинная борода с проседью перед глазами и там, внизу, подо всем этим и под тряпками какими-то рана… От этого начало щемить сердце… То отпускало на время, то опять зажимало в тиски, и Дивеев прикладывал к сердцу руки, обе, сгибался как можно ниже и так сидел… Но, может быть, это действовало на него лекарство, данное фельдшером?.. Дивеев видел эту белую кружку на столе, из которой он пил что-то… Он и тогда очень недоверчиво смотрел на лысого, он подозревал и тогда… Рана бородатого его убедила… Он посмотрел на него вдруг с большой тоскою и спросил шепотом:
– А того… убили?..
И мигнул на закутанного в одеяло.
– Живот!.. Животом мается…
Бородатый начал тереть зачесавшееся переносье, но Дивеев схватил уже нужное ему слово. Он понимающе отозвался:
– В живот!.. И в ногу!.. И в сердце!..
Потом чаще:
– В ногу, в сердце, в живот!..
Потом скороговоркой раза четыре подряд:
– В сердце, в ногу, в живот!.. В ногу, в сердце, в живот!..
И вдруг с большой решимостью в глазах и громко:
– Но я не поддамся, нет!.. Я не поддамся!..
И новая догадка вполголоса:
– А этот, – пальцы красные, в шапочке, – молодой, это – главный грабитель… Мой кошелек у него: я видел!..
Потом громко и даже торжественно:
– Ага!.. Шубы волчьи, а зубы золотые?.. Нет, не поддамся!.. Ха!.. Павлинов везде насажали… На каждой тумбе павлин!.. На каждом окне павлин!.. Но шпионы, шпионы!.. И они говорят!.. И они потом говорят!.. И дьякона с курицей тоже!.. Новая хитрость… И… уничтожают!.. Кто это сказал, что был за границей?.. Не верю!.. Ложь!.. Вздор!.. Но черного, – черного этого надо обрить!.. За двугривенный… И напудрить!.. И непременно напудрить!.. На Васильевском, Пятая линия, у мадам Габель – столик такой, подзеркальник, и шесть пудрениц рядом… А Элинька напрасно взяла мой рейсфедер: ведь он мне нужен сейчас!..
Тот, под одеялом рыжим, закашлялся глухо, а бородатый собрал морщины на лбу удивленной гармоникой, оглянулся на дверь и перебил Дивеева убежденно:
– Называется это: болезнь!
– Нет, я не болен, нет! – остановил его рукой Дивеев. – Только сердце… они мне пробили… Нет, я отравлен… Это лысый с носом, – это он… Белая чашка!.. Вот она!.. (Тут чашку он бросил на пол.) Очень тянет сердце.
– Куда же все-таки тянет? – спросил бородатый.
– Куда?.. Как куда?.. К спине, разумеется… к позвоночному столбу… К столбу, а там – на цепь!.. На железную цепь… Где это был дом из стекла и железа?.. Недавно… Очень светлый, – необычайно!.. Из стекла и железа… Как в Америке… Это вечно!.. Это почти вечно… А здесь паутина кругом, и никто не снимет… Даже летает перед глазами… Вот!.. Вот она… Вот!..
Он сделал рукой свой привычный хватательный жест и руку, сжатую в кулак, протянул бородатому. Тот встал опасливо и показался похожим на пристава вчерашнего, когда встал, и, только теперь заметив это, Дивеев протянул немного грустно и несколько насмешливо:
– Ах, та-ак!.. Вот это кто?.. Пристав?.. Поздравляю!.. А где же ваш перстень-печатка?.. (Он схватил его за руку.) Нет?.. Сняли?.. Это он!.. Молодой, в шапочке!..
– Ишь, что болезнь делает! (Бородатый вырвал руку.) А почему все-таки начальство к этому без внимания?.. Такой и убить может! Эй!.. И убьет – не дорого возьмет!..
– Может убить? – подхватил Дивеев испуганно. – Неужели?.. Но я не поддамся, нет!..
Но остановился пораженный и безмолвный, когда отворилась дверь и увидал он освещенную косым лучом сзади рукоять револьвера в открытой кобуре, а около нее кого-то… кого-то очень длинного в черном.
Он прошептал ошеломленно:
– Конечно… Они – везде…
И сел бессильно на койку.
А вошедший спросил зловеще:
– Это кто тут сейчас издавал крики?.. А?..
И даже больной животом стянул с головы одеяло и открыл мутное в сумерках безбровое бабье лицо.
– Как можно такого чтобы в больницу?.. – горячо сказал длинному в черном бородатый, как пристав. – Такой и убьет – не дорого возьмет!.. Ходуном ходит!..
– Тты!.. Тты что это? – приблизил к лицу Дивеева сверкнувшие белые руки длинный в черном, и Дивееву стало трудно дышать, и он упал поперек койки.
– Чашку разбил! – протянул бородатый.
– Чашки казенные би-ить!..
И вдруг откуда-то мальчишечье:
– А вы как смеете больного бить?
– Как смеет, да! – бормотнул Дивеев, не подняв головы.
– А ты что за указ такой? – рванулся длинный к парнишке с животом, и так яростно, что Дивеев замер от страха.
Но мальчишеский голос еще выше:
– А такой указ!.. Тюремного врача сюда давай, а не дерись!.. И фельдшер ушел!.. Порядки!..
– А ты для порядка сюда заперт? Ты – начальство?..
Кричали друг на друга еще, – не понял Дивеев, что – как камни в уши… Он все лежал поперек койки, очень неловко, и голова остро болела в висках: просто щелкал там обруч железный за разом раз, за разом раз…
И когда стало тихо наконец, – черный и длинный ушел, – и можно уж было открыть глаза, увидел Дивеев, что лежит он головой на подушке не поперек, а вдоль койки, – светло: горит лампа, – бородатый около сидит согнувшись…
Ясно Дивееву, что это – сапожник Вихорев с 5-й линии. У него на вывеске над сапогом надпись: «Друг студентов»…
– Друг студентов! – внезапно сказал ему Дивеев. – А за подметки полтора рубля!.. И не стыдно?.. Но что же подметки твои перед Кельнским собором… Готика!.. Шедевр!.. Ага!.. И ведь можно совсем без подметок… А если на фронтоне посадить павлинов?.. И райских птиц… из гипса… Но можно ведь и раскрасить!.. Элинька!.. Я тебе говорю!.. Сейчас же принеси мой рейсфедер!..
– Эх!.. – скорбно мотнул головой бородатый. – Чистое горе теперь будет с таким!.. И не уснешь!..
К ночи Дмитрию Иванычу удалось успокоить Дивеева. Но утром припадок буйства был уже сильнее, и в больничную камеру пришли тюремный врач и смотритель.
Дивеев их заметил: вошли двое… Один невысокий, тщедушный, другой важный крупный старик в погонах белых на черной шинели… Дивеев перед этим горячо говорил фельдшеру о павлинах и волчьих шубах и был ошеломлен приходом новых двух, важных… Он замолк и попятился к стенке. В руках у важного в погонах была черная палка с костяным набалдашником, вся сверху донизу в золотых монограммах. Смотритель, из бывших военных, имел уже легкий удар и слегка волочил левую ногу, дослуживал последний год, выслуживал полную пенсию и в помощь ноге носил палку; но Дивеева она приковала, – черная с монограммами, – скользнет бегучим взглядом по двум новым лицам и упрется в палку… Оба новые стояли в фуражках с кокардами, как было недавно у самого Дивеева, но теперь это казалось ему необычайным: фуражки с кокардами!..
Он заметил, что и бородатый стоит навытяжку, и Дмитрий Иваныч сказал было:
– Да… вот явление…
И выжидательно застыл.
А важный старик заговорил очень отчетливо и громко:
– Может быть, вздумает повеситься на простыне или же, скажем, отравиться… пиши тогда бумаги… и неприятность!.. А может быть, и подделка?
– Тем-пе-ра-туры не подделает! – угрожающе подбросил голову другой, тщедушный, с лицом, рассекающим воздух без затруднения, острым, как корабельный нос, и поглядел на него остро: – Этот больной?
А лысый, с носом красным, бормотнул вполголоса:
– Кажется, острое, Александр Филиппыч!
– Острое? – повторил старик и стукнул палкой.
– Острое – тогда капут, – сказал низенький бодро.
– Ка-пу-ут?.. Вот видите как!.. – и старик запустил в рот весь свой седой левый ус и стал его жевать медленно.
– Температура? – спросил лысого низенький.
– Сегодня не мерил… Но, видно, порядочная!..
И заметался лысый, а низенький важно:
– Как же вы так!.. Надо смерить… А ну, сядь-ка, братец!
И перед самым лицом Дивеева разрезал воздух снизу вверх.
Это не понравилось Дивееву… Это заставило его прошептать: «Не поддамся!..» Потом он крикнул надменно:
– Я – «вы»!.. Я – «вы», а не «ты»!..
– Это – чиновник! – улыбнулся лысый и тут же что-то протянул низенькому.
А важный старик промямлил:
– Эге-ге, брат… «вы-ы»!
При этом вытащил левый ус, покрутил его слегка и тут же засунул в рот правый.
Но низенький сказал примирительно:
– «Вы» – так «вы»… Присядьте на койку!
Тогда Дивеев поклонился, точно в гостях, и сел, но металлический футляр термометра, блеснувший в руках низенького, его испугал.
Он крикнул только:
– В сердце! – и вскочил.
Потом он хитро отпрыгнул к самой стене и забормотал:
– Нет! Нет!.. Нет, я не поддамся!
– Явное помрачение сознания, – важно сказал низенький старику с палкой.
А старик с палкой закручивал правый ус, и глаза у него были как две гимназических пуговицы.
Он отозвался:
– Если нужно температуру чтобы, – надо смерить!
– Это – термометр, – сказал низенький (вынул его из футляра и встряхнул). – Видите?.. Присядьте!.. Одна минута, и мы… вас отпустим домой.
– Домой?.. А куда домой?.. Ага?..
И Дивеев вдруг улыбнулся даже тому, что этот низенький не знает, что у него нет дома… Ему показалось, что он очень хитро провел их всех.
– Это не кинжал и не нож, – это градусник! – убеждал его между тем низенький. – Помните, его вам ставили, когда вы были больны?
– Больны?.. Я никогда не был болен!
– Поставьте вы, Дмитрий Иванович, если вы ставили… – передал градусник низенький.
Лысому больше доверял Дивеев: градусник от него допустил, – тем более что старик с палкой в это время начал сосать опять левый ус; это так заняло Дивеева, что и он старательно сделал то же самое со своим правым усом…
И несколько времени все молчали, а когда лысый вынул градусник и сказал: «Тридцать восемь и восемь», – Дивеев повторил это тем же самым его тоном:
– Тридцать восемь и восемь!
И чуть улыбнулся.
– Может быть, и не острое, – горлом выдавил низенький.
– Но все же в больницу его? – забеспокоился старик с палкой, отсосанный ус накручивая на палец.
– Непременно!.. Сейчас же! – ответил низенький.
– В больницу? В настоящую – земскую? – вдруг отчетливо повторил Дивеев чьи-то слышанные слова.
– Ага!.. Это он понимает!.. – подмигнул гимназической пуговицей старик с палкой.
– А сейчас только что та-ко-е плел! – покрутил головой лысый.
И бородатый выступил вдруг на шаг:
– Цельную ночь, ваши благородия, никому спать не давал! – И собрал лоб гармоникой.
Тут же вспомнил Дивеев про другого, с животом, и на него оглянулся. Тот тоже стоял в одном белье около кровати и смотрел исподлобья – безбровый, безусый, бледный.
– Тебя не спрашивают! – строго сказал бородатому старик с палкой и кивнул лысому на этого, безбрового:
– Кто?
– Худолей… политический, – тихо почему-то ответил лысый.
– А-а.
Старик покачал головой укоризненно, вздохнул шумно, и потом ушли они с низеньким.
Необычайное ли посещение это подействовало или веронал Дмитрия Иваныча, но Дивеев не только многое понял из того, что говорили в камере, но запомнил и странную фамилию больного животом, два раза потом повторив ее вслух раздельно: «Худо-лей…» А тот, тут же, как ушли смотритель и врач, опять лег на свою койку и укрылся с головой рыжим одеялом.
Смотритель тюрьмы поспешил отделаться от опасного арестанта, от которого ничего хорошего ожидать было нельзя, и не больше как через час Дивеева по тем же самым улицам, как за два дня перед тем Илью, отправили в ту же самую земскую больницу, только в другой ее отдел, – туда, где лечили мозг.
Чтобы Дивееву не вздумалось по дороге бежать от своих конвойных, его отвезли (как и Илью), и на дорогу заботливый Дмитрий Иваныч щедро напоил его вероналом, в силу которого он верил несокрушимо.
Глава двенадцатая
Федор Макухин
Сначала долгими – скупыми расчетами, воздержанием и постом, всякими урезками и кражей у себя самого, постоянной борьбою с самим собой, жестоким кнутом и шпорами в труде накопить тугой кошель, а потом вдруг в день, в два, в неделю спустить все до последней копейки, прокутить, промотать, просорить, раздарить, дать себя даже обокрасть первому встречному, – есть в этом какой-то смысл, не всякому и не сразу ясный…
Когда осенью в Сибири, вернувшись из тайги с золотом, кутит какой-нибудь приисковый старатель, он считает стыдом оставить в дырявом кармане хотя бы крупинку золотого песку про запас.
Если он зашел в магазин суконных товаров и набрал себе там на зимнюю пару, он смотрит на толстую штуку оставшегося сукна, в которой, может быть, аршин пятьдесят, и говорит приказчику:
– А ну-ка, паря, – иди стели мост!.. Не хочу по вашей грязи ходить, новые сапоги пачкать!..
И важно платит за все пятьдесят аршин, и приказчик идет впереди его по топкой улице и расстилает аршин за аршином всю штуку… А старатель плавно ступает по сукну, гатящему грязь, и только командует:
– Травь правей!.. Вон на ту, идол, новую лавку!
Или:
– Забегай левее!.. Жживо!..
Приказчик ладит то правей, то левей, и старатель через широчайшую сибирскую улицу какого-нибудь Енисейска добирается, наконец, до другого берега, до деревянных мостков, и даже не поглядит назад, где приказчик трудолюбиво сматывает снова грязную штуку сукна, чтобы дома вымыть ее, высушить, выгладить и продать на зимние щегольские костюмы другим старателям, а те будут гатить осеннюю грязь улицы полсотней аршин другого сукна…
Здравый смысл не поймет этого, но есть в этом и во всем подобном звонкая земная радость жизни, запой своею собственной силой, ловкостью, удалью и удачей. – Проживем, – наживем!.. Затем и наживали, чтобы вдоволь повеличаться… А весь адский труд в тайге, и риск и угроза каждого дня, и миллиарды гнуса, точившего кровь по капле, – черт с ними!.. Было, – и вот забыто!.. Но как отказать себе в удовольствии пройтись по сукну через улицу, зайти в посудный магазин напротив, свалить там как бы невзначай стоящую посреди хрупкую стопку ваз, тарелок, ламп и сказать горестно:
– Что же я сделал, злодей!.. Ведь я же теперь навеки пропал!..
Потом выслушать сочувственно едкую ругань хозяина, а потом прищуриться высокомерно, растоптать сапогами остальное, что не было разбито в этой стопке, спросить хозяина:
– Это на сколько же я набил?
Отбросить тянущийся к левой скуле толстый кулак, выслушать явно удвоенный счет, выкинуть на прилавок катеринку, прихлопнуть ее ладонью:
– Получай сполна!
И, выходя из посудной на улицу, думать усиленно: а нельзя ли что еще выкинуть почуднее?..
Когда Макухин в квартире полковника Добычина в ответ на вызов Натальи Львовны сказал свое: «Вот!» и стал с нею рядом, он уже почувствовал тот самый подъем мотовства, который был высшею точкою радости жизни для таких, как у него, натур… Маленькое слово это: «Вот!», сказанное тогда, значило чрезвычайно много: «Вот я сам, и все мое тоже – вот! – Берите!»
И автомобиль, на котором они подъехали в тот день к вокзалу, он, конечно, должен был отбить у целой компании грузно думавших над каждым своим рублем людей, – иначе не так весело было бы ехать.
Что именно будет с ним и Натальей Львовной дальше, об этом он меньше всего думал. Точнее: он совсем не думал об этом. «Вот я сам, и все мое тоже – вот! – Берите!» – это было сказано твердо, а как именно она это возьмет, – было уж ее дело: большое облегчение чувствовал Макухин от того, что не надо было думать над этим самому, и большое в нем было любопытство.
Случай на вокзале был точно первой картиной того длинного представления, которое должно было теперь разыграться непременно перед Макухиным, иначе незачем было и говорить так твердо и торжественно: «Вот!»
Как будто непременно так и должно было случиться, чтобы Алексей Иваныч забежал перед ними на этот самый вокзал и кого-то тут ранил, а этот кто-то точно непременно должен был оказаться прежним женихом его теперешней невесты.
То, что он действовал теперь не сам по себе и не для себя, а для Натальи Львовны, делало его очень свободным, освобождало от очень многого, от себя самого (и в этом тоже было исконно деревенское мотовство).
Он только спрашивал у нее, что делать, и ждал приказаний, стараясь понять с полуслова. Так он держал себя на вокзале, в жандармской комнате, так же давал показания и приставу, и почти таким же жестом, когда говорил об Алексее Иваныче, показал на свой крутой лоб, добавив убежденно:
– Считал и считаю человека этого ненормальным.
Когда Алексей Иваныч, ставший просто Дивеевым, ходил из угла в угол по пустой и холодной кордегардии, зловонной и полутемной (чуть горела маленькая чадная лампочка), – Макухин приехал с Натальей Львовной в знакомую ему гостиницу «Бристоль», и тут же согласился с нею, что снять надо не один, а два номера рядом: жених и невеста – не муж и жена, – и ничуть не удивило его, что все время она говорила об Илье: раненый, – может быть, уже умер теперь, – и все-таки он – ее бывший жених, такой же, как он теперь, только гораздо более ей знакомый.
Чай пили они в номере Натальи Львовны. Вся полная своей неожиданной встречей с Ильей (и какою встречей!), она имела вид оглушенный… Даже чуть сутуливший ей спину мослачок, который как-то заметил Алексей Иваныч, стал как будто заметнее, вырос за эти часы, – отчего даже и голову подымала она с трудом, и при электричестве сверху, при мягком матовом свете сама точно светилась вся изнутри, и глаза ее казались Макухину иконно-огромными, и бледные щеки фарфорово-неживыми.
Макухин сам налил ей чаю, поставил перед нею сухарницу, но она сидела, охватив колено руками, к столу боком, совершенно о себе забыв… Так много было предположений и вопросов в ней, и все об Илье: куда он мог ехать?.. Откуда?.. Где он жил последнее время?.. Зачем ехал?.. Знал ли Алексей Иваныч, что его встретит?.. Может быть, это даже было условлено… А если условлено, то зачем?.. И правда ли, что Илья был знаком с его женою?.. Не принял ли Алексей Иваныч ее Илью за кого-то другого, – своего?
Макухина удивляла такая масса вопросов: никогда не приходилось слышать ни от кого раньше такого потока, такого водоворота слов и совершенно не о деле (не считал, конечно, этого «делом» Макухин). Очень сложный, кропотливо вышитый женский мир подошел к нему так близко впервые. Раза два он было решился напомнить ей, что чай остынет, но она его не слышала. Потом он вылил ее холодный стакан в умывальник, налил ей горячего чаю и придвинул сухарницу еще ближе к ней, но она не заметила и этого.
Она говорила (в который уже раз!):
– Хорошо, я допускаю, что Алексей Иваныч (у него уж это в манию обратилось!), что он мог узнать об Илье от кого-нибудь… Могли дать ему телеграмму: «Илья выезжает завтра (например) туда-то»… Кто-нибудь у него следил за Ильей… Но почему же вчера он мне не сказал?.. Почему не сказал?.. Мямлил что-то такое и не сказал самого важного!.. И уехал!.. Так неожиданно!.. Ведь только что приехал от Ильи и опять уехал!.. И хоть бы имя мне сказал когда-нибудь, – я бы по одному имени догадалась!..
– Илья – имя простое, – у всякого может быть, – заметил Макухин и добавил спокойно: – Опять чай ваш застынет!..
– Он мне говорил о каком-то месте, – вспомнила Наталья Львовна. – Будто искать ездил место себе, а это он его выслеживал, Илью… И так долго помнить: шесть месяцев!.. Бесчеловечно! Конечно, Илья не обращал внимания, я его знаю… Ну, скажите, – разве же он не мог уйти?.. Заметил, что он – здесь же, на том же вокзале, – и уйди!.. Просто, – встань и уйди…
– Там около него старик один хлопотал, – как будто я его где-то раньше видел, – вставил Макухин, выпивая уже четвертый стакан.
– Старик?.. Я не видала… Доктор, должно быть… А может быть, он умирает теперь там в больнице, умирает, а мы здесь сидим!.. Может быть, умирает он!..
Так много тоски было в ее голосе и особенно в огромных неплачущих глазах, что Макухину стало очень неловко, и он застенчиво отставил свой недопитый стакан и сказал угрюмо:
– По телефону справиться можно… Позвонить в больницу, – должны справку дать…
– Можно?.. Разве можно?.. Куда же звонить?.. И дадут справку?.. Кого же вызвать? – очень заволновалась она и вскочила.
Макухин посмотрел на свои золотые часы (серебряные, рабочие, он оставил дома, а сюда взял праздничные, золотые):
– Десять часов уже… Пожалуй что поздно…
– Поздно?.. Как поздно?.. Почему?.. Неужели поздно?.. А вдруг он умрет?..
– Умрет – воля божья… Другое дело, если бы мы помочь могли…
Однако Наталья Львовна уже накинула на шею вязаный белый платок.
– Телефон там внизу… Я видела… Как же я не подумала раньше?.. Ведь видела!.. Я сейчас…
И выбежала быстрее, чем Макухин мог придумать, как отсоветовать это. Он постоял немного около стола, думая, идти ему за нею или не надо; решил, что не идти неловко, можно обидеть этим, и, уходя, запер номер и ключ взял с собою. Но пока он медленно спускался вниз, Наталье Львовне уже ответили из конторы больницы, что там не знают.
– Говорят: «Тут хозяйственная часть»… Говорят: «Повесьте трубку!» – пожаловалась ему она.
– А если завтра утром поехать туда? – подумал вслух Макухин.
– Да-да – мы поедем, поедем завтра!.. Утром чтоб непременно поехать туда!.. – приказала она.
И мимо коридорного они подымались по лестнице рядом, и она говорила:
– Разве в больнице только один телефон?.. Это мне какая-то дура на центральной дала не тот номер… Но завтра надо встать раньше, и мы поедем… Он не умер, нет!.. Я бы непременно почувствовала, если бы он умер!..
А у дверей своего номера она сказала Макухину:
– Идите к себе и сейчас же ложитесь спать… А завтра утром, как встанете, – только пораньше! – стучите ко мне… Впрочем, я и сама встану рано… Я, может быть, и не засну совсем… Ну, идите!..
Макухин учтиво поцеловал ее руку и пошел к себе. В его номере было все то же самое, что и в ее, и совершенно так же была расставлена мебель, но это был прежний его холостой, одинокий номер, случайный, временный, а настоящий его, теперешний был там, за стеною, и настоящее его теперешнее дело было ехать завтра в больницу узнавать, жив ли Илья… А так как для этого надо было встать рано (так было приказано только что), то он и заснул спокойно тут же, как лег.
Как и в тюрьме, около ворот больницы стояла будка, но в ней сидел старик не моложе восьмидесяти лет, – в тулупе, в шапке. Можно было не спрашивать его, кто он: на тулупе спереди пришпилена была медная табличка, а на ней выбитые буквы: «сторож». Сидел он забывчиво и сосал трубку. Обратился было к нему Макухин, как здесь найти одного больного, но он только мотнул во двор трубкой:
– Там пытайте…
Извозчик Макухина стал в ряд других извозчиков, а они с Натальей Львовной вошли во двор.
– Никогда здесь не приходилось бывать, однако дело большое! – оглянулся кругом Макухин.
Больница была целый городок.
Из подстриженных садиков выступали белые корпуса казенной стройки, здесь, за городом, очень крупные. Дорожки, усыпанные мелкими желтыми морскими ракушками вместо песка; аккуратные палисадники, обнесенные деревянными резными оградами… Но вблизи корпусов этих не цветами пахло, – иодоформом… Этот едкий и застарелый, видимо, запах пропитал тут, казалось, все стены домов, даже таких, на которых чернели надписи: «Контора», «Смотритель», «Старший врач».
День был солнечный, очень яркий (день, даже в камере 3-й ослепивший Дивеева); не верилось в такой день не только Наталье Львовне, – даже Макухину, чтобы мог умереть Илья. И однако, когда вошли они в главный трехэтажный корпус больницы, в полутемный, похожий на туннель коридор нижнего этажа, с асфальтовым гулким полом, и спросили (Наталья Львовна, конечно), где найти доставленного вчера раненого, вихрастый фельдшерский ученик, быстро несший куда-то гирлянду пузырьков с сигнатурками, бросил на ходу:
– Умер.
Наталья Львовна ахнула и покачнулась, Макухин ее поддержал, но не поверил.
– Постойте, – как умер?
– Вчера, в десять вечера…
– Когда звонили по телефону?.. Не может быть!..
– Не мо-жет бы-ыть! – воскликнула и Наталья Львовна.
– Как не может быть, когда я говорю? – даже обиделся ученик. – Рабочий с завода – Сидорюк…
И помчался дальше, звонко шагая.
Наталья Львовна отвердела в руках Макухина, ожила, но вся дрожала от испуга. Макухин видел, каким страшным казался ей теперь этот больничный туннель из асфальта, иодоформа и серых стен.
– Не он! Только ляпает зря… Мальчишка!..
Ясно стало, что Илья не может умереть, потому что как же тогда будет Наталья Львовна?
В туннеле больничном непонятно было, что начать и куда идти. Нужно было спросить еще кого-то… И вот – опять тяжелые, но гулкие шаги: с лестницы боковой вошел в коридор большой старик в шапке мохнатой, в шубе.
– Тот самый, – узнал его Макухин. – Вчерашний… На вокзале который…
И Наталья Львовна сразу рванулась из его рук к старику. Старик уходил из коридора наружу, уже визжали блоком двери, они почти бежали, его догоняя, – и, вот опять яркость дня, и хруст и желтизна ракушек под ногами, и пестрят палисадники и стены корпусов, и лохматый старик глядит на них поочередно голубыми, как у селезня, но злыми глазами.
– Мы – к вам… – начал было Макухин, берясь за свою высокую шапку из каракуля.
– А-а… это на вокзале там… Узнал! – раздул ноздри старик, не поднимая руки к лохматой куньей шапке.
– Как его здоровье?.. Ради бога!.. – молила Наталья Львовна; маленькая котиковая шапочка непрочно держалась на правой стороне ее прически, готовая упасть.
– Здоровье?.. Как масло коровье!.. – очень зло поглядел на нее Асклепиодот.
– Вы сейчас от него? Вам что-нибудь сказали?.. Ради бога!..
– Сказали-с… От него, от него-с!.. Но видать его не видал: не допустили… Родного дядю не допустили, – может быть, вас допустят… Вы ему кто приходитесь, Илье?..
Он говорил шумовато, как всегда, и выныривал шеей из воротника шубы после каждой фразы.
– Если вас, дядю, не допустили, то меня, значит, и подавно!.. Значит, он очень плох, Илья!.. Боже мой!
И как-то сами собой покатились по ее щекам частые слезы.
– Сказали: «Особых причин для беспокойства нет»… Так буквально сказали, – смягчился старик, следя за ее слезами, как они катились по щекам и падали. – Буквально именно так: «особых причин»… Неособые, поэтому, остаются… Одну пулю, изволите видеть, нашли на диване, другая – в шубе застряла, а третья – собачка – в нем…
– В нем?..
– Но сидит, однако, под кожей: нащупали… Сегодня достанут…
– Ну слава богу!.. – перекрестилась Наталья Львовна.
– Слава богу!.. И я точь-в-точь то же сказал… А вы, стало быть, с моим племянником хорошо знакомы?
– Еще бы!.. Я!..
– У-г-у… Та-ак… Да вы уж и с этим, с Алексеем-то Иванычем проклятым, не знакомы ли?
– И с ним знакома…
– Так вот через кого, стало быть, племянник-то мой… – приготовился сказать что-то ядовитое очень Асклепиодот, но Наталья Львовна перебила его, как будто сожалеющим тоном:
– Не через меня, – нет!.. Не через меня!..
А Макухин в этот самый момент вспомнил наконец, где он видел этого шумоватого старика раньше, и сказал медленно:
– Как будто видал я где-то вашу личность… Кажись, судно одно мы с вами не поделили в Керчи: вы его под хлеб фрахтовали, а я под камень…
– А-а, хлюст козырей!.. – вдруг дружелюбно хлопнул по плечу Макухина старик. – «Николая» у меня перебил, помню!.. Ну, хорошо, что не грек!.. Поэтому я тогда уступил: вижу, – свой!.. А греку ни за что бы не дался… Помню!..
Но вдруг еще что-то, видимо, вспомнил, потому что добавил, спохватясь:
– Надо мне тут в одно место слетать…
И, повернувшись к одному из корпусов, вдруг пошел не прощаясь, даже не кивнув шапкой.
– Когда же… Когда же его можно увидеть? – крикнула вслед ему Наталья Львовна. – Сегодня нельзя?
Старик остановился на полушаге, стал вполоборота и отозвался вполголоса, но едко, метнув в нее селезневый взгляд:
– А вам какая же экстренность сейчас его тревожить?.. Раз «особых причин», сказано, нет, – увидитесь в свое время.
И Наталья Львовна поклонилась ему почтительно, опять сказавши:
– Ну, слава богу, что нет!..
Это потому, что вспомнила она вдруг очень ярко разбитую ее пулей розовую лампадку и кошку с задранным кверху стремительным хвостом.
И Макухину сказала она кротко:
– Ну что же, поедем? – и пошла к воротам, но когда дошла уже, прокричал ей вслед Асклепиодот:
– В хирургическом отделении!.. В этом корпусе – второй этаж!.. А приемный день – четверг!.. В три часа!..
И, обернувшись на его крик, еще два раз подряд поклонилась ему Наталья Львовна почтительно, как девочка, и безмолвно.
– Теперь куда же? В тюрьму?.. Как там Алексей Иваныч бедный… Он, наверное, там уже? – спросила Наталья Львовна Макухина, когда отъехали они от ворот больницы.
Макухин отозвался:
– Подождем денек, – зачем спешить… Алексею Иванычу теперь сидеть долго: успеем.
– Долго?.. Как долго?
– До суда… сколько там, пока следствие… Полгода… может быть, год.
– Си-деть до су-да го-од? – испугалась она и заглянула ему в лицо, не шутит ли.
– Сидят люди!.. Ну, раз, конечно, раненый поправится, суд ему гораздо легче будет.
– Да ведь он и сам болен!
– На суде разберут.
– А теперь?.. Надо поехать к адвокату!.. – вспомнила Наталья Львовна и добавила:
– Как же это: на суде разберут, а до суда целый год сидеть?
– Да ведь раз он на такое дело шел, – должен же он знать и… и думать, что сидеть – не миновать потом!..
– Ничего он этого не знал… и не думал!
Повернул к ней все лицо в пушистых подусниках Макухин и, улыбаясь, но не осуждающе или насмешливо, а как взрослые детям, сказал:
– Значит, выходит, – вам их обоих жалко: Илью, – этого своим порядком, а Алексея Иваныча – своим?
– Что это? – не поняла она.
– А вот дядя его, старик этот, он Алексея Иваныча, похоже, ненавидит, – объяснил Макухин.
– Он ненавидит, а я жалею, – догадалась она. – Да, мне жалко… очень… Я ведь его понимала очень… Когда он мне говорил про свое, я его понимала… Я ведь только не знала, что это – Илья!.. А вам не хочется к адвокату?
– Мне? Макухин улыбнулся длинно, чуть отвернувшись. – Чтобы такого несчастного бросить на произвол, – это, я думаю, даже неловко… я и сам хотел попробовать, – нельзя ли его на поруки взять.
– Хотели?.. Правда?.. – схватила его за руку Наталья Львовна и добавила, глядя ему в глаза: – Илью я люблю, а того, Алексея Иваныча, понимаю…
– При извозчике не надо так! – вдруг около самых губ ее шевельнул своими губами Макухин, но тут же продолжал громко:
– Я думаю так: доедем сначала до гостиницы, спросим, где какой адвокат получше… Город чужой, – кого мы тут знаем?.. Правда?..
А она отозвалась:
– Но беспокойство, значит, очень вредно Илье, – очень вредно… И что это значит: «особых причин для беспокойства»?.. То есть он может не умереть теперь, но через два, через три дня?.. Через неделю?.. Вы знаете, – ведь может быть заражение крови, – и тогда что?
Извозчик (он был парный, как все в этом городе) доехал в это время до городских окраин и спросил, обернув яркое, ражее лицо:
– Куда будем ехать?
Макухин решительно ответил:
– В «Бристоль»… – и добавил хозяйственно, кивая на правую лошадь: – Засекает левой ногой.
– Засекает… Что ни делали ему, – засекает, – и на… А так ничего, конь справный…
И головой покрутил извозчик, точно в тысячный раз стараясь проникнуть в тайну движений левой задней ноги своего мерина, но, в тысячный раз убедясь, что не проникнет, задумчиво опоясал его вдоль спины кнутом.
Веселого адвоката указал Макухину швейцар гостиницы «Бристоль» – ходатая по делам Петра Семеныча Калмыкова, – и квартира его была в двадцати шагах на другой стороне улицы.
У него в этот день Макухин сидел один (не спавшая ночь Наталья Львовна осталась в номере).
Из заметки в местной газете, лежащей у него на столе, Калмыков знал уже о том деле, по поводу которого несвязано рассказал ему Макухин.
– Вы ему родственник, – Дивееву? – спросил он, страшно растирая уши, точно пришел с мороза: он, видимо, только за час перед этим встал с постели.
– Нисколько! – даже удивился Макухин.
– Компаньон его?.. Вы – кто такой?.. Подрядчик?
– И не компаньон вовсе… какой же компаньон?
– Ну, друг, близкий, как говорится… Приятель?..
– Нет… Знакомый… Просто – знакомый…
– Те-те-те, батенька!.. Знакомый!.. Просто знакомые предпочитают на адвокатов не тратиться… Не так ли? Ясно, как карандаш, что не просто знакомый…
Он был низок и толст, близорук и красен, лысоват спереди и большерук, густо кашлял и пил содовую воду стакан за стаканом (четыре бутылки этой воды стояли у него на столе); глядел на Макухина с прищуром и хитро сквозь стекла золотых очков и все щекотал указательным пальцем левой руки реденькую русую сорокалетнюю бородку. И даже на толстом опухшем лице его губы казались несоразмерно толсты.
Присмотревшись к этим всевысасывающим губам, сказал медленно Макухин:
– Да я особенно тратиться даже и не намерен… Я зашел только справиться, что ему может быть за это…
– Что же ему за это?.. Каторга!.. Ясно, как палка!.. Но кто же вам, батенька, поверит, чтобы вы этого не знали и за тем только пришли?..
И вдруг зевнул очень глубоко, с необыкновенным увлечением и добавил:
– Начал кутить вчера с одним оправданником, и вот до шести утра… Тоже запутанное очень дело было, и состав присяжных аховый попался… но все-таки удалось!
И снял очки и жестоко протер глаза кулаком… Потом налил содовой воды и выпил… Потом вбежала в кабинет маленькая, лет семи, девочка в коротком белом платьице и, остановясь шагах в трех от Калмыкова, сказала нерешительно:
– Папа! – и покосилась на Макухина, пухлая, точь-в-точь так же хитро, как это делал ее отец.
Отец же, обернувшись, вскочил с большой легкостью, подхватил ее на руки, закружился с нею по комнате, вынес ее на руках за дверь, там пошептался с нею, потом притворил дверь, подошел к Макухину вплотную, положил ему руки на плечи и сказал вдохновенно:
– Взяться за это дело могу, конечно, и возьму не больше, чем Прик возьмет, или Варгафтик, или чем Швачка, который ваше дело вел в прошлом году!..
– Какое дело вел?.. – удивился Макухин.
– Ну-ну-ну-ну!.. Будто я не знаю!
И сделал хитрейшее лицо толстогубый, и даже один глаз совсем закрыл за ненадобностью пускать его в работу.
– И дела не было, и Швачки никакого не знавал даже и отроду, – ответил Макухин очень спокойно, думая в то же время о Наталье Львовне: «Хорошо, что я один, а не с нею: осерчала бы и ушла, а человек очень подходящий и занятный…»
– Ка-ак так не знавали? – очень изумился Калмыков, и посмотрел на него, сидящего перед ним, поверх очков. – Штука капитана Кука!.. Ведь вы же строили дом Кумурджи, греку?.. Ведь вы же сказали, что Мухин?
– Ма-ку-хин, а не Мухин!
– Ма-ку-хин!.. Гм… Макухин… Так бы и говорили сразу. – И Калмыков налил уже из третьей бутылки (две он выпил) стакан воды. – А я думал: архитектор, подрядчик, – словом, свои ребята, – теплая компания!.. А вы, пожалуй, даже скажете, что никогда и не судились!..
– Не приходилось.
– Гм… значит, вы – будущий мой клиент!.. Люди делятся на три категории: на клиентов настоящих, прошедших и будущих… Вы сегодня в театре будете?
– В театре? – удивился Макухин.
– Да… Советую!.. Там сегодня Пустынина играет… Та-ка-я мамочка, – прелесть!.. Там бы, кстати, поговорили… а?
– Нет, в театр мне сегодня не придется… А если вам сейчас некогда, я могу в другой раз зайти…
И встал было, но тут же его усадил Калмыков.
– Вот – на!.. Вы еще к Прику пойдете!.. Противно адвокатской этике упускать клиента из рук… Однако сказать вам должен: дело трудное, дело скверное, дело ясное, как тарелка… для прокурора, а не для нас, грешных… Из ревности, – ясно, заранее обдуманное намерение, – ясно: иначе зачем бы револьвер при себе имел?.. – и в общественном месте, на вокзале, – мог бы еще двух-трех ранить… Называется это – отягчающие вину обстоятельства, – отягчающие все налицо, а где же облегчающие?.. Облегчающие где, я вас спрашиваю?
– Облегчающие?.. Да вот, – ненормальность, например…
– Эка нашел!.. Тоже нашел чем удивить суд!.. Все преступники ненормальны!.. Предлагает заведомо безнадежное дело и думает, что пряник с медом.
Макухин думал не это, он думал: «Бракует!.. Торгуется, точно лошадь покупает, и бракует…»
А Калмыков продолжал, страшно выворачивая губы:
– Вы не родственник, и вы не близкий, вы горем не убиты и вы не женщина, – с вами можно говорить просто: дело – табак!.. Но уж ежели за него взяться, надо его вести, не так ли?.. Будь вы – дама, я бы вас и не принял сейчас… Одна дама, моя знакомая, жила как-то на даче в Парголове, – это под Питером… И все, бывало, трещит: «У нас в Парголове… У нас в Парголове…» – «Неужели, – я ей так сокрушенно, – у вас, мамочка, пар в голове?..» Обиделась!.. А теперь у меня самого… если и не пар в голове, то вроде дыму… Дело – табак, это я, впрочем, и без пара скажу, – однако кто-нибудь вести его должен же?.. Так уж лучше я, чем Прик!.. Уж лучше же я, чем Варгафтик!.. Что они понимают в русской душе?.. Русская душа, – всегда за шеломянем еси!.. Никаких не признает она границ… Поэтому и возня с ней такая адвокатам, прокурорам, присяжным… Уголовная душа!.. Начинает мечтать, – все ясно, как ананас, начинает делать, – все чисто, как каша с маслом; кончает, наконец, – черт ее знает, – уголовщина! Я вашего Дивеева не знаю и не видал, но, однако же, вот додумался же человек, – из револьвера да еще на вокзале!.. Осуществил свое личное право, – и все… Надо бы с ним поговорить… Очень любопытно всегда бывает с преступниками говорить!.. Талантливый это народ!.. А как раненый!.. Да, вы не видали… Пар у меня в голове, пар в голове!.. У какого следователя это дело?.. Вот что надо прежде всего знать.
Как раз этого Макухин не знал.
– Гм… как же вы так! – и вывернул недовольно свои спрутовы присоски Калмыков. – Ну, я узнаю по телефону… Так вот, – на бумажные расходы, и на информацию, на то, на се – оставьте пока рублишек пятьдесят, а там видно будет…
И небрежно налил еще стакан из четвертой уже бутылки, еще раз потер докрасна уши и еще раз бормотнул: «Пар в голове».
Две двадцатипятирублевки нашлись у Макухина, и, не задумываясь, положил он их на стол, усмотрев на нем сухое местечко, не залитое содовой водой.
Но, должно быть, слушали за дверью, но, должно быть, смотрели в щель… Тут же, как только положил на стол свои бумажки Макухин, не вошла, а как-то впорхнула в кабинет гибкая молодая дама, брюнетка, кивнула привставшему Макухину, подошла прямо к столу с бутылками, положила одну руку на бумажки, а другую протянула к шнурку оконной шторы и сказала певуче:
– Надо спустить немного, а то очень светло, и глазам моего мужа вредно…
Немного спустила штору и тут же ушла, – упорхнула в дверь, но своих бумажек на столе уж не заметил Макухин, – и, выдвинув губы сокрушенно, сказал ему тихо Калмыков:
– Как коровка язычком слизнула!.. Но не думайте что-нибудь… Все будет сделано… Соображу и взвешу… Позвоню по телефону… Или, еще лучше, съезжу сам… Русскую душу может понять только русская душа, а не Прик… Это имейте в виду!..
И сам проводил его до входной двери.
От Калмыкова поехал Макухин по своим делам: в банк, получить деньги по чеку, и в городскую управу, тоже с бесспорным счетом. И, возвращаясь обратно в «Бристоль» богаче, чем выходил оттуда сегодня, на тысячу с чем-то рублей, он прикидывал в уме, на сколько он стал сильнее не там, в своих каменоломнях, а тут, как жених Натальи Львовны.
Он привык смотреть на вещи просто, по-деловому, и теперь, думая об Илье, он присчитывал к расходам на адвокатов, на свадьбу, еще и расход на отступное Илье, если он поправится от раны.
В номере Натальи Львовны ждал уже его чай. Сама она с отдохнувшим лицом встретила его оживленно, как своего, и он это радостно отметил. Весело рассказал он о веселом адвокате, а жену его решительно одобрил.
– У такого денег не отбирать, – семейство с голоду пропасть может…
А когда Наталья Львовна горестно покачала головой:
– Ах, Алексей Иваныч, Алексей Иваныч!.. Ну, можно ли было о нем это думать!..
Макухин сказал вдруг горячо и убежденно:
– Мало ли что может с человеком случиться?.. Разве человек так уж всегда в себе волен?.. Алексей Иваныч по-глупому рассудил… Чем он виноват был, хотя бы и Илья этот?
– Как? Не виноват?
– По-моему, ничем ровно…
– Вот как?.. Ну да… Скорее виновата она, покойница…
– А она-то чем?.. Никто, я так думаю, в этих вещах не виноват!.. И даже я так скажу: не было бы вещей подобных, скучная была бы жизнь!
– Вот как?.. Так что если я опять уйду к нему, к Илье, – тихо сказала Наталья Львовна, – это будет как, весело или скучно?
– Для кого как, – так же тихо ответил Макухин. – Для меня, например, скучно!
– Скучно?.. А что же во мне веселого?.. Во мне ведь нет ничего веселого… Я ведь тоже вся раненая, как Илья теперь…
– Бывает… Может быть и веселый человек, а с ним до такой степени скучно, хоть в бутылку лезь!.. А бывает со скучным весело… То есть я не про веселость говорю, а про другое… вообще.
– Хорошо, я поняла… Так вот… Я все-таки не хочу недомолвок… Я должна вам сказать… Илья был моим…
– Мужем, – подсказал Макухин, видя, что она запнулась.
– …Так торжественно не говорят артисты… Но я любила его и сейчас люблю… Люблю! – закончила она быстро.
– Я ведь это вижу… Зачем же разговор лишний?
Голос у Макухина стал глухой, но он улыбался. Улыбка сделала его и проще, и наивнее, и моложе: так спокойны были ровные белые нижние зубы и такие совсем беззлобные загорелись искорки в серых глазах.
– Но вы меня все-таки не бросайте, хорошо?.. Не бросайте!.. Ведь я не знала, что его встречу… и таким встречу… Хорошо?.. Не бросите?..
Она поднялась с места и взяла его за руку, добрая, как девочка.
– Ну вот… Зачем же бросать? – просто ответил он и, дотянувшись неловко, краем губ прикоснулся к ее руке, а она, как третьего дня у себя на даче, поцеловала его в прочный, угловатый, обрезанный по прямой линии лоб.
Глава тринадцатая
Брак законный
После отъезда Алексея Иваныча, а следом за ним совсем неожиданно, точно в погоню, и Натальи Львовны с Макухиным Павлик чувствовал себя покинуто, совсем сиротливо. Точно все уехали от него, все уехало, и он обречен Увару, от которого вечный «зюк», то есть стук, и его двум ребятам, очень крикливым.
Жутко даже было в первые дни, однако скоро случилось здесь то, чего он не ждал: таинство брака; и неожиданно пустое событие это имело для него последствием поворот к ясности, смеху и даже здоровью.
Была щемящая сердце тоска, когда уехала с кем-то неизвестным ему, которого называл Увар «наш же брат-рабочий», – она, в котиковой шапочке и с далекими глазами.
– Красивый? – спрашивал о нем, о Макухине, Увара Павлик.
– Конечно, отъелся, слова нет! – загадочно отвечал Увар. – При богатстве отъелся – мудрого ничего нет… И борова кормить если хорошо, – пудов пять сала сымешь… а то и восемь… Кабы у меня не семейство, нешто я сам не мог бы в люди выйти?.. Слободным манером! С деньгами, брат, всякой барышне будешь мил, хорош, а ты без денег попробуй…
И долго он так, этот Увар, – и чтобы не слушать явной для себя какой-то обиды, вышел Павлик на свежий воздух ковылять по пригорку.
Стоял пароход у пристани и гудел, готовясь к отплытию. Пристань вся шевелилась и чернела народом… Какие-то горы ящиков на ней появились, – желтых ящиков и белых мешков… Море кругом было невиданно голубым, и розовые тянулись в дали и в голубизне пропадали нежнейшего рисунка горы. И Павлик долго сидел, созерцая, и уж отошел пароход, дымно трубя и могуче бунтуя винтом воду, а Павлик сидел весь в тоске и томлении, похожем на легкую зубную боль, и часто он отводил глаза от моря и глядел на бросающуюся всплесками в горы белую ленту шоссе, по которому уехала с «нашим братом-рабочим» Наталья Львовна. И необычайно ясно казалось временами ее лицо. Оно было совсем не таким намеренно преувеличенно разудалым, как тогда, на иноходце Гречулевича, оно было жертвенным, робким, обреченным, и откуда-то из очень глубокого-голубого смотрели из-под шапочки надвинутой ее глаза, очень грустные, с огромной болью…
И куда бы ни глядел Павлик, – розово-дымчатой болью казались дальние горы, пыльно-коричневой (безлистый лес) болью казались ближние горы и бесконечной голубой болью – море. И даже резкая особая боль схватила сердце от того, что пароход уходящий, черный, резал его, голубое море, как в черной вставке крупинка алмаза режет стекло.
И, весь охваченный этой созвучной болью кругом, едва заметил Павлик, как снизу, темным ползучим комочком подкатилась медленно и стала с ним рядом какая-то краснолицая с натуги старушка, с выбившимися из-под теплого платка полуседыми косицами, губастая, с широким утиным потным носом, с маленькими серыми глазами, злыми от усталости, тяжко дышащая, с мешком за плечами.
Остановясь, поглядела на Павлика пытливо.
– Здесь, что ли-ча, носаревская дача?.. Будто, говорили, в этих местах.
И Павлик заметил при этом: широкий рот был у старушки, – не было всех передних верхних зубов.
– Носаревская?
Оглядел ее с любопытством Павлик и добавил не то горько, не то шутливо:
– Бывают же люди иногда счастливые и сами того не чувствуют… Я с носаревской дачи.
– Ну-у?.. Уварка мой там живет… Тетка я ему родная…
– Тетка?..
Вспомнилось вдруг недавнее Уваркино, как говорил он Ивану Щербаню: «Только чтобы не был ей на проезд расход лишний…» И спросил Павлик изумленно-весело:
– Да ты уж не Арина ли?
(Зачем-то запомнилось и это имя.)
– Она, она самая! – тоже повеселела старушка, увидев, что ждали ее, – ждут, – значит, не зря она приехала: нужна.
Павлик проворно поднялся на свои костыли.
– А ты же что же там?.. Сынок его… Носарева-то… или так… дачник?
– Дачник, дачник… Сюда, молодая, за мной!
Даже сам на себя подивился Павлик, так это бойко у него сказалось и совсем не то чтобы в насмешку, а просто была в этом общительность, простонародность, даже готовность помочь. И заковылял он почему-то гораздо бойчее обычного: это потому, что, пересиливая всю его только что обступившую боль, бодро и знающе, хотя и тупо и тяжело ставя ноги в рыжих башмаках, шагала, шмыгая потным носом, старушка Арина, приехавшая в невесты дворнику дачи Шмидта Ивану, тоже старику.
Он и привел ее к даче Носарева радостно и так же радостно сказал белобрысому Увару:
– Вот она!.. Приехала наша невеста!.. Получайте!..
И, потерявши как-то сразу свою обычную замкнутость, он никуда не уходил, а сидел тут же с ними, с Ариной, Устиньей и Уваром, жадно вслушиваясь в каждое слово.
Арина оказалась брюзгливой и сомневалась заранее, чтобы жених был серьезный:
– Рази сурьезный мужик берет не видя?
На что отвечал каменно-уверенный в себе Увар:
– Ты об женихе не трещи, раз что я сам тебе его сосватал!.. Ты вот хабур-чабур свой весь привезла?.. Платье там, то-се… в чем венчаться-то будешь?
– Ну, а то рази им оставлю!
– Гм… Жила-жила век, а что же нажила? – глядеть не на что!.. Неуж вот это и есть твово состояния – мешок этот?
– Ну, а что тебе еще?.. Дом каменный?
– Эх, – пьянство-то как людей губит…
От досады даже плюнул Увар.
Но Арина была не ему, а Устинье теткой, и та заступилась.
– Сам выписал, а сам теперь хаишь!.. Ты ж это чего же свою родню при чужих людях хаишь?
«Это я – чужой!» – весело подумал Павлик, но никуда не ушел: упорно сидел на табурете, – смотрел и слушал; и улыбался весело.
– Документ имеешь? – сурово спросил Увар. – А то тебя без документа и венчать не будут…
– Здравствуй! – осерчала даже Арина. – Что я, – маленькая? Этих делов не знаю?.. А споведаюсь – сообщаюсь я кажный пост… У дьякона нашего записано…
И, так бурча, проворно полезла за пазуху, вытащила какой-то сальный кошель, а из него желтую грязную сложенную вчетверо бумажку.
– Вот он тебе, пачпорт!
Увар, повертев в руках бумажку, подал ее Павлику:
– Вы, конечно, лучше мово писанное читаете… Не просрочен ли, гляньте!..
И Павлик глянул. В бумажке очень четко было написано бойкой рукой волостного писаря села Песковатки Дмитриевского уезда, Курской губернии, что принадлежит она крестьянке Евдокии Макаровне Кобызевой, от роду девятнадцати лет… Прочитав это, Павлик засмеялся негромко, но Устинье и Увару дивным показалось и то, что он умеет смеяться.
– Притворяется… пожилой! – кивнул на Арину Павлик. – Девятнадцать ей лет!.. И самозванка: Евдокия ее зовут, а не Арина!
– Головка бедная! – всплеснула руками Арина.
Но Увар не понял, дотянулся до бумажки сам и разобрал.
– Ев-до-кия… Ну да… ясное дело, что не «Арина»… И нешто ты Кобзева?.. И отец твой вовсе Филат, кажись, был… Ну да, – Филат, а ничуть не Макар… Ясное дело, – чужой пачпорт!.. Конечно, как ей девятнадцать лет, она правее тебя в невесты смотрит!..
– Дунька-то?.. Да она и вовсе замужем! – вскинулась Арина.
Посмотрел в бумажку Павлик, – действительно, Евдокия оказалась замужняя.
– Это какая же Дунька?.. Ты говори толком! – осерчал Увар.
– Ну, известно, Дунька!.. Наша Дунька!.. В горничных у нас живет!..
– У одного, стало быть, хозяина?.. Та-ак!.. Ну, мудреного ничего нет, что перепутал… У самого-то небось – черная книжечка, а у этих – листочки… Поэтому, выходит, тетка Арина, – вертайся назад!
– Зачем назад? – все улыбался Павлик. – Можно по почте послать… Хозяин переменит…
– По поч-те?.. – Даже в лице переменился Увар. – Это дело сурьезное – пачпорт!.. Об этом деле надо молчать!.. А то ее по этапу отседа вышлють!
И даже заплакала Арина.
– Что ты? Завтра пароход обратный пойдет! – вздумал весело ее утешить Павлик.
Но Устинья ответила за нее зло:
– Это с деньгами кто – хорошо кататься, – а уж нашему брату…
– Ну уж ладно, приехала, так чтобы не зря… Пущай жаних посмотрит… Максимка! – крикнул на двор Увар. – Живой ногой сбегай, – дядю Ивана позови!
И в окно видел Павлик, как на одной ноге с гиком запрыгал Максимка, а не больше как через две минуты пришел Иван.
Точно в театре, в первый раз в жизни виденном, сидел Павлик – до такой степени был он отрезан от себя самого. Он только смотрел во все глаза, ничего решительно не пропуская.
На что нужны были ему Иван и Арина?.. Но он видел и отмечал, как, вытянув свою длинную шею, прямоплечий Иван от дверей еще остановился встревоженными глазами на Арине и как Арина быстро зиркнула на него вбок и отвернулась.
«Как же их будут представлять друг другу?» – подумал Павлик и с огромным любопытством ждал.
Однако Увар, переставляя зачем-то рубанки и шершебки у себя на верстаке и ни на кого не глядя, сказал весьма сурово:
– Ну, вот тебе он… жаних твой, тетя Арина!.. Целоваться пока погоди, а только руку ему подай!.. Так полагается!
– Полагается? – зачем-то переспросил Иван и протянул Арине свою лапищу, суеверно перевязанную красной шерстяной ниткой, помогающей будто бы при перекопке.
– Здравствуй!
Должно быть, гораздо раньше, когда был он не дворником крымской дачи, а просто мужиком на селе, так же точно пытливо и вдумчиво вглядывался он в какую-нибудь буланую или гнедую кобылу на ярмарке: честно будет возить или с норовом?.. Или, может, даже она сапная? Трудно угадать, годна ли лошадь, с одного взгляда.
Павлик сидел и двигал очень внимательно бровями.
Видел, что он здесь – совершенно лишний, но не уходил сознательно: как можно было уйти, не досмотревши?
Очень чопорна и церемонна стала вдруг Арина… Точно даже и не она только что подымалась потноносая, кряхтя под тяжелым мешком!.. Глядела вбок, поджимала спесиво губы, поводила жеманно левым плечом…
Она успела накинуть на плечи щеголеватый, совсем еще новый платок, – шерстяной, клетчатый, и подумалось Павлику, – должно быть, воображала себя как раз этой самой девятнадцатилетней Дунькой, с паспортом которой явилась, франтихой и модницей, жеманницей и сердцеедкой…
Однако и Иван был хорош!..
Может быть, слишком долго представляя себя женихом в своем одиночестве, – годы за годами, – десятки лет, – Иван точно в чугунную форму какую-то вылил раз навсегда, зачем ему баба, – и, как тогда, в разговоре с Уваром, бормотал и теперь, несколько как бы смущенно с виду, но по существу очень убежденно и точно:
– Штаны-рубаху починить… борщу горячего сварить… А то что же это? Хлеб да зелень, хлеб да зелень!.. Долго ли с сухой пищи?.. Катар желудка, и квит!
– Да уж борщу наварит! – расхваливал невесту Увар. – С этой натурально сыт будешь: у больших господ в кухарках жила!
– Ну вот… То-то и дело… – неопределенно отзывался Иван.
А Арина презрительное фыркала:
– Бор-щу!.. Скажет тоже!.. Какое кушанье ентиресное!..
Однако, фыркая презрительно, старалась плотнее прижимать верхнюю губу к беззубой десне.
Правда, удивил кухарку кушаньем Иван!.. И во всем другом вел он себя так, как многие женихи на смотринах: говорил невпопад, на всех кругом озирался, явно ища себе одобрения; от волнения часто чмыхал длинным носом, даже краснел… И так старался он, видимо, быть именно таким застенчивым женихом, что Павлик, наблюдая за ним во все глаза, так и не понял, – доволен ли он старой Ариной, или ожидал увидеть ее какою-нибудь всамделишней девятнадцатилетней Дунькой…
Но досидел Павлик терпеливо до конца.
Со свадьбой решили спешить: заходили Филипповки…
Только три дня дано было Арине, чтобы успела обернуться за паспортом. И Павлик заботливо думал все три дня: а вдруг не обернется!.. Но раз уж дошло дело до свадьбы, какая же женщина не одолеет все препятствия? И Арина точно обернулась за три дня: уехала морем на обратном пароходе, приехала сухим путем, по шоссе. И сухой путь этот ничего будто бы ей не стоил:
– Все такие люди веселые попадались, – даром сажали!.. Скажу только: – «Эй… Посадите старушку!.. Венчаться еду! До поста поспеть надоть!» – «Вот, говорят, бабка какая хват!.. У всех у молодых жениха отбила!.. Ну, лезь, идол, только не рассыпься!..» – Так на делижанах и довезли… И ни единственного грошика никому не дала!..
А Иван все три дня тоже метался в предсвадебном угаре.
– Ты бы полушалок какой невесте купил, – жаних!.. – напоминала ему Устинья.
– Полагается? – спрашивал озабоченно Иван.
– Ну, а то ж как!
И Иван конфузливо снимал бриль то перед капитаншей Алимовой, то перед полковником Добычиным, то перед Ундиной Карловной, прося «позычить» ему на свадьбу «пятерку або трояк», и покупал то полушалок, то какую-то кисею, то себе новый синий суконный картуз с твердыми, как подошва, полями.
В немалое волнение привела весь Перевал эта свадьба.
Приглашенный в посаженые отцы, весь сиял, и весь подмигивал направо-налево, и весь крякал многозначительно полковник Добычин. Недавно благословивший дочь, он теперь как будто особое какое право приобрел благословлять всех, желающих надеть брачные узы, отеческим басом рычал Ивану:
– Ничего, брат, не рробь!.. Дерржись, – начинается!..
И покровительственно хлопал его по плечу – костью о кость.
А Павлик сам вызвался быть шафером Арины.
Он – тоже сиял. Он и имел теперь право сиять. Неизвестно, почему именно: потому ли, что наступили теплые погоды с легковейными южными ветрами, или в болезни его начался именно теперь долго и исподволь подготовлявший перелом; или внезапно, но прочно, надолго взбодрила его эта именно вот чужая свадьба двух стариков, только он вполне бескорыстно и самозабвенно хлопотал около них, вникая в каждую мелочь.
– Как же вы будете круг налоя ходить, панич? – усомнилась было в нем Устинья.
– С двумя, то есть, костылями, когда венец над невестой надо держать? – пояснил Увар.
– Нет, не беспокойтесь!.. Я могу и на одном!.. Вот!..
И, отдав ему один костыль, Павлик вдруг решительно заковылял по маленькой комнатке на другом, – и это в первый раз со времени болезни… Он даже не знал как следует, сможет ли, не был уверен даже, – только почувствовал вдруг, что сможет, и, проковыляв так шагов пять вперед и назад, снова вперед и снова назад, – победно, покраснев от удовольствия, поглядел на Увара.
– Вот вам!.. Оказалось, – отлично могу!.. Нет, я непременно буду шафером.
Даже Устинья поглядела на него радостно; покачала головой и зачем-то проговорила улыбаясь:
– Ух, задавала какой!..
Хотела было добавить врастяжку: «Ша-фер!» – и не добавила. (Ясно заметил по ее губам и глазам Павлик, что именно это хотела добавить, и поглядел благодарно на ее бледное, желтое лицо за то, что не добавила.)
Однако радость уже была в нем, та самая старая проснувшаяся вдруг радость, которая уже заставила его однажды в яркий солнечный зимний масленичный день стать на улице и распять руки перед налетающей вихрем бешеной тройкой… Он думал, что она умерла уже в нем (и что он умер вместе с нею), но она оказалась жива (значит, и он был жив).
И вместе с полковником в николаевке и другим каким-то шафером, молодым плотником, земляком Увара (полковник разрешил себе эту вольность), и Ундиной Карловной, посаженой матерью, он доехал к церкви на извозчике (а на другом извозчике ехали «молодые» с Уваром и Устиньей). И, хотя в церкви оказалось вдруг порядочно праздного народу, Павлик не оробел. От этого многолюдства, напротив, был он очень весел и деловит и бодро стучал костылями по каменным плитам церковного пола. И венец над Ариной держал очень чинно, передав один костыль Увару…
Правда, иногда, во время чтения длинных молитв, ему было тяжело, рука дрожала; тогда он заговорщицки толкал локтем молодого плотника, и тот, правой рукой держа венец над Иваном, левой помогал ему, а он, отдыхая, шаловливо шептал своему товарищу:
– И что бы уж тебе тоже не взять было костыля… для полной гармонии?.. Эх, не догадался!..
Парень оборачивал к нему немного удивленное лицо, однако широко улыбающееся, а он шептал:
– А еще плотник называется!.. Взял бы да сделал… ради такого случая!.. Эх, ты!..
И широкоскулый парень с узенькими просветами глаз совсем заплющивал эти просветы от затяжного беззвучного смеха.
Иван был серьезен; но привыкший иметь дело только с землей, упорно уставил журавлиный нос в пол под собою; и Арина, все еще продолжая играть молодую жеманницу Дуньку, спесиво поглядывала на кудрявого дьякона, привычно возглашавшего, и на священника, имевшего тонкий бабий голос, тучного и сонного, и кругом, – даже на хорошенького ангела с лилией в руке на малых вратах иконостаса.
Давно не бывавший на многолюдстве Павлик теперь отнюдь не терялся; напротив, все было для него любопытно до явной радости… И на полковника оглядывался он иногда и ему улыбался.
На тех же двух извозчиках приехали из церкви, и начался свадебный пир у Увара.
Иван, видимо, был доволен, хотя не совсем, нет: не зажгли в церкви люстры, как он просил.
– И вот же жадные души!.. Давал же попу трояк, а он ладнает свое: «Двадцать пять!..» Ну, хiба ж там сгорит на двадцать пять? Там и на карбованец не сгорит!.. Ну, а ведь то же все ж таки был бы све-ет!.. На всю жизнь памьять!
А полковник утешал его…
– Не рробь, – одна дробь!..
Подымался с места, раскачивался и кричал:
– И за прекраснейших молодых наших подымаю я свой бокал!.. Урра!.. Урр-а-а!..
Оглушительный рык львиный выходил у него вместо «Ура», и половину водки из рюмки в трясучей руке пролил он на голову Арины.
А та ворчнула хозяйственно:
– Эх, добро-то зря льет!
Но даже не вытерла головы.
Она захмелела сразу, с первых трех рюмок, и во хмелю оказалась очень буйна, бранчлива и певуча.
И когда кричали: «Горько!» и заставляли молодых целоваться, Иван делал это сосредоточенно и с большим старанием, как всякую вообще работу, какую он делал, а Арина после этого долго и истово вытирала губы и жаловалась всем кругом:
– Ишь, завистной какой старик!.. До чего завистной!.. Всю, как есть, обслюнявил!..
И не прятала уж беззубую верхнюю челюсть: вчера еще была она только невеста, – сегодня жена. И на утином красном носу ее, проштреканном поперечными морщинами, выступал победный крупный пот, и глаза ее слезились завершенно от сытости и хмеля.
Бодро, как хозяин, собравший вовремя урожай, как непромахнувшийся охотник, держался Увар, всем подливая кругом вина, всех угощая… И то сказать, как в другое время зашло бы к нему такое важное лицо, как полковник? (Слепая никуда из дому не выходила и даже на гулянье у Увара не была, но говорила угрожающе: «Я свое, голубчики, возьму!.. Постойте-ка, как завтра у Ивана гулять будете!») Зато Ундина Карловна угощалась безотказно. Она сидела густо-малиновая, и взмокли и развились на лбу ее волосы, закрученные было барашком. Она говорила мало, зато много смеялась своим низким густым голосом (сожитель ее немец-слесарь в это время как раз уехал на несколько дней чинить водопровод в одно из дальних имений).
Шафер Ивана, парень-плотник, все перемигивался с Павликом, раз за разом опрокидывая в белозубую пасть водку, и однообразно, но очень твердо усвоенно приговаривал:
– Потрудился в церкви над дядей Иваном, – ишшо потружусь: я человек рабочий!
И Павлик видел, что он, молодой еще, но уже не сомневающийся в себе, выпить может чрезвычайно много.
Устинья все только пригубливала, как хозяйка, однако весьма порозовела, и когда Арине вздумалось петь свои старые деревенские песни, очень протяжные и очень жалостные, она обняла ее, прижалась к ее плечу и тоже вступила в мотив – но на втору, в альтовых нотах, – а нутряными, точно из живота идущими, визгливыми бабьими верхами всецело завладела Арина.
И когда Устинья жаловалась грудью:
Мил уехал, мине бросил… а-а-ах!
Ще-й с малюткой на руках!.. –
в неутешную высь взвивалась, закрывая глаза, Арина:
А малютка та Анютка… го-о-о!
Ще-й похожа на него-о-о!
И щедрые слезы у нее лились.
– Ишь! – показывал на нее пальцем Иван, оборачиваясь к Увару, удивленно и почти умиленно даже.
– Вот те и «ишь!»… Прямо, можно сказать, не жена это тебе, а настоящий соловей курский!
И взматывал лихо белобрысым вихром.
Когда Павлик вышел от них, было к вечеру уже склонявшееся солнце, голубизна и общеземная звонкость, упругость, прозрачность и ширь…
Горы стояли почти сквозные, до того отчетлив был на них каждый камень и каждый бук!..
И хотя знал Павлик из книги, данной ему Максимом Михайлычем, отставным учителем гимназии, что и крепости, построенные то Юстинианом, то потом генуэзцами, на них были, не одни только белые монастыри, все же в монастыри охотно верилось душе, – в крепости нет.
И долго сидел и смотрел Павлик, и везде он видел здешнего бога. Он был совершенно беспечный, этот бог… Он то отдыхал безмятежно там, на горизонте, на грудах мягких, как пух, кудрявых, всегда слегка позолоченных облаков, то пролетал тихо над морем, и по ним, стремясь ему навстречу, чуть-чуть подымалась глубина вод, миллионом морщин бороздя голубое; то он проходил где-то совсем около, совсем близко, и тогда приветнее, гуще и смолистее пахли порыжелые зимние кипарисы.
Павлик уселся на косогоре, там, куда не долетали буйные звуки Ивановой свадьбы, и ему представлялась другая свадьба.
Сидит за столом не пьяная красная визгливая Арина, а бледная глубокоглазая Наталья Львовна. Этот стол – голубое море, и она – одна… Тщательно отметала от нее Павликова мечта рыжеусого плотного Макухина с уверенным в себе золотистым тугим затылком.
Это была невеста, еще ожидающая жениха, и хотя и видел Павлик мельком, как уезжала Наталья Львовна с Макухиным, как с женихом, теперь, именно вот в этот, радостный для него день, когда ни в крепости, ни в войны даже, вопреки всякой истории, не хотелось совершенно верить обрадованному будущностью телу, не хотелось верить и в это.
И когда из дачки Носарева вышел, наконец, пьяненький, волочивший по земле николаевку, очень нетвердый на ногах полковник почему-то с раскрытым письмом (и конверт сиреневый) в руке, Павлик вскочил подброшенно и заработал костылями ему наперерез… Еще издали видел он, что в письме этом, неизвестно откуда взявшемся вдруг, было что-то важное, только не радостное, нет: не такое было лицо у полковника.
– Что это?.. От кого?.. От них?.. От Натальи Львовны? – еще издали кричал Павлик, работая усиленно костылями.
– Представь себе, братец ты мой!.. – почему-то так интимно, как никогда раньше, отозвался полковник. – Иван-то этот, Иван-дурак… – Вчера еще получил на почте, – вообрази!.. И все в кармане… в кармане своем… Платок вынимал, – и на пол… письмо… Увар поднял… Не дурак, а?.. Я… осерчал… и я… ушел.
– Да уж и время!.. И хорошо сделали, что ушли, – одобрял Павлик, а сам все тянулся к раскрытому письму глазами.
Осовелый, с глазами блуждающими и мутными, сказал вдруг полковник тихо:
– Алексей-то Иваныч наш… Удрал-таки… Удрал!..
– Куда удрал?..
Ясно стало Павлику: если есть в письме об Алексее Иваныче, значит, есть и о ней…
– Штуку… штуку, говорю, удрал! – бормотал полковник, наклоняясь к самому его лицу и обдавая его спиртным дыханием.
– Какую?.. Да говорите же!..
– Удрал штуку… и уже сидит!.. В тюрьме!
– Убил, что ли, кого? – испугался вдруг страшно за Наталью Львовну Павлик.
– Убил все-таки… того… или ранил… Своего-то убил… или, может быть, ранил…
Очень растерянно почему-то, растерянно даже для пьяного, бормотал полковник и совал в самое лицо Павлика дрожащее письмо.
– Да кто же это пишет наконец? Он сам?
Не хотелось брать Павлику письма Алексея Иваныча…
– Как «кто»?.. На-та-ша!.. Странное дело… Разумеется, она… Наташа!..
И Павлик тут же взял и взволнованно вобрал в расширенные глаза каждое слово, написанное беглым красивым не женским совсем почерком Натальи Львовны.
Она коротко писала о том, что Алексей Иваныч на вокзале встретил своего Илью и стрелял в него, за что теперь арестован и сидит в тюрьме. Ни о Макухине, ни о близкой свадьбе не было в письме ни слова.
– Ну, хорошо!.. А свадьба?.. А как же их свадьба? – почему-то весело спросил Павлик.
– Свадьба?.. Видишь… вот… Ни гу-гу про свадьбу!..
– То-то и есть! – торжествующе выдохнул Павлик.
– Что ты… «то-то и есть»?..
– Я знал!.. Я это знал!.. – загадочно ответил Павлик, очень изумив этим даже пьяного полковника.
Проводив до самой калитки дачи Шмидта грузно шедшего Добычина и даже подобрав и подправив ему на ходу сползавшую николаевку, Павлик прощался потом с вонзавшимся в горы солнцем, и с морем темнеющим, и с горами, надевающими лиловое передночное, не так, как он прощался с ними ежедневно до этого дня. Теперь он отлично знал, что завтрашний день будет вновь чудесный теплый солнечный день и что так это и пойдет дальше.
Когда он вошел снова к молодым, там уже было накурено – сизо, совершенно пьяно и очень крикливо. Даже Максимку напоили, и от водки он, сидя на полу, болтал головою и плакал, но скоро, забившись в угол и зажавши руки между колен, свернулся клубком, как собачка, и крепко заснул. Другой спал на коленях у Устиньи, нисколько не мешая ей пригубливать и петь жалостные песни…
– Друг! – обратился к Павлику парень-шафер. – Кабы тут где гармоньи разжиться!.. Эх!
И, страшно оскаливая белые зубы, сплошные и частые, все стучал новыми каблуками в пол, из чего заключил Павлик, что и плясать он мог бы так же сколько угодно, как пить.
Арина была уже бескостой: ее все клонило, то влево, то вправо, то назад, то вперед, и если бы не было вправо Ивана, влево Устиньи, впереди стола, а сзади спинки стула, она давно бы упала, но при такой поддержке со всех сторон еще брала заливистые верха и лила блаженные слезы.
Иван кивал на нее удивленно Увару, а Увар говорил, видимо, в сотый раз:
– Не жана ето тебе, – а истинный соловей!..
На другой день Павлик послал своему отцу в Белев открытку, в которой было два подчеркнутых радостных слова: «Я поправляюсь».
Глава четырнадцатая
Брак незаконный
Судебная палата не задержала дела, и когда было написано, просмотрено и подшито с десяток нужных бумаг, Алексей Иваныч Дивеев, пришедший в себя в больнице и выпущенный из тюрьмы на поруки, стараниями Макухина и Натальи Львовны очутился в лечебнице Худолея.
Память к нему вернулась, острый припадок болезни прошел, осталась только сосредоточенность, точно всматривался и вслушивался он во все издалека, заметные усилия делал, чтобы вглядеться и вслушаться, не сразу и не со всяким вступал в беседу, зато быстрей и неожиданней стала его речь.
Занявши койку Иртышова, он подозрительно рассматривал всех в нижнем этаже, даже Прасковью Павловну, сам никогда ни о чем не спрашивал, а когда спрашивали его, отвечал осторожно, односложно; но уже на второй день удивил о. Леонида вопросом быстрым и отчетливым:
– Батюшка, вы верите в то, что вы – батюшка?
– То есть… как это именно?.. – и о. Леонид замигал на него длинными ресницами обеспокоенно и участливо.
– Видите ли… вот что… Я хотел сказать только это вот… Тайна, загадка, недоступное науке… то, – во что верят… то, чего не знают и во что верят… Вы верите?
О. Леонид знал его историю и видел перед собой зоркие и прячущиеся глаза на очень усталом лице, глаза ожидающие, чересчур серьезные… и потому он ответил серьезно и просто, охватив бессильную бороду слабой рукой:
– В общем я верю.
– В то верите, что мы – совсем не мы… не всегда, то есть, мы… а другое в нас, и оно живет, а мы его только носим?..
Это сказано было скороговоркой, хотя и четкой, но таинственно тихой, и о. Леонид не понял и переспросил:
– У каждого есть вчера и завтра и сто человек… Вчера, завтра и сто… пусть меньше, чем сто, – но иногда гораздо больше… – поспешно стал объяснять Алексей Иваныч. – Тогда что же такое грех?.. Я даже не в церковном стиле, нет! Но ведь грех есть преступление!.. Чье же оно?..
– Среда? – улыбнулся, наконец, о. Леонид и стал разрешенно намазывать хлеб маслом (они сидели в столовой).
– Нет!.. Что вы!.. Не среда, нет!.. Среда! – замотал головой Алексей Иваныч. – Среда – это адвокаты!.. Что вы!..
– Тогда я вряд ли пойму, что это такое…
И Алексей Иваныч, наклонясь к нему ближе, начал объяснять отчетливо:
– Свое – это только когда сердце твое бьется правильно: тик-так – пауза, тик-так – пауза… Тогда о нем не думаешь… О чем не думаешь, что оно твое, – то именно и твое… Но если тик-так непра-виль-но-о, – конец!.. Это уж не твое, это – чужое… Что-нибудь чужое в тебя вошло, – и бунт!.. Как же человек смеет говорить ежеминутно «я»?.. Только улитка смеет, а не человек!
– Вот вы ка-ак! – отозвался о. Леонид грустно. – Вы показались мне человеком верующим, а такое уничижение, оно противно вере… В таком случае, что же можно и спросить с человека?.. Ничего?..
– Нет, я верующий… бесспорно!.. – поднял Алексей Иваныч руки для защиты. – Я во что-то верю… Я верую, конечно… Вот в это, что «я» наше кисея, сетка, пронизано в тысяче местах… Только для связи… Чтобы чужому со всех сторон можно в тебя войти и держаться… Для связи чужого с чужим в тебе сетка такая… ажурная… Это и есть «я».
– Не понимаю! – грустно улыбнулся о. Леонид.
– Например, небо, – старался пояснить Алексей Иваныч. – Это пространство, в котором звезды ночью… Оптический обман!.. Что-то пронизано звездами, чего нет на самом деле!.. Это – «я»!
– Вы когда-нибудь на бирже играли? – беспечно спросил Алексея Иваныча Синеоков, бывший тоже в столовой, но занятый около дальнего окна газетой.
– Я?.. – очень удивился Алексей Иваныч. – На бирже?.. Я?.. Что вы!.. Никогда и не думал!..
– Да я ведь только так себе спрашиваю, – успокоил его Синеоков. – Не играли, – и бог с вами.
Дня через два Алексей Иваныч уже освоился со всеми в нижнем этаже дома Вани.
Карасек познакомил его с идеей панславизма, Дейнека – с катастрофами в шахтах, Хаджи – со своими поэмами, и к вечеру третьего дня Алексей Иваныч спросил у Прасковьи Павловны тихо и таинственно:
– Это тут, должно быть, маленький сумасшедший дом, – а?
Прасковья Павловна сделала вид, что донельзя удивилась такому вопросу, и Алексей Иваныч сделал свой прежний привычный хватающий жест и сказал:
– Простите!
А утром на четвертый день, на извозчике Худолея и вместе с ним приехала навестить Алексея Иваныча Наталья Львовна.
Дня за два перед тем она была в больнице – в который уже раз! – и там ей сказали, что Илья Лепетов поправляется и его можно видеть; но когда она с билетиком от дежурного врача, разрешившего свиданье с больным, вошла в отделение для хирургических, сиделка не пропустила ее в палату.
– Подождите, – сказала, – здесь в коридоре: я сейчас спрошу больного.
Очень беспокойно было Наталье Львовне, и трудно дышать.
Сидя на простом деревянном белом диване, она все ждала: вот выйдет из двери Илья (она знала, что он уже ходит).
Но вышла снова та же сиделка или сестра милосердия, в белой наколке и с красным крестом на белом халате, молодая еще, кудряво завитая, и сказала почему-то с большим презрением в голосе и любопытством в глазах:
– Больной не желает вас видеть!
И протянула обратно билетик.
– Что-о?.. Кто не желает?.. Как?..
Почувствовала, что побледнела вдруг, и оперлась на ручку дивана.
– Больной Лепетов так и сказал: «Этой особы я не желаю видеть!..» – и швырнул разрешение.
Синие глаза с поволокой были явно насмешливы теперь, и Наталья Львовна крикнула вдруг:
– Вы врете!.. Вы нагло врете!
И пошла было к палате Ильи.
Но сиделка стала около дверей и уже не равнодушно, а с поднятой головой закричала куда-то в глубь длинного коридора служанке с ведром:
– Маша!.. Позови надзирателя!.. Посетительница скандалит!
И Наталья Львовна поняла, наконец, и поверила, что Илья действительно не хотел ее видеть и бросил бумажку, которой она добивалась так долго.
Надзирателя она не дожидалась. Путаной походкой – путаной и в то же время какою-то легкой – пошла к выходной двери, зарыдала было на лестнице, но все-таки нашла возможность удержаться, когда мимо нее пробежали, бойко прыгая через две-три ступени, один за другим два фельдшерских ученика в черной форме.
Все дрожало в ней, но довольно уверенно по желтым ракушкам дорожек дошла до ворот больницы и, только усевшись в свой фаэтон, плакала всю дорогу до самой гостиницы.
Даже извозчик, старичок очень сонного вида, оборачивал иногда к ней голову и потом покручивал ею и стегал лошадей, а когда получал деньги, спросил участливо:
– Или, стало быть, умер у вас кто, барыня, – в больнице-то?
– Умер, – отозвалась Наталья Львовна, еле его разглядев сквозь запухшие веки.
И старичок снял картуз, перекрестился, сказал:
– Дай, боже, царства небесного!
И только потом уже попросил прибавки.
Теперь, приехавши с Худолеем, встреченным на улице, Наталья Львовна смотрела на Алексея Иваныча как на очень родного, как на самого почему-то родного ей в этом городе: ведь Илья был у них общий Илья.
Ей приятно было видеть, что Алексей Иваныч ей улыбался застенчиво, почему-то глядя при этом на нее вбок: поглядит очень светло и тепло, отведет глаза, улыбнется и гладит одну руку свою другой рукой.
Их оставили одних, когда Худолей поднялся к Ване наверх, и Наталья Львовна, говоря вполголоса, спрашивала его, как своего, чем его лечат здесь, как его кормят?
Теперь Алексей Иваныч не говорил уже как прежде: «Я не болен, – нет!» – теперь он конфузливо отвечал:
– Четыре раза в день… что-то я должен пить такое… очень противное… по столовой ложке… И еще порошки на ночь.
– Вы пейте, родной… Это все нужно, – внушала она.
– Я пью, – как же… Я ведь не сопротивляюсь, – отвечал он, упирая глаза в недавно выкрашенный пол.
– А Илья поправляется… Илья уже ходит… Вы знаете?
– Вот ка-ак!.. – очень как бы удивясь, тянул Алексей Иваныч. – Хо-дит?.. Скажи-ите!
– Ходит, да… Вы его не хотите видеть?
– Я-я?..
Алексей Иваныч отшатнулся даже, но, видя, как лукаво улыбается Наталья Львовна, улыбнулся почему-то и сам.
– Илье конец! – сказал твердо. – В себе я Илью убил… А там, где-нибудь еще, – на что он мне?.. Там, где-нибудь, пусть живет… Я стрелял… бесспорно… на вокзале… Очень помню… Но я ведь не в него даже… Я – в то место в себе, где был он, Илья Лепетов, у которого сын от моей жены… на Волыни, у свояченицы… Лепетюк… В то место, где был он, а совсем не в него… Понимаете?..
И так старательно вглядывался в ее глаза своими белыми, что ответила Наталья Львовна поспешно:
– Да, я понимаю… Я думаю, и другие поймут… должны будут понять… И хорошо, что вы забыли… И не вспоминайте о нем больше, – не вспоминайте совсем!.. Не стоит он!
– Не стоит, да… И я, конечно, забыл.
Они около окна сидели в столовой, и Наталье Львовне отчетливо видно было, как то подходил совсем близко к ней, то, в глубь своих глаз опуская веки, прятался от нее Алексей Иваныч.
– Ну вот, – сказала она, – вас на суде оправдают, конечно…
– Оправдают?.. Значит, будет все-таки суд? – подошел он к ней близко.
– Суд… будет, должно быть… – не знала, как ответить, она.
– Бесспорно… бесспорно, да… Должен быть суд… Человек – не муха… То есть он, конечно, муха, пока он не ранен… А если ранен, его куда-то увозят, и потом суд…
– Но вас оправдают, конечно, – это пустяки… И вы опять будете строить дома…
– Дома?.. Да, конечно… И в них будут жить женщины… И к женщинам будут приходить студенты… Строят дома мужчины, но принадлежат они почему-то женщинам… большей частью так бывает… Вы заметили?.. А дом Макухина будет принадлежать вам, а сам Макухин погибнет…
– Алексей Иваныч! – удивлялась она.
– Простите! – протянул он к ней руку, и очень жалостное стало у него лицо. – Я что-то такое сказал не то!.. Простите!.. Макухин… Федор Петрович… Он так много для меня сделал!.. Вы, конечно… Все вы… Но и он тоже… Я понимаю это… Там, – не в тюрьме, а там… тоже решетки в окнах… когда вы явились ко мне там, – это как молния было!.. Да!.. Да!.. И я все вспомнил… Там очень кричали кругом, и я не мог вспомнить… Я хотел определить себя, хотел отделиться и не мог… Я помню… И вдруг вы!.. Вдруг… вы!..
– И вы сказали: «На-таль-я!» – улыбнулась она.
– Нет!.. Как можно? – испугался он. – Я сказал: «Наталья… Львовна…» Это я ясно помню…
И он вдруг поднялся и поцеловал ее руку.
Когда лысеющая высокая голова Алексея Иваныча наклонилась к ее руке, Наталье Львовне до боли в сердце жаль стало этого совершенно одинокого. Почувствовалось именно это в нем: одинокого и заблудившегося среди людей, как в лесу.
И когда Алексей Иваныч опять уселся около нее на стуле, растроганное было у него лицо, и, неизвестно почему, совсем тихо заговорил он:
– Я не помню, кто это рассказывал мне… Совсем не помню, кто это… странно!.. Может быть, это там, когда море, дорога… и сады?.. Продал урожай сада – груши зимние – какой-то садовник, старик уже, семейный: старуха, две дочери… А сад в глухом месте, в лесу… Получил деньги… Урожай увезли. А ночью пришли его грабить… Зарезали всех четверых ножами… Женщины тут же умерли… Старик прожил немного, дня три… На другой день к нему в больницу привели одного убийцу… Спрашивают: «Этот был? Узнаешь?» А он его узнал: этот самый – один из троих… Узнал и отвернулся к стене… «Этот! Говори же!» – «А старуха моя жива?» – «Бог прибрал». – «А дочери?» – «Бог прибрал». – «Я тоже, говорит, скоро кончусь». – «Ты еще поживешь!..» – «Какой я жилец?» Все знали, конечно, что он вот-вот умрет, но это уж так, – обман был… обман… и он понял. И глаза закрыл. «Уведите его», – говорит. «Этот или не этот?.. Посмотри!» – «Старуху бог прибрал, обеих дочек, меня скоро… какой же этот? Известно, не этот!..» – «Не узнаешь?» – «Нет, совсем не этот!..» Так и увели того… Потом уж, когда умер старик, тот сам сознался… И спрашивается, почему же старик не сказал: «Этот самый»?
Алексей Иваныч спросил это, глядя до того белыми глазами, что испугалась и чуть не отшатнулась Наталья Львовна, но все-таки сказала скороговоркой:
– Да, в самом деле… Почему же он так?
– Не поняли, никто не понял, – почти торжествуя, объяснил Алексей Иваныч, – что ему уж не нужно было это: он или не он?.. Для следствия важно было, для полиции интересно, а для него… зачем?.. А для него уж все равно было, он или не он, он или муха, или – черная точка перед глазом мелькает… Для него все – безразлично уж было… Это если по-вашему ответить: «Да, он!.. Бесспорно, он!.. Кто-то другой еще и этот…» Но вашей правды я теперь не признаю… У меня – своя теперь правда… И по этой, по моей правде, – не он!..
– А кто же?
– Умирает, например, человек от чахотки… Разве будет кто-нибудь судить коховскую бациллу?.. И вы представьте только, если за день, за час до смерти покажут ее умирающему, под микроскопом покажут: «Она?..» Или даже так: «Вот она! Эта самая тебя убила!..» – Он не станет смотреть… Он отвернется… Поверьте мне, – он должен отвернуться!
– Будто вам случалось умирать от чахотки! – улыбнулась тому, что так связно он рассказал все это, Наталья Львовна.
Но с такою же беспорядочностью в мыслях, которая отличала его и раньше, Алексей Иваныч, вдруг поднявшись немного и севши опять, сказал:
– На это нужны деньги, – я понимаю… Вы тратите на меня свои деньги… У меня очень мало… У меня почти нет… Но у меня ведь есть дом… Есть дом… в Харькове… за одиннадцать тысяч… Я купил за одиннадцать. Теперь он больше стоит… Тогда хотела Валя, чтобы купить дом… Теперь я не знаю, как… Его можно продать, – я уплачу… Или я теперь не могу уж продать?..
– Алексей Иваныч! – укоризненно поглядела Наталья Львовна тем неподвижным взглядом своим, который знал за нею и которого он боялся раньше.
И так же, как раньше, он привстал и наклонил к ней голову.
А в это время открылась наружная дверь в столовую, и вошли Худолей и Ваня, и у обоих были почти обрадованные чем-то, торжественные, нашедшие лица, и оба смотрели именно на них двоих, у окна сидевших, и направились к ним, и Худолей говорил, лучась глазами:
– На-таль-я Львовна! Вы представьте только, какая случайность!.. Молодой хозяин этого дома, – позвольте вам его представить, – оказалось, отлично знает… Лепетова… – Тут он бросил встревоженный взгляд на Алексея Иваныча и добавил: – о котором наш больной, надеюсь, благоразумно забыл!..
– Как?.. Лепетова?.. Илью?.. – не сразу поняла Наталья Львовна.
– Илья… Галактионыч он, кажется? – пробасил Ваня.
– Неужели знаете?.. Откуда же вы его знаете?.. Он теперь поправляется… К нему можно…
Наталья Львовна даже поднялась, и теперь у окна столовой уже не сидели двое, а стояли четверо, и Ваня рокотал, улыбаясь:
– Да мы с ним просто сели пассажирами на один пароход, когда я сюда ехал… В Неаполе… на итальянский… Он сюда ехал за хлебом… Было удобно… И стоянки долгие… В Пирее двое суток, например… В Константинополе целых три дня… И вот мы с ним все это время… Он очень был мил…
– Мил?.. Он?..
Очень искренне вырвалось у Алексея Иваныча, очень изумленные стали у него глаза, но все трое поглядели на него не менее изумленно, и он почтительно поклонился всем трем.
– Вот как!.. Вы его знаете!.. Из-за границы вместе… Да, он был за границей… Илья Галактионыч… Да, – совершенно растерянно и вместе радостно говорила Наталья Львовна, и покраснела вдруг, и на большого Ваню глядела почти восторженно, а Ване, видимо, приятно было вспомнить Илью. Ваня рокотал:
– Как же можно!.. Мы с ним большие друзья сделались за это время…
Алексей Иваныч пожал своим косым плечом и отвернулся к окну.
Худолей, извинившись, пошел обходить своих больных, а Наталья Львовна, дотронувшись до локтя Вани, спросила:
– Вы не хотите его видеть, – скажите?
– Лю-бо-пыт-но бы было о-чень!.. – оттрубил Ваня. – Вы сказали, можно к нему?
– Можно, можно!.. Он уже ходит!.. Можно сегодня… сейчас… Вы хотите?
Очень просящие глаза были у Натальи Львовны, и нельзя было Ване, глядя на нее, не захотеть сейчас же ехать к Илье.
Он тут же пошел одеваться, и пока не было его, Алексей Иваныч смотрел на нее подозрительными, новыми для нее, насторожившимися глазами, и на торопливые, скачущие ее вопросы отвечал совершенно невпопад.
– Ну, хорошо… Я – другое дело, конечно, но вы… вы?.. Я-то давно уж знаю Илью, но вы что нашли в нем? Надутый, чванный… и не талантливый, в конце-то концов… И неумный, – да… Вы знаете, – он совсем неумный!..
Сидя на извозчике рядом с широким Ваней, Наталья Львовна силилась найти еще что-нибудь, совершенно уничтожающее Илью: вдруг он опять, как два дня назад, не захочет ее видеть?
А Ваня усмехнулся на ее слова:
– Вы думаете так о нем?.. Как на кого, конечно… А по-моему, он – интересен… Я, конечно, еще менее умен… и талантлив… но мне казалось, что Илья… Извините, я его без батюшки называл, а он меня и того проще…
– Вы – сила, – это видно, – вы атлет, – я знаю, – торопливо перебила Наталья Львовна, – ну, а Илья… Илья, – что такое?.. Тоже сила?..
– Увлекательный человек!.. Илья – человек больших планов и… я бы сказал… большого спокойствия.
– Спокойствия и… планов?.. Ничего не поняла!.. Спокойствия больше всего в камне лежачем, под который и вода не течет!..
– Однако же вот в нас с вами его нет, – улыбнулся Ваня. – И в вашем знакомом, который стрелял в Илью, тоже…
– В нем-то меньше всего!.. Так спокойствие?.. А вы знаете, из-за чего стрелял в Илью этот… мой знакомый?
– Романтическое что-то… Это мне неинтересно, как царство небесное, – рокотнул Ваня.
– Вам-то да-а, а вот Алексей Иваныч погиб!.. Почему же, скажите?.. Потому что он маленький человечек?.. Покушался маленький на большого, а у большого своя судьба: в огне не горит, в воде не тонет… и вся история эта – только деталь лишняя в его биографии… Алексей Дивеев без биографии, а у него, у Ильи Лепетова – био-гра-фия!.. И что же ему какие-то Дивеевы и Добычины?
– Вы им обижены, Ильей? – повернулся к ней Ваня.
– Я – я?
Наталья Львовна задержала слезы и вздернула плечи.
– Вот еще глупости: оби-жена!..
А так как в это время размокшая от мелкого дождя оборванная афиша мелькнула в стороне на углу, она добавила:
– Мы – люди афиш с ним были… иногда позволяли себе театральные жесты…
– Да, и через это увлеченье он прошел, – он говорил мне… Хорошо, что не задержался!
– Хорошо? – удивилась Наталья Львовна. – А вы знаете, мы, его товарищи, видели в нем талант!
– Это разве большая редкость?..
– Ну да… я забыла… вы цените больше спокойствие и… что еще?.. Да, большие планы!..
Ветер, полевой и вольный, но стесненный улицами, налетал то справа, то слева, и был кругом неприятный шум, свист, лязг и дребезг, обычный в городе зимой, и говорить было трудно, но Наталья Львовна, сидя с тем, кто если не лучше ее, зато позже ее знал Илью, как будто соприкасалась с самим Ильей.
Скверные лошади были у извозчика… Они бежали ли, или это только хитрый отвод глаз – бег на месте?.. Менялись размеры и цвет оборванных афиш по сторонам, видных из-под верха экипажа, значит, бежали все-таки, но, может быть, не к больнице?..
И хотя знала она, что еще очень рано для посетителей, и придется дожидаться в больнице часа два, и то и дело говорить этому грузному художнику: «Теперь уж совсем скоро, – минут пять еще, не больше… Пройдемся вот сюда, посмотрим… Не волнуйтесь…» – хотя знала, все-таки нетерпеливо слушала стук восьми подков о скользкий булыжник.
И еще странное было: жидкие разъезженные рессоры слабо отражали толчки этих булыжников, часто бросали ее плечо о плечо Вани, но она не его все-таки, а Илью ощущала в эти моменты рядом с собой.
– Ну да, большие планы, – говорил между тем Ваня, – это мне всегда нравилось, и не только в Илье…
– Я не понимаю, что это за большие планы!.. Объясните!
– Не берусь объяснить… Нет…
– То есть, вы-то сами уверены ли, что они большие? – и посмотрела на Ваню очень недоверчиво.
– Я думаю… что это зависит от времени… Если настанет крупное время, то и людей за уши вытянет… И даже очень многих… а не только избранных.
– Время?.. А Илья?.. При чем же тогда Илья?
– Илья?
Ваня вдруг улыбнулся длинно, и от этой улыбки большое лицо его стало намекающим, почти шаловливым, почти по-детски хитрым.
– Илья думает, что наше время очень скоро станет временем очень крупным…
– Почему думает? – насторожилась Наталья Львовна.
– Мы с ним бродили тогда по Галате… это в Константинополе… грязные очень кварталы… И вот он говорил…
– Но ведь думать мало, надо знать!..
– Он на чем-то основывал это… Только я, признаться, забыл…
– За-бы-ли?.. Ну да… Потому что вам скучно было слушать всякую его чепуху!.. Скучно!..
– Не то что скучно, а… как бы это сказать…
– Нет! Скучно!.. Скучно!.. Так же и мне сейчас скучно!.. Боль-ши-е пла-ны!.. Скучно, и все!
И Наталья Львовна замахала рукой.
В больнице у дежурного врача уже не она, а Ваня взял билетик на свидание с Ильей.
Очень встревожена, очень взволнована была Наталья Львовна, когда входила с ним в знакомый коридор хирургического отделения. Этого коридора с белыми деревянными диванами и стеклянными высокими дверями палат она боялась теперь. Но сестра или сиделка в белом халате была уж другая теперь, старушка с кротким ликом. Ваня очень уверенно пробасил ей фамилию Ильи, и она радостно почему-то закивала головой, точно к ней самой пришел в гости этот молодой бог здоровья.
– Я только скажу ему, больному. – может быть, он сюда выйдет…
И голос у этой сиделки оказался тихий, ласковый, очень семейственный.
– Ага!.. Да… Скажите: Сыро-мо-лотов! – очень густо протрубил ей вслед Ваня.
И когда, кивая ему назад головой, пошла к недоступной два дня назад и раньше высокой двери старушка, Наталья Львовна, неожиданно для себя самой, спряталась за широкую, как сани, Ванину спину.
И несколько мгновений этих, когда скрылась за дверями старушка, очень они показались долгими, и больно стало, гулко и крепко биться сердце.
А глаза из-за спины Вани все на дверь, – и вот отворилась эта дверь, и лик у старушки сияющий:
– Пожалуйте в палату… Очень рад вас видеть…
– Да ведь и я рад!.. Как же…
Ваня хотел было пропустить вперед себя Наталью Львовну в дверь палаты, но она решительно толкнула вперед его, а сама, глядя упорно вниз под ноги на белый с красными каемками половик, зачем-то опускала торопливой рукой узенькую вуальку со шляпки.
Но вуалька была приколота и даже не прикрыла глаз, и когда она услышала радостный вскрик Ильи: «Вааня!» – она подняла глаза и больше уж ни на что кругом не смотрела, кроме него, и не думала уж, узнает он ее или нет, и насколько это будет ему неприятно и ненужно.
– Об-рос ты! – протрубил Ваня.
Действительно, новый был теперь Илья для Натальи Львовны, – она не видела его раньше таким. Таким видел его Алексей Иваныч, когда приехал к нему домой. Пробились усы, начала курчавиться мягкая бородка, бледное было лицо и радостное, так как смотрел он только на подходившего Ваню.
Наталья Львовна путаной походкой держалась за Ваней, ее он мог только угадывать… Но когда дружески-прочно поцеловался с Ваней Илья, вставши с койки, она протянула ему обе руки:
– Здравствуй! Здравствуй, милый!
Она и улыбалась, и слезы заволокли ей глаза, а он сказал недовольно:
– А-а, и вы… все-таки… Здравствуйте!
Лицо у него потухло, рука его была чужая, деревянная, и она почти вскрикнула:
– Нет! Нет, Илья!.. Почему же ты так… враждебно?
– Садитесь же. Садитесь же… Вот табурет, Ваня! – заторопился Илья, и порозовело у него лицо, и исподлобья поглядел он куда-то в глубь палаты.
Палата была большая, но больных в ней было всего трое, кроме Ильи. Эти трое лежали рядом в другом конце, а около койки Ильи стояли пустые строгие койки, застланные темно-серыми байковыми одеялами и с наволочками подушек из фламского полотна.
Это была «дворянская» палата, и из того же полотна под темно-серым халатом виднелась на Илье рубаха, завязанная у ворота.
Теперь было два часа, и много света входило в палату сквозь очень большие окна, но прохладно было, и от Ильи пахло иодоформом.
Наталья Львовна села после Вани. Такою тяжестью стал вдруг ее короткий сак и даже шляпка из черного бархата с белым крылом, что как-то странно было садиться на хрупкий с виду табурет: хотя бы стул со спинкой.
– Да, Илья!.. Так вот где я тебя нашел!.. – смущенно зарокотал Ваня.
А она вся подалась вперед и сказала торопливо вполголоса:
– Илья, ты знаешь, я выхожу замуж!
Она сказала это, как девочка, застенчиво и робко, и как бы жалуясь ему, и как бы ища совета, и как бы отпуская его от себя, и как бы желая, чтобы он не поверил в это, чтобы дико было ему в это поверить.
Но он удивился чрезвычайно. Он не на нее, а на Ваню поглядел вдруг очень сложным, жалеющим даже, почти испуганным взглядом.
– Ка-ак?.. Замуж?.. За тебя, Ваня?..
Ваня только отрицательно повел головой, поглядел было на нее, но тут же отвел глаза.
– Не за него, нет!.. За другого, – заспешила Наталья Львовна. – Ты его видел тогда на вокзале… Мы с ним приходили раньше тебя проведать, но только… тогда было нельзя… А сейчас как?.. Ты уж поправился, Илья?.. Как я рада!
И она прижала руки к груди, однако опустила их, поглядев на Илью.
Он уже не слушал ее, он глядел на Ваню, по-прежнему радостно улыбаясь, и говорил:
– Как же ты, Ваня, узнал, что я здесь?
– Да, видишь ли… слухом земля полнится… Ведь у меня отец в этом городе живет… Я тебе говорил, кажется…
– Это я знаю…
– Ну вот… ради него я и застрял здесь… на время, впрочем… Скоро думаю ехать…
– Далеко?.. За границу?.. А у меня из-за одного недоноска целый месяц жизни пропал!
И почему-то Илья раздул ноздри и зло посмотрел на Наталью Львовну, и этот взгляд его заставил ее посереть… Это она почувствовала вдруг, что лицо ее стало теперь не бледным даже, а серым, точно он ударил ее наотмашь взглядом этим и перебором ноздрей, и она сказала, уже не понимая зачем:
– Недоносок же этот находится сейчас не в тюрьме, а в доме… вот… Ивана Алексеича…
Даже Ваня крякнул и вздохнул, услышав это, даже он обернулся к ней укоризненно, а Илья нахмурился и спросил его:
– Дикий вздор какой-то?
И зачем-то обеими руками оттянул вниз пояс халата.
– Я действительно купил здесь домишко… имел такую глупость… – не на вопрос ответил Ваня. – Ты, пожалуйста, как только выпишут тебя, – ко мне… Это на Новом Плане.
– Вот как?.. Дом купил?.. Поздравляю!.. А Дивеев?
– Ка-кой Ди-веев?.. Ах да… Этот сумасшедший?.. Да ведь он же с ума сшел!..
– Это я ему давно говорил, что ему бы на Сабурову дачу, но он мне не верил, – жестко пропустил сквозь зубы Илья. – Жаль, потерял через него время!
– Зато… приобрел опыт! – улыбнулся Ваня.
Илья не ответил улыбкой, – он сказал еще жестче:
– Да, уж теперь, если кому-нибудь вздумается в меня еще раз стрелять, уж я буду знать, что мне надобно делать!
– А что же в таких случаях надобно делать? – прогудел Ваня неожиданно для Натальи Львовны.
– Не по-зво-лять эти упраж-нения воин-ственные всяким без-дар-ным стрел-кам, – вот что!
И по одному тону этого, ставшего очень брезгливым, голоса Наталья Львовна почувствовала, что он, глядящий не на нее, а на Ваню, помнит именно теперь больше и лучше, чем когда-нибудь раньше, ее выстрел, и разбитую розовую лампадку, и кошку опрометью вон с задранным хвостом.
Она стала перебирать непроизвольно сумочку свою, повертывая ее, точно наматывала на нее нитки, и в то же время глядела не на эту сумочку, а на мощную руку Вани, лежащую на его левом колене.
– Как же им не позволять? – вставил было Ваня, но Илья продолжал, сильно напирая на слова:
– Потому что, если позволять это всяким… сумасшедшим или женщинам, слишком… исте-ричным, то этим ни ма-лей-ше-го удо-воль-ствия не доставишь ни себе, ни им!
Отбросив руки с ридикюля, вытянув и заломив их, Наталья Львовна кинулась бы на колени перед Ильей, если бы не поймал глазами этого жеста Илья и не сказал пренебрежительно:
– Тут не театр… тут больница!
И Ваня, заметив это, снова крякнул, вздохнул и оглянулся на дальний угол, куда как раз в это время направлялась какая-то девочка-подросток в школьной шапочке, с двумя кулечками, может быть домашних печений, а ей навстречу подымалась с подушки худощекая напряженная голова с проседью в черной бороде.
И не успела Наталья Львовна также вслед за Ваней оглянуться на девочку, Илья спросил в совершенном недоумении:
– Как же он оказался у тебя, Ваня, этот стрелок?
– Видишь ли… дом мой… он – двухэтажный… – точно намеренно растягивал Ваня ответ. – Нижний этаж снял… один доктор военный… И там лечебница теперь… для этаких больных…
– С зайчиками?.. Вот как!.. Большой, значит, дом?
– Нет… Да ведь их пока немного…
– Так он… этот… не придет ли сюда еще… со своим знаменитым револьвером, а?
Наталья Львовна заметила, какое определенно брезгливое лицо стало теперь у Ильи. Спрашивал Ваню, а глядел на нее, и лицо налито брезгливостью до краев.
– Ты не волнуйся, Илья, – тебе вредно и ни к чему, – зарокотал Ваня. – Он больше ни в кого уж стрелять не будет… Он очень жалок… Я его видел сейчас…
– Но кто же хлопотал о нем, хотел бы я знать?.. – поднял брови Илья. – Кто взял его на поруки?.. Какой болван?
Наталья Львовна опять перебрала руками сумочку (простую, кожаную, темно-зеленого цвета) и ответила тихо:
– Мой жених.
Должно быть, заметив, какое вдруг изумленное стало лицо у Ильи, вставил поспешно и ненужно Ваня:
– А Эмма уехала… знаешь ли… к себе в Ригу…
Илья даже не заметил этой вставки; он спросил Наталью Львовну насмешливо:
– Ва-аш жених?.. Он ему кто же… этому… ваш жених?.. Брат?..
– Случайный знакомый…
И Наталья Львовна опустила глаза.
– Ска-жи-те!..
И точно теперь только услышал, что сказал Ваня:
– Так уехала в Ригу?.. Совсем?
– Как совсем?.. От меня совсем?.. Ну вот!.. Зачем же? – усмехнулся довольно Ваня. – К своим, проведать… и в цирк кстати… В Риге хороший цирк.
– Ска-жи-те!.. Что же он, богат? Со связями?.. Князь какой-нибудь этот ваш жених? – совершенно не слушая Ваню, спрашивал отрывисто Илья Наталью Львовну и закончил вдруг: – Мне совершенно безразлично, конечно, кто, но-о…
– Он к вам сюда не придет, не бойтесь! – сказала Наталья Львовна.
– Зачем же мне бояться?.. Я потому только и здесь, что не боялся… Однако не мешало бы… Я ведь по серьезному делу ехал, Ваня, и вот… Я потерял тысяч пятьдесят благодаря этому!
– Пятьдесят тысяч?.. – Ваня вдруг широко улыбнулся. – Какого же это великого грешника должен был ты защищать?
– Не защищать, нет!.. Совсем не то… Дело было чисто торговое… Тебе не странно?.. Чисто торговое!.. Ведь у меня отец был купец, – я тебе говорил?.. И дядя… Он был тогда со мною на вокзале… тоже купец… Я ведь не галерейки разные ездил за границей смотреть, – ты меня извини, как художник, – я по делу ездил… И вывез я оттуда вполне обоснованный план действий… И старого дядю своего этим планом своим покорил… И мы ехали за этими пятьюдесятью тысячами наверняка!.. Почти в кармане были!.. И нужно же было жалкому дураку этому!.. И по странной случайности он у тебя в доме!.. Этого-то уж я не ожидал!..
– Больной… Лечится… Так вот как!.. Пятьдесят тысяч!.. И Никита Демидов по-прежнему твой идеал?
– Никита и сын… Сына звали Акинф… Русский Крупп… только на сто лет раньше Круппа.
– Крупп… ведь это… пушки? – безмерно удивилась Наталья Львовна, переводя глаза с Ильи на Ваню.
– А Демидов для армии Петра Великого поставлял ружья, – ответил ей за Илью Ваня.
– Ты знаешь, Ваня, что представлял собою Прокофий Акинфович, внук Никиты? – заметно вдруг оживился Илья. – Не знаешь, конечно, – я тебе скажу. Я сам это недавно узнал… Екатерине-душке на какие-то авантюры – кажется, на войну с турками, понадобились деньги… Посылает она Федора Орлова к Демидову на Урал занять четыре миллиона… Тот говорит: «Деньги будут, а когда отдача?..» – «Да уж матушка-царица, ужли ж она…» – «Одначе денежки счет любят… Я человек торговый… У меня счет и расчет… Через полгода день в день и час в час чтобы деньги мои назад были… А к сроку не будут, один ежели день просрочишь, – я сделаю вот что: соберу купцов уральских и князей и графов, какие под рукой найдутся, и четыре раза тебе при всех по сусалам дам, а денег назад не возьму… Желаешь?» – «Это, – говорит Орлов, – матушке-царице обида будет… Я не от себя денег прошу, а от нее прислан… Ты, стало быть, матушку-царицу оскорбляешь…» «Чем оскорбляю?.. Что денежки счет любят?» – «Должен буду передать царице». – «Дело любезное… Поезжай, передай…» Каков банкир был лет полтораста назад, а, Ваня?
Наталья Львовна вдруг увидела прежнего Илью… Очень надменны и очень задорны стали у него вдруг глаза, точно сам он, загораясь, играл молодого (непременно молодого) Демидова Прокофия.
– Фи-гу-ра! – крутнул головою Ваня. – А не дешево отдавал четыре миллиона за четыре пощечины какому-то Орлову?
– Четыре миллиона для того времени – деньги огромные!.. Однако и цена хороша!.. Четыре пощечины, выходит, не Орлову, ты не так понял, а самой матушке-царице! И Орлов поехал назад в Петербург и передал Екатерине.
– И та при-ка-за-ла деньги взять без всяких условий? – улыбнулся Ваня.
– Нет, немножко не так… И та послала за деньгами в Голландию, устроила внешний заем под лихие проценты и, только так себя обеспечив, послала за деньгами того же Орлова к Прокофью… И Орлов условие о четырех пощечинах подписал.
– Неужели подписал? – вставила Наталья Львовна.
– А подписавши, – не поглядел даже на нее Илья, – получил деньги счетом и потом дрожал за свои щеки и торопил голландцев и за два дня до срока деньги привез Прокофию… Но Прокофий заставил его просидеть эти два дня и деньги принял час в час, как было написано в условии… «Денежки, говорил, срок любят… Матушка же царица может меня и посечь, конечно, если захочет, – силы у нее на это хватит, а против батюшек миллионов и она не вольна!..» Вот он каков был, наш Сесиль Родс!..
– Анек-дот! – рокотнул Ваня.
– Может быть, – но… того времени, заметь!.. У тебя, дескать, власть, а у меня – сила!.. Могу тебе и такие условия поставить, – так как ты без меня не обойдешься… Отлично понимали это и тогда!
Наталья Львовна смотрела теперь не на Илью, а на Ваню: что он ответит? – Но Ваня улыбался, как будто любуясь Ильей. Он теперь весь был явная сила – сутуловато сидевший на табурете, охватив колена большими пальцами рук, – и он сказал:
– Самые счастливые люди те, которые могут сочинять анекдоты.
– А если их некому будет рассказывать? – поспешно возразил Илья. – Ты представь только: кто еще несчастнее анекдотиста, которому некому, – ну, совершенно некому рассказать свежий анекдот?
Ваня положил свою руку на его колено и засмеялся тихо, но так густо, что обернулись в их сторону бородатый больной и девочка в школьной шапочке, и еще другой больной с перевязанной головою, неизвестно – молодой или старый.
Наталье Львовне почему-то стало очень неловко за Ваню, а Илья будто не тогда, десятью минутами раньше, а вот именно только теперь ее обидел.
– Я не вижу в нем этого большого спокойствия, о котором вы мне говорили! – сказала она Ване, так как будто и не было рядом Ильи, и глаза у нее стали теряющие, такие глаза, как у тех, кто смотрит за улетающим, утопающим в серых тучах осенних треугольником журавлей.
Ваня только поднял на нее мясистые редковолосые брови, а Илья как будто не расслышал, что она сказала, и продолжал о своем:
– Это у меня было очень хорошо продумано и рассчитано, но время потеряно, – и конец!.. Дядя мой поехал один, но у него, я уверен, ничего не выйдет, – в пустой след!..
– Ну что ж, – придумаешь на досуге другой проект, – глядя на него пристально, сказала Наталья Львовна.
Илья встретился с нею глазами, засунул за пояс руки и сказал Ване с виду спокойно:
– Я пролежу тут еще, должно быть, дней десять… Если приедешь ко мне еще раз, буду рад, только… без провожатых, пожалуйста… Поговорим, я буду рад, – только… приезжай один!
Ваня понял, что теперь лучше уйти, и поднялся, зарокотав:
– Ну, поправляйся… да… Я и не спросил тебя, как ты ранен… Хорошо, что неопасно… Поправляйся!
И протянул ему руку.
– Время для посетителей тут от двух до четырех, – ты знаешь?.. Можешь когда угодно, – очень твердо сказал Илья, – только, пожалуйста, один.
Ваня сделал было шаг от койки Ильи, понимающе наклонив голову и давая место проститься Наталье Львовне, но она не поднялась с табурета, она сидела, перебирая сумочку, и глядела на Илью в упор, и углы губ у нее начали слабо дергаться.
– Идемте, Наталья Львовна! – попросил Ваня и осторожно, как к очень хрупкой вещи, прикоснулся к ней.
– До свиданья!.. Прошу меня извинить, ежели я лягу, – сказал Илья, и действительно неторопливо и не совсем свободно лег на койку.
– Да… Он устал, конечно… Идемте, Наталья Львовна! – несколько нажал на ее плечо Ваня, но она сказала тихо:
– И это все, Илья?
Илья тем временем сбросил туфли и завернулся в одеяло, подтянув его к самому подбородку, и закрыл глаза.
– Идемте же, Наталья Львовна! – в третий раз сказал Ваня, просунув пальцы к локтю ее руки.
Он покраснел, он даже чуть потянул кверху этот локоть, но она сказала тихо:
– Вы идите, а я еще посижу.
– Здесь больница, а не театр!.. – поднял голову Илья. – Уведи ее, Ваня, ради бога!
Обхватив Наталью Львовну за прижатые локти сзади, Ваня решительно поднял ее с табурета, как подымают маленьких детей, а Илья укрылся с головою одеялом.
Был момент, когда совершенно потемнело в глазах Натальи Львовны, и она упала бы, если бы не держал ее под руку Ваня, а когда момент этот прошел и она вышла рядом с Ваней из палаты, то в коридоре ей пришлось сесть от слабости и перебоев сердца на белый диван.
– Экая вещь! – тихо басил над нею Ваня. – Может быть, воды?
Минуты две очень нехорошо билось сердце, но, оправившись, сказала Наталья Львовна то, чего не понял Ваня:
– Мой вам совет: никогда не бейте розовых лампадок.
Лицо ее было очень какое-то серое, даже глаза из черных стали сизыми, так что испугался Ваня, но она сама пошла к выходной двери и потом на лестнице и на дворе по желтым ракушкам уверенно ставила ноги.
На извозчике она спросила Ваню:
– Зачем ему пятьдесят тысяч… вашему другу?
– Его дело… не знаю, – ответил Ваня, а подумав, сказал: – На мелкие расходы, должно быть.
– Конечно… Куда же еще такую мелочь, если… большие планы!.. А что такое его большие планы?
– Ну почему же я знаю!
– Он вам говорил ведь?
– Неопределенное все очень…
– Вы не хотите сказать!
– Неопределенно все… Боюсь напутать…
– Ну, хорошо… Демидов, Крупп – это все пушки… Нелепо и странно… И скучно… И мне не нужно совсем…
Ваня пожал плечом, и успели проехать два-три квартала, пока снова заговорила Наталья Львовна:
– Не понимаю, что это!.. Илья и пушки!.. Что он – артиллерист, что ли?
– И Демидов артиллеристом не был, – отозвался Ваня. – Но вы только представьте: идет вперед человечество, и что впереди его? – Пушка… Однако нужно же идти вперед, а не назад… Приятнее идти вперед… Вот почему, если большие планы…
– То в них завернута пушка?.. Большие планы!.. Илья и… пушки!..
И она вдруг засмеялась неудержимо, чем очень обеспокоила Ваню.
Однако, пересилив себя, она зажалась в угол фаэтона под поднятый верх, и так сидела остальную дорогу молча.
Когда же доехали до гостиницы «Бристоль», подавая на прощанье руку Ване, сказала Наталья Львовна:
– Ему большие планы, – я не хочу их знать, – что-то скучное и… длинное, наверно… А вот сцену он бросил по причине… по причине мне более понятной… Не было у него настоящего большого таланта, у вашего друга, – не было, и все он хотел, чтобы вот так сразу ни с того ни с сего появился талант, но тут хотеть мало… Это – не пушки!.. До свиданья, мой дорогой!
Она не заметила даже, как сказала по-актерски «мой дорогой», но Ваня отметил это.
И когда Алексей Иваныч, случайно стоявший у окна, когда он вернулся домой, бросился к нему на двор узнать, как здоровье Ильи, Ваня сказал ему, приглядевшись:
– Да он-то ничего… бодр… А вот ваша знакомая, – та мне показалась гораздо хуже…
– Как хуже?.. Что это вы сказали?.. Почему хуже? – растерялся Алексей Иваныч.
– Ничего, ничего… Вот какой вы беспокойный!.. Рикошет, просто, от ваших выстрелов… только и всего…
– Вы меня осуждаете? Скажите!.. – вспомнил Алексей Иваныч, что этот дюжий художник дружен с Ильей.
– Ну, какой же я вам судья! Что вы! – улыбнулся Ваня. – Дело ваше.
И поднялся к себе наверх.
А в гостинице «Бристоль», в своем номере, Наталья Львовна так же, как и Илья, легла в постель и натянула на себя одеяло.
Так она пролежала до вечера, пока не услышала за стеною шагов пришедшего Макухина.
На ее стук в стену он пришел, как всегда, встревожился, что она больна, сел около, и долго было так:
За окнами номера внизу на улице визжал и звенел трамвай, мерно били о камни лошадиные подковы, стоял предночной гул городского центра, а перед Натальей Львовной торчала чужая ей рыжеволосая, тугая, простонародного склада, плотная, освещенная снаружи электричеством, а изнутри парой сметливых серых глаз голова Макухина.
– Федор Петрович, – сказала, наконец, с видным усилием Наталья Львовна. – А что, пятьдесят тысяч – это большая для нас с вами сумма или не очень?
Макухин покачал золотой головой:
– Цены деньгам не знаете, – э-эх!.. Пятьдесят тысяч – это капитал, а не сумма!
– Значит, у нас его нет, этого капитала?
– Пока что – нет!
– Надо, чтобы был!
Тут Наталья Львовна сбросила одеяло и встала.
– Человеку ведь не позвонишь, чтобы принес, – попробовал улыбнуться Макухин.
– Мы будем работать, и чтобы он был!
Очень значительно это было сказано, и очень серьезно было у нее лицо, так что даже Макухин повеселел.
– Неужто?.. – И глаза у него зарозовели. – Я говорил ведь, что большие дела будем делать с вами!.. Поэтому, значит, я угадал!
– Ну уж, – пятьдесят тысяч, разве это большие дела? – вздернула она головой презрительно, и вдруг совсем иным, деловым тоном: – Камень ваш – это, собственно, что такое?.. Как, куда и зачем?.. Бойкое дело?
– Какая же может быть в камню бойкость?.. Дело, известно, тихое… Камень – не ситец… Износу ему нет, камню… Ходу с ним мало, с камнем… И надоел он уж мне, признаться сказать, этот камень: очень уж в нем вес большой!
– Хорошо, бросим камень, – быстро решила она. – И что же мы будем делать?
– Завод какой в аренду взять можем… или имение… Эх!.. Мне главное, чтобы я знал, зачем это… а один я не знаю, вот где беда!.. Одному много ли нужно?.. Я не то чтобы ленив, ну, а все ж таки… кнут и мне не мешает… напоминание…
– Значит, я буду кнут?
– Напоминание, а не то что кнут!.. Вдвоем дело делать или же одному? – большая разница!.. Сам себе кто может поверить?.. Нет такого человека, – кроме как сумасшедший какой… А другой скажет тебе, ты и веришь.
– Име-ние… что ж… Это ничего… Поля летом, – это красиво…
Наталья Львовна просто думала вслух, глядя в угол по-за спиной Макухина, но он, услышав это, встал со стула, надавил кнопку звонка – два раза, коридорному – и сказал радостно:
– Ну вот, – я вам на выбор представил: имение или завод?.. А вы мне со своей стороны: имение… Об заводе совсем молчок… Значит, и я уж теперь должен думать: имение! Мне ведь все равно, в какую сторону думать, – лишь бы дело… И вышло на проверку, что и мне, мужику, имение больше, конечно, под масть… Имение для меня гораздо лестней… Лошадей заведем хороших… выезд…
– Верховых!.. Иноходцев! – оживилась Наталья Львовна.
– Ну вот!.. Значит, есть у меня теперь линия, куда гнуть!.. Вот я о чем говорю.
– А пятьдесят тысяч?
– Пятьдесят не пятьдесят, – найдем!.. Для такого дела деньги добудем.
– И это не какие-то «большие планы»?.. Это просто «так»?
– Большого ума не потребуется… Спокойным манером сделаем… Только – свой во всем глаз нужен… Конечно, ежели управляющему довериться, – в трубу пустит!
– Кто же отдаст доходное имение в аренду?
– Вот на!.. Мало таких, что землю имеют, а она им ни к чему?.. Им бы только пользу какую с нее взять, а не убыток… Недалеко ходить – Гречулевич…
– Что, – Таш-Бурун у него возьмем?
– Зайцев на нем гонять?.. Ничего нет на Таш-Буруне этом, кроме все того же камню… А с камнем решили кончать.
– Да, раз камень – дело тихое… А завод?.. Вы знаете Круппа?
– Это орудия? – Макухин улыбнулся. – Орудия на частных заводах не делают… Частным людям они ни к чему: это не ситец.
– А как же… мне говорили сегодня… один человек хочет непременно, как Крупп… и Демидов… Ружья и пушки… Главное – пушки… Но это же глупость, конечно!.. Разумеется, это не ситец… Значит, имение… Решено!.. Чем же плохо имение?.. Отлично!.. Возьмем имение.
– Папашу туда захватим… Он – человек военный, – полковник… Таких хозяйство любит.
– И Алексея Иваныча!.. Алексей Иваныча непременно!..
– Да уж этому, убогому, теперь, конечно, куда же еще?.. Неминуемо, к нам. Он уж нам в порядочную копейку вскочил, и еще вскочит… Однако, – человек безобманный… Я к родному брату веры не имею, а за Алексеем Иванычем этим только смотреть, чтобы не напутал чего, а верить можно.
Вошел коридорный. Макухин заказал ужин и самовар, и только тут вспомнила Наталья Львовна, что она с утра ничего не ела, и почувствовала голод, и когда коридорный сказал свое: «Сию минуту» – и ушел, она подошла очень близко к Макухину, положила руки ему на плечи, очень долго разглядывала его, точно увидела впервые и точно не был даже он человеком, – и сказала вдруг:
– А акции?.. Частных пушечных заводов у нас нет, конечно, но зато должны быть акции… ведь так?
– И что же с этими акциями? – улыбнулся Макухин. – Купил их и смотри на них?.. Какая же тут от денег польза?
– Ну да… в самом деле… Дело тихое, – не снимала она рук с его плеч и все разглядывала его, как сквозь невидную лупу. – Сколько-нибудь там процентов в год…
– А может, и никаких! – улыбнулся Макухин, очень неподвижно держа все тело, точно боясь пошевельнуться. – Куда же лучше из своих рук глядеть!
– Из своих?.. Да! – Она заломила свои пальцы за его спиной, посмотрела на них и добавила очень оживленно: – Он потерял пятьдесят тысяч, а мы найдем, – правда?.. Он потерял, – и отлично!.. Пусть!.. Я очень рада!.. А у нас будут!.. Будут? Да?..
– Разумеется, будут, – очень близко от ее губ шевельнулись усы Макухина.
– Только нужно будет… обрить это… это… – кивнула она на выхоленные, с подусниками, важные золотые усы. – Это совсем не нужно… и… и некрасиво совсем…
И, заметив, как, откачнувшись, поморщилась она болезненно, Макухин отозвался с большой готовностью:
– Разумеется… Что ж… Для дела надобности большой в этом нет.
И точно именно эти его слова и было последнее, что нужно было бросить в тонкую уже стенку между нею и им, чтобы вся до последнего камешка рассыпалась она.
Наталья Львовна порывисто бросилась к нему, очень крепко прижавши к своей щеке его угловатую голову с прочным лбом…
И потом, когда принесен был ужин и самовар, долго, очень долго тянулся в номере Натальи Львовны путаный, перебойный разговор, полудетский, полувзрослый, капризно-деловой, серьезный и ненужный, очень сложный, но отнюдь не утомительный для Макухина, – разговор об имении, каменоломнях, аренде, Круппе, акциях, пшенице, тысяче десятин под яровым посевом, иноходцах, Ване Сыромолотове, Алексее Иваныче, но больше всего об Илье.
– Ничего!.. Хорошо!.. Пусть!.. Мы ему покажем! – говорила она решительно и задорно.
Потом непонятно для Макухина плакала, и он гладил ее по вздрагивающей спине с сутулящим ее мослачком и бормотал:
– Ну к чему же это?.. Зачем же теперь?.. Совсем ни к чему!..
И она тихо и отданно прятала заплаканное лицо под его свежевыбритым подбородком…
Из ее номера в свой Макухин вышел только в десять часов утра на другой день.
Глава пятнадцатая
Последняя встреча
Дней через восемь после своей ночной беседы с Макухиным зашла к Алексею Иванычу Наталья Львовна.
От ходьбы ли с последней остановки трамвая, или оттого, что хорош, ясен был день, она была очень оживлена, сразу нашла Алексея Иваныча очень поздоровевшим и сама показалась Алексею Иванычу гораздо свежее, чем раньше.
– Мы решили бросить свои каменоломни и взять большое имение в аренду! – сразу и весело начала она, когда Алексей Иваныч – по-своему, неопределенно – спросил ее, что она и как.
– Вы решили?.. Кто такие «вы»?.. Простите!.. И какие же это ваши каменоломни?
Но тут же вспомнил, что и «мы» и «каменоломни» значит – Макухин, ее жених, и сказал еще раз:
– Простите!
Ее затейливая зимняя шляпка с белым крылом затеняла в нем ту, прежнюю Наталью Львовну, в котиковой шапочке, в кипарисах, в солнечной неге, на даче, над голубым морем, – и она уж не сутулилась, как прежде.
Она держала голову прямо, и появилась новая, почти мужская, осмысленность в ее глазах, теперь что-то видевших ясно (прежде не было этого) и видевших далеко вперед.
День был теплый, тихий, – снегу все не было, и они не сидели в комнате, а гуляли в саду, очень прибранном больными, и подробно рассказывала Наталья Львовна, почему иметь каменоломни гораздо менее выгодно, чем арендовать имение, а Алексей Иваныч слушал с явной тоской, точно слышал о тяжкой болезни кого-то, с кем он сроднился, и вставлял односложно:
– Что ж, конечно… Имение, да… Это совсем хорошо: имение.
И почему-то вспомнил Павлика.
– Что-то теперь делает наш Павлик бедный!.. Или уж умер?
– Павлик умер?.. Что вы!.. Павлик мне недавно письмо прислал… То есть прислал письмо отец, а в нем была и от Павлика страничка… Поправляется!.. И даже шафером был у Ивана на свадьбе!.. Помните – старик – садовник с нашей дачи?.. Женился, представьте!
– Женился? – оторопел Алексей Иваныч. – Как же… помню Ивана…
– И у меня, знаете ли, мысль: если дело с имением у нас сладится (я думаю, что сладится: есть уже подходящее и не так далеко отсюда), я возьму туда Павлика, – пусть ковыляет там… Молоком парным буду его отпаивать, – авось, отпою… А то что же он там один, – бедный!
Алексей Иваныч глянул на нее благодарно:
– Это вы хорошо!.. А как же море и горы?.. Ведь там не будет?
– Ничего… весной и в деревне отлично… И вас мы думаем тоже туда.
– Меня туда?.. Как же это меня?
– А что же вы будете вечно здесь?.. Куда-нибудь надо вам потом?.. Вот и будете помогать нам по хозяйству!
– Вот как вы меня!.. И думаете вы… что я могу? – очень удивился Алексей Иваныч.
Он был в своей прежней бурке и прежней фуражке с кокардой и инженерским значком.
– А почему же не можете? – повернула она к нему новую шляпку.
– Мм… вот как вы думаете меня!
Он присмотрелся к ней очень внимательно своими белыми встревоженными глазами, но в это время загремели около по камням узенькой здесь мостовой колеса извозчика и остановились около ворот.
– Доктор, должно быть, – сказал Алексей Иваныч и ждал рассеянно: вот стукнет щеколда калитки и войдет серое, такое обычное за последние дни для его глаз, – военная шинель, часто бывавшая под дождем и потертая.
Но брякнула щеколда, и открылась калитка, и вошел кто-то в шубе, тоже страшно знакомый, – тяжелой волчьей шубе и шапке.
– Илья, – шепнул он Наталье Львовне и прирос к месту.
Шагах в десяти от них обоих, от калитки к лестнице на второй этаж, медленно еще ставя ноги, побледневший, что было заметно очень, прошел Илья, приехавший, только что, видимо, выйдя из больницы, к Ване.
Вкось бросивши взгляд на Алексея Иваныча и Наталью Львовну, он узнал их сразу и отвернулся, но ни одного движения его не пропустили они и молча смотрели, как он, безошибочно и не нуждаясь в вопросе, подошел прямо к двери, ведущей на верхний этаж, и скрылся за ней.
– Вот как! – прошептал Алексей Иваныч.
– Да… Он и тогда ведь, когда я была, мог ходить…
Голос у Натальи Львовны тоже стал притихший, но она тут же оправилась, оглянулась кругом, увидела близко скамейку, – сказала весело:
– Сядемте здесь!
Со скамейки, выбранной ею, видны были все выходящие в сад окна второго этажа. Алексей Иваныч, когда они сели, смотрел все время вниз, себе в ноги, она же на окна.
– Да, это он к художнику… то бишь, атлету… Они ведь оказались действительно друзья, – вы знаете?.. И он от него без ума, от Ильи, этот атлет!.. Он вообще туповат, как все атлеты… Умный атлет – это, конечно, абсурд!
– А Петр Первый? – нерешительно вставил Алексей Иваныч.
– Не знаю… Гениален, говорят, был… Может быть… Но ведь это у него была жена – немка Марта?.. Поломойка!.. Разве умный человек мог бы жениться на поломойке?
– Значит… Макухин умнее Петра? – неожиданно сказалось у Алексея Иваныча, потом он сделал рукой свой хватающий жест, и лицо его приняло умоляющее выражение.
Но она отвечала спокойно:
– Конечно, умнее.
– Да… Макухин… Федор Петрович, – поправился он, – только что не получил образования, а он…
– Это неважно! – перебила она. – Зато не говорит явных глупостей, которые надоели ужасно!
– Конечно, – он и не может говорить глупостей, – согласился Алексей Иваныч. – Для того, чтобы иметь возможность говорить глупости (иногда, иногда, – не всегда, разумеется!), нужно быть очень умным… А он умен, действительно, просто – умен.
– Но не очень? – подхватила Наталья Львовна. – Кто же очень, по-вашему? Илья?
– Нет!.. Илья нет!.. Не тот, какой нужен, чтобы быть очень умным.
И вдруг, неожиданно:
– А ваша свадьба как?
– Свадьба?.. Мы отложили пока…
– А-а!.. Вот как!..
И тут же:
– Знаете, – я даже во сне не вижу больше Валю!
– Чтобы видеть во сне, нужно думать, а вы забыли!
– Я забыл? Что вы!
– Да, да!.. Забыли! Я это вижу… Забыли!
– Я нет… Я думаю… А она… И вот я сижу, а он ходит.
– Как сидите? Ведь вы же лечитесь?
– Лечусь?.. Чепуха это все… Этим нельзя вылечить… Да я уже и не болен… Я как-нибудь уйду отсюда.
– Куда уйдете?
– Не знаю… Я что-то делал там около моря… Дорогу?.. Вот… могу опять делать дорогу…
– Нет, вы поедете к нам в имение… На берегу – там вам нечего делать…
– Нечего, правда… И вообще нечего… И везде нечего… У меня был враг, – им я был жив несколько месяцев (чем же еще и жив бывает человек, как не врагом?). Теперь его нет больше… То есть он жив вообще… вообще жив, а для меня умер… Смотрел сейчас на него, как на чужого… Теперь кончено… Нет его… Над всеми тремя крест!
Он провел в воздухе крест указательным пальцем.
– Мне сейчас надо ехать, – поднялась Наталья Львовна, – к владелицам имения, которое мы хотим снять… План мы видели… и условия. Надо поехать туда, на место, но сначала… сначала выяснить еще кое-что здесь… Они только недавно оттуда… Их три сестры, представьте, и все красавицы, и еще девочки почти… Мать умерла недавно… Имение в опеке, а опекун – их дядя, – Оленин, предводитель дворянства… Поняли?.. Ах, какой дом у них здесь!.. Не дом – дворец!.. Вот мне сейчас к ним надо.
И остановилась вдруг: это в одном из окон верхнего этажа мелькнула фигура Ильи, и рядом с ним встал Ваня.
Она поправила вуальку на шляпке и закончила:
– Я думаю, что если я возьму извозчика Ильи, то он ничего не будет иметь против.
– Как же вы его возьмете?.. Он скажет, что занят.
– Ничего… Я дам ему, сколько даст Илья, и еще столько же, и он отлично ему изменит.
Она встала и бойко пошла к калитке.
– Барин останется здесь, – сказала она бородачу. – На Дворцовую… Плачу за него я.
– Пожалуйте!.. Какое место?
– Дом Олениных.
И уже садясь, говорила Алексею Иванычу непринужденно и весело:
– Представьте: зовут их Вера, Надежда, Любовь, этих сестер… Как по заказу!.. До свиданья, мой дорогой!
И загремел экипаж.
И, глядя ей вслед, поймал себя Алексей Иваныч на том, что думал он не о Наталье Львовне, а об Илье: выйдет он, – все-таки слабый еще, а извозчика нет… И ему показалось это в Наталье Львовне необъяснимо неприятным.
В ожидании доктора все больные были дома, – кто играл в шахматы, кто читал, – и о. Леонид, когда вошел Алексей Иваныч, участливо обратился к нему:
– Что, проводили вашу знакомую?
– А?.. Да!.. Она уехала, а он еще здесь, – кивнул тот на потолок. – Мой… тот самый… Выздоровел!
– Ва-аш?.. Скажите!.. Как быстро от таких ран!.. Нервы, значит, здоровые…
О. Леонид был искренне удивлен.
– Как у бревна!.. Сейчас они выйдут, смотрите… Садитесь здесь.
Алексей Иваныч поставил ему стул к окну и сам сел с ним рядом.
Действительно, скоро наверху послышались тяжкие шаги Вани, ведущие к прихожей, а рядом с ним его шаги, и, заслышав их, Алексей Иваныч изогнулся почему-то на своем стуле, простонал тихо, потер крепко руки и торопливым шепотом обратился к о. Леониду:
– В шубе!.. Сейчас пройдет мимо!.. Смотрите!
Всё напряглось в Алексее Иваныче, как будто теперь именно подводилась последняя черта итога всей его прошлой жизни, и Вале, и Мите, и ему самому: пока был еще здесь где-то, хотя бы и в больнице, Илья, что-то еще как будто не завершилось, тянулось, – он уже не хотел его больше, чертил в воздухе над ним крест, но оно тянулось все-таки против его воли… Так не совсем отрезанная, на одной коже висящая рука все-таки еще считается рукой; но вот она сейчас будет отрезана совсем одним взмахом ланцета, и ее уберут с глаз, унесут куда-то навсегда, зароют, и не будет больше руки… никогда уж не будет.
И сам не мог понять Алексей Иваныч, отчего же это начались у него такие не поддающиеся воле скачущие, трепещущие удары сердца!
– Он меня съел и уходит! – сказал Алексей Иваныч громко.
– Кто вас съел? – обернулся веселый Синеоков.
– Смотрите! Смотрите!..
Тяжелые шаги на лестнице (их услышали остальные здесь и посмотрели на Алексея Иваныча) – потом заскрипела и отворилась дверь, и мимо окна прошли они двое: высокий Ваня в пальто и шляпе, и он, пониже, Илья, – последний Илья – так чудилось: больше уж не будет Ильи в его жизни (а значит, и Вали, и Мити), – проходит, – проходит в шубе волчьей, в мохнатой шапке!.. Лицо обросшее, немного бледное, но те же сытые щеки… Даже заметно, как вздрагивают они при каждом его шаге, точно поддакивают каждому шагу: да, да, да!.. не сомневаются ни в одном шаге купечески, кучерски, актерски сытые щеки!..
– Ухо-дит! – привскочил Алексей Иваныч. – Эй, ты-ы!.. – крикнул он в голос. – Ты-ы-ы!..
Но уж прошли они – Ваня и Илья… последний… Звякнула заперто щеколда калитки…
– Съел меня и ушел! – обвел всех в комнате Алексей Иваныч совершенно белыми глазами в волнении сильнейшем.
И глаза его испугали остальных: они показались двумя окнами в незаполнимую, в полнейшую, в совершенную пустоту.
Глава шестнадцатая
Море
Упирается земля в водный простор, омывающий, сглаживающий, плещущий однообразно, – в вечное уводящий взгляд… Неразгаданной остается, как и все споконвечные тайны, – тайна цветов. Водный простор – голубой. Рождается ли человек с голубым в душе?.. Почему манит его всю жизнь голубое?.. И отними от него это голубое навек, – не на что будет опереться душе.
Сидит вечером молодая женщина у себя в гостиной… Только что ушли гости, – им позволено было курить, и теперь открыты форточки, и колышется пламя лампы. Гости были обычные, как всегда; то, что говорили они, – было обычное, как всегда: театр, опера, новые книги… За окнами, как всегда, шум города, прочно стоящего на земле… И вдруг женщина говорит мужу:
– Знаешь ли, мне почему-то хочется к морю!..
Вот оно, голубое!.. Это по голубому вдруг начала тосковать душа.
Проходит день, два, неделя… И вдруг опять подымается в неясном сознании огромное голубое и зовет… И как удержаться в грохоте города, в котором дым вместо неба и фонари вместо солнца? Она едет к морю, где встречается ей кто-то новый, которому (вся овеянная голубым) она шепчет: «Ты мое счастье!»
Или так.
Только что приехал к морю студент. У него на ремне через плечо сильный бинокль и кодак в руках. Он хочет сделать двадцать, тридцать снимков голубого южного моря, которого никогда не видел раньше… Он подходит к морю около пристани, а там бьет сильный прибой. Море такое яркое, ласковое вдали, а здесь оно шумит и бросает в берега гальку и брызги. Оно ребячится, – это видно. Студент по городской привычке закатывает внизу брюки, чтобы их не замочило. Однако он пришел купаться, а прибой… Это даже хорошо, что прибой – это весело… Он раздевается в полминуты, не забыв подальше от воды положить свою одежду, и бинокль, и кодак, и бросается в воду, совершенно забыв о том, что он плохой пловец. Ведь он пришел к огромному, вечному, к изначально-голубой тишине, а прибой – это только приятная неожиданность. Точно влюбленный в мечту, он бросается слиться с мечтой… И прибой подхватил его откатной волной и отбросил сажени на три от берега, и, передавши его волне накатной, бросил снова в берег, ошеломленного мутною мощью… И, снова отбросив на несколько сажен, выбросил снова затылком в торчащую тупо железную балку пристани… И третьей откатной волною отбросил назад, чтобы новой накатной, – девятым валом, – выкинуть на берег недалеко от бинокля, и кодака, и подсученных брюк…
На берегу лежал он, заласканный морем, – молодой, красивый, кудрявый, – и рыбаки разостлали около него парус, готовясь качать, а какая-то дама кричала надорванно, что качать нельзя, что это – зверство, что нужно искусственное дыхание и камфору… Но подошедший врач перевернул послушное голое тело, осмотрел рану в голову, послушал сердце и сказал, что никакие средства не повредят ему теперь больше и не помогут… И его одели старательно и повезли в комнату, которую нанял он на три месяца всего только час назад…
Оно дарит и отнимает, рождает и топит, оно создает города у берегов и иногда подымается бурно и их поглощает… Но разве можно чувствовать за это ненависть к морю?
Можно прийти к нему и сказать: «Экое ты глупое чудовище, – море!..» Море не ответит на это. Море будет тихо колыхаться от берега до горизонта и сверкать миллионами блесток, и змеистые полосы на нем (морские змеи, поднявшиеся из глубин погреться на солнце) будут прихотливо вытягиваться и сжиматься; и трехмачтовые баркасы, все погруженные в голубизну, даль и сказку – идут они или нет?.. И зачем им идти куда-то из сказки и тайны в явь?.. Пусть так и мреют на горизонте белопарусные, как цветы, как эдельвейсы моря…
И пусть что хочет, то и делает с нами море: захочет обогатить нас сказкой и тайнами, – благословенно! Захочет утопить в своей бездонности, – пусть топит – благословенно и тут. Оно – стихия, оно – изначальность, – и как осудить его нашим крошечным человечьим судом?
Был некогда царь, и море потопило его корабли, и он приказал наказать за это море бичами. И две тысячи лет смеется над этим царем история, а море по-прежнему бессмысленно и безмятежно ширится, искрится и молчит голубым миллионолетним молчанием…
В то время как Наталья Львовна осталась, чтобы внести задаток за аренду в Сушках, Федор Макухин поехал в свой приморский городок продавать каменоломни.
Покупатель был грек Кариянопуло, необычайно упористый, обстоятельный человек с большим животом, длинным носом, широкополой шляпой и громадных размеров зонтом от возможного дождя, так как было зимнее время. Плохо говоривший по-русски, он даже и этим недостатком своим пользовался, чтобы не спеша отвечать Федору, очень долго соображать, и считать в уме, и потому не просчитываться. Этой медлительностью он за несколько дней в городе успел уже сильно надоесть Федору, и теперь, когда пришлось с ним рядом ехать на скверной линейке, а не на моторе, потому что «тыри урубля дешевше», Федор уселся к нему спиной и молчал всю дорогу. Молчал и, видимо, дремал, сопел, уронивши голову, и грек, и только когда уже спускались с перевала вниз, и верст двенадцать осталось до городка, и когда начал накрапывать дождь, Кариянопуло, не спеша, развернул свой огромный зонт и, кивая на него Федору, победоносно сказал:
– Ага!
Приехав домой, Федор увидел брата Макара у себя на кухне за самоваром с какой-то бабой, которой раньше не видел. Баба поспешно вышла, а Макар сделал вид еще суровее, чем всегда, когда говорил ему:
– Прямо в отделку дом заскучал без хозяина: месяц цельный! Ну, покрутил с девкой дня три, – куда ее больше? – и на место!
Удивился Федор:
– Это ты об своей девке говоришь или об ком?
– Нет, это насчет тебя я… Обо мне тебе тоски быть не может… Баба ко мне заходила, ты видел… Хорошо, заходила… А теперь ты ее видишь? Теперь она брысь! Вот как с бабами надо… А не то что по месяцу с ней кружить… И личность себе обрил, все одно, как стрюцкий: узнать нельзя.
– Это ты значит об жене моей так? – изумился Федор.
Макар свистнул:
– Вон куда поехало, – же-на!
– Посвисти!.. Я тебе так свистну!
Федор сказал это тихо, но настолько серьезно, что Макар кашлянул в кулак, отодвигаясь и бормоча:
– Три письма тебе было, окромя газет, за это время… И тот еще раза четыре заходил, – Гречулевич… Я, говорит, ему, стерве этакому, покажу закон!.. Это тебе, стало быть…
Федор, знавший, зачем приходил Гречулевич, искренне удивился:
– Ну и дураков тут у вас развелось за это время: коловоротом не провернешь.
Аккуратно сложенные на столе письма были все деловые, насчет поставок камня, и годились теперь, чтобы прочитал их Кариянопуло, который остался отдохнуть у своего знакомого, тоже грека, Яни Мончакова, пекаря.
Есть что-то в доме, который сам для себя строил, чуть-чуть жуткое. По-особому пахнут половицы, по-особому глядят просветы у окон и дверей; каждый изгиб карниза, выведенного по шаблону штукатуром, имеет какой-то неповторяемый смысл.
Теперь, когда Федор приехал продавать свой дом, он чувствовал это сильнее, чем раньше, и все вспоминалось с горечью, как месяц назад он проезжал мимо дома в автомобиле с Натальей Львовной и показывал его издали, а она все никак не могла разобрать, какой, и спрашивала нелюбопытно:
– Вон тот, с фронтоном?.. Нет?.. Желтенький?.. Нет?.. Какой же?.. А-а, железная крыша!.. Ну, у вас тут лучше крыть черепицей, а то под железом очень жарко!.. – даже не спросила его, сколько комнат, а у него при постройке каждая доска прошла через зоркий хозяйский глаз, и знал он, почему крыл не черепицей, а железом.
Теперь обошел он все комнаты уже не как хозяин, а как продавец; заглянул в кладовые. Покупатель на дом был – сосед-винодел, Архип Никитыч, но мог купить дом и Кариянопуло…
Почему-то тревожил Макар: он не отходил от него, он приглядывался сбоку к каждому его движению прищуром тяжелых глаз и время от времени говорил:
– Не промотано, не пропито, – куда хочешь зиркай!.. Макар, – он, брат, беречь умеет!
Приход Кариянопуло, разузнавшего, что нужно, у Яни, не изумил Макара: мало ли греков приходило по делу? Однако Федор с первого слова заспешил с ним куда-то:
– Поедем, посмотрим…
А когда спросил Макар:
– Куда же это опять ехать?
Федор ответил:
– Это уж наше дело…
И ушел с греком. И не было его два дня. На третий к ночи вернулся недовольный, злой и без грека.
Сняв запятнанные грязные сапоги, устало взбив подушку на диване и расстелив жеребячью доху, чтоб укрыться с головою и заснуть свинцовым сном, сказал Федор торчавшему у дверей Макару:
– Чего стоишь?.. Иди… Поздно уж… Спать ложись.
– Даешь, стало быть, дозволение? – нырнул головою Макар.
– Какое дозволение?
– А вот спать-то итить… Та-ак… Я, конечно, пойду.
– Вот и иди.
– Ну да… Мое дело таковское: кукукнул, – да в камыш…
– Ты-ты… что это ерундишь тут?
– Шарик у тебя, конечно, работает, – однако и у меня тоже… Я, брат, тебя наскрозь вижу!.. Ты думаешь: Макар на кузне, Макар на кухне, – а Мака-ар, – он, брат, то-оже шариком своим ворочает.
Как ни был устал, зол и полон своим Федор, но не мог не заметить теперь, до какой степени был полон своим и тоже зол Макар. Он сел на диване, готовый вскочить, и спросил, тихо чеканя слова:
– Тебе чего от меня надо?
– Донгалак этот куда с тобой ездил?
– Куда бы ни ездил, – дело мое… Еще тебе что?
Лица Макара не было видно. В комнате горел на подоконнике около дивана маленький ночничок в синем, толстого стекла, абажуре. Видна была только серая тень Макара, который за последний месяц как будто поширел в плечах. И ответил Макар:
– Еще мне ничего особого не надо… Ты мне только отдели мою часть, а свою, как себе хочешь, мотай.
– То есть какую же это такую твою часть, хотел бы я знать?.. Ты что, наследство от папаши покойного получил? – Федор поднялся было с дивана, но снова сел.
– На мои трудовые деньги, – вот на что! – выкрикнул Макар и порывистый шаг к нему сделал. – С чьих денег ты пошел? – С моих денег!.. Кто тебе степенство дал? – Я дал… Не иначе, кабы не Макар, ты бы сейчас без порток скакал!.. Я тебе старшой – я тебе замест отца!.. Кто работает? – Макаровы деньги все работают, – рублевку на рублевку цепляют… Вот! Ты-то говоришь: мое!.. А я говорю: наше! Обчее!..
– Сейчас же пошел вон! – тихо сказал Федор поднявшись.
Но Макар не ушел, как он думал; он только оглянулся зачем-то на дверь и кашлянул в кулак.
– Думаешь, не знаю я, зачем пиндос этот пузатый приехал? Макар, брат, все до точки знает!.. И про дом тоже… Нешто мне Архип Никитыч не говорил?.. А я ему, Архипу твоему, вот что поднес!
На шаг перед самым лицом Федора метнулся широкий кулак Макара, и Федор, откачнувшись, быстро подсчитал себя и брата. Макар не был пьян, – это он видел. В доме никого, кроме их двоих, не было; но, может быть, та баба сидела теперь на кухне или стояла около двери… И, собрав себя, сказал он твердо:
– Ты это самое, что тебе втемяшилось, оставь!.. Пока оставь, понял? Не Сизов тебе брат, с каким ты в кабаке сидишь, а я!.. Больше ничего… Иди теперь, – завтра поговорим.
– Не-ет!.. Я с тобой сейчас говорить желаю, – не менее твердо налег на слова Макар. – Завтра ты, может, еще куда швырнешься, а я жди!.. Будет с меня жданья!.. Ты этому пиндосу обзаведение все наше продавать хочешь, а у меня согласие спросил?.. Я, брат, когда ты прикупал, – ничего тебе не мог сказать спротив. Преувеличивать дело желаешь? – Можешь… А чтобы мо-тать… Из-за девки паскудной мо-тать?.. Не позволю!..
Федор снова сел на диван, ногою нащупал под ним старые ботинки, надел сначала больше разношенный левый, потом правый, и, когда надел, почувствовал себя упористей, как, должно быть, чувствует себя палка, окованная наконечником; усталость от трехдневной бестолковой езды с греком по каменоломням прошла, а злость стала острее. Макар же продолжал отчетливо:
– Ишь, приехал, как стрюцкий какой!.. То был хоть на человека похож, а то мальчишкой обернулся, щенком!.. Дело делать, – вид для этого надо иметь, а разве с таким безусым станет кто говорить сурьезно?
Одну руку, – левую, – Макар держал за спиною, прислонясь к косяку двери, и Федор думал, что именно в этой руке было зажато что-нибудь, дававшее Макару смелость говорить так, как он не говорил раньше, – может быть, нож, – и, оглядываясь кругом по комнате, старался Федор если не различить, то хоть припомнить, что было у него тут под руками. Охотничья двустволка, он знал, была в другой комнате, в углу, – а тут… хотя бы долото или железная палка.
Макар этот блуждающий взгляд его понял.
– Что-о-о? – вытянул ехидно. – Ружье на меня шаришь? Чтобы совсем с дороги меня убрать?.. Ответишь! Наша земля не бессудная, небось!
И махнул выпростанной из-за спины левой рукой, в которой ничего не было: широкая ладонь, и только.
Федор кинулся на Макара сразу, как только это увидел, и Макар, не ожидавший этого, не успел даже поставить тела в упор, как вылетел в дверь, отворявшуюся наружу, свалил стул, зацепил ногой за край шкафа и упал в полосе слабого света, идущего из спальни от синего ночника, а Федор запер дверь на ключ, разделся и лег на диван.
Он был уверен, что теперь Макар успокоится до утра, и действительно, тот, поругавшись за дверью всласть, но не особенно долго, ушел к себе на кухню.
Эту ночь Федор спал плохо, хотя и устал от поездки. Все время продолжался в полузабытьи нелепый спор с Макаром, неизвестно о чем, с Макаром и с Натальей Львовной, которая плакала навзрыд (как это и было) о том, что ее не любит Илья, и оттого, что так беспомощно плакала, становилась ему еще дороже.
К утру не было уже зла на Макара. Он выбирался на новое, а Макар было прежнее, положенное; он ломал, а Макар не давался, – так представлялось это к утру.
Думалось даже, что в Сушки можно было бы взять и Макара, который был хороший кузнец.
Кариянопуло утром пришел раньше, чем его ждал Федор. Он, медленно считавший, за ночь все-таки успел что-то окончательно подсчитать и теперь имел ясный вид на что-то решившегося человека, и это было особенно заметно после вчерашнего, когда он держался очень прижимисто и был ворчлив.
Придя, он начал с того, что очень внимательно оглядел все комнаты дома, заглянул даже в самые укромные углы, при этом сопел, вздыхал, чмокал губами, хватался часто за седоватую бородку жирной рукой.
Макар поставил и внес самовар, мрачно, но привычно, как будто ничего не говорил он вчера Федору и ничего не случилось, однако за чай сел он вместе с греком, дул на блюдечко, старательно обкусывая кусок сахару, и только изредка взметывал волчьи глаза то на брата, то на толстого гостя.
А Кариянопуло, как твердо решившийся человек, был настолько ясен, что и не замечал мрачности обоих братьев, и, багровый от горячего чая, хлопал по плечу Федора и говорил:
– Молодой чиловэк – усе ест!.. Дом да ест, хозяйс да ест, дело да ест, ден-га да ест!..
– Все есть, – отозвался Федор.
– А жжо-на нет!
– Жена… Жены пока нет, – подумавши, отвечал Федор.
– Нет?!. О-е!.. Па-асиму нет?
Покачал головой укоризненно и продолжал победно:
– Мене так… сситай: мать да ест… жжона… Одна дочь там. Керчь ест – замуж… два дочь мене… сына жонат… Там… Балаклава… Три сына мене…
Говоря это, он загибал пальцы и, наконец, на десятый, большой на правой руке с прочнейшим черным ногтем, указал серебрящимся подбородком:
– Э-нук!
– Внука уж имеешь! – безразлично отозвался Федор.
– Одна! – подтвердил грек, сияя, и Федор почувствовал наконец, что это – покупатель серьезный, и сказал:
– Раз, ежели ты так расширился во все стороны, то на земле жить не должно быть тебе страшно.
– За-сем страшно? – приосанился грек. – Нет! – мигнул правым глазом и развернул плечи еще шире, как индюк.
Под конец чая, когда он, выпив шестой стакан, положил его на блюдечко боком и начал креститься, даже Макару стало ясно, что каменоломни он решил купить.
Но Кариянопуло зачем-то спросил о доме:
– Страхован?
– Застрахован, а как же… Гореть когда еще будет; а страховку каждый год вноси, – отозвался Федор.
– М-много? – с большим любопытством спросил снова грек, скользя глазами по обоим братьям.
Макар негодующе поглядел на Федора, когда тот сказал правду; в таких случаях он так привык удваивать просто из бахвальства, что и теперь не утерпел сказать:
– Я штраховку взносил, значит, я и знаю сколько: четвертной билет почти что еще прикинь, тогда как раз будет.
– Разве повысили на этот год? – покосился на него Федор, когда грек погрузился в медленные расчеты, опустив глаза.
– А ты думал как? – ответил Макар сурово. – Цена дома должна рость, а штраховка стоять?
У грека были четки на левой руке, и он даже на них что-то прикидывал, как на счетах. Наконец, вздохнул облегченно, и то, что он сказал, не сразу понял Федор и совсем не понял Макар.
– Чужаям земля поехал, – своя дорога нельзя копай… Так я говорю?
– Гм… Раз там дороги удобные… в чужой стране этой…
Но грек ухватил Федора за руку очень теплой толстой рукой и продолжал, вдохновенно тыкая в стол пальцем:
– Лошадь купил, – но-га бешать, да?.. Голова не надо, – засем? Овес кушай?.. Го-ло-ва, пф, вон! Так бывает?
И Федор понял, наконец, что Кариянопуло думает купить все его дело вместе с домом, и в доме этом, им любовно устроенном, но так ненужном Наталье Львовне, разместить все свое большое гнездо.
Когда ушел грек совещаться с Яни Мончаковым и другими греками, сказал Федору Макар:
– Я все твои шутки вижу наскрозь!.. Смотри!
– То есть, что это я смотреть должен? – уже не удивился Федор.
– Я тебе – брат, конечно, ну, я тебе еще, – имей это в виду, – кампаньон!
– В чем это? За чаем со мной компанию делаешь?
– Не в чае, а во всем нашем деле!.. А в каком таком деле? – в каменном… И, конечно, дом этот, какой ты продавать хочешь, не твой он дом, а наш обчий.
– Вот оно что! – не удивился Федор. – Это кто же тебе, дураку, сказал?
– Все это знают, всем известно, – кого хочешь спроси! Пятьсот рублей моих в это дело вложено, окромя того – труд мой!.. Федор с девками на машинах катает, сырость разводит, а Ма-ка-ар… Макар, он все дома, все при деле, все блюдет!.. Ни одной копейки Макар не упустит, – вот как!.. Ни в карты, ни в бильярты… как, скажем, Федор…
– Да ты получил эти свои пятьсот, черт стоеросовый, или нет? – крикнул Федор.
– Ко-г-да же это? – протянул Макар ехидно и жилистую шею вытянул вперед и упрямый угловатый подбородок поставил вбок.
– Вре-ешь!.. Врешь, брат!.. У меня расписка цела! Через две недели тебе твои пятьсот отдал!.. А тебя, дурака, из пьяной канавы потом подобрал, как ты кузню свою пропил!.. Все знают!
– Рас-пис-ка?.. Цела?.. Вот чудное дело! – тянул Макар. – Та расписка, какой даже и не было!
И Федор вспомнил, что действительно не было расписки, а был какой-то листок, на котором он сам отмечал, у кого и сколько у рабочих на карьере взял он тогда денег, чтобы получить подряд на поставку камня; записал и то, что у Макара взял пятьсот рублей. А когда уплачивал долг, просил всех расписываться на этом листке; и все ставили на его записке кресты, крючки и кое-какие буквы: поставил и неграмотный Макар кляксу. Бумажку эту долго носил в кошельке Федор, потом она изветшала за семь-восемь лет и, должно быть, просто развеялась по кусочку.
– Я тебе при людях платил! – сказал Федор и тут же вспомнил, что ни одного из этих людей нет теперь на виду; поэтому добавил: – А раз ты говоришь, что денег своих с меня не получил, то, значит, ты мне их и не давал.
– Во-он ты уж куда!.. Не давал? – нырнул вперед головою Макар.
– Поэтому так.
– Все знают, что давал, – торжественно проговорил Макар, – и всем известно, что с этих моих денег все хозяйство пошло!.. И отымется у Федора, и отдастся Макару!.. Вот!..
Последнюю каменоломню, которую не видел еще Кариянопуло, он хотел осмотреть в этот день.
День был не серый, скорее ясный по-зимнему, облачный, слегка ветреный, на земле не холодный, но на воде по виду свежий. Море казалось чешуйчатым от легких барашков, которые гнало низовкой к берегу.
Каменоломня была на берегу, верстах в семи от города, около деревни Куру-Узень, и Федор, обычно ездивший туда на ялике, привел Кариянопуло к пристани, где стояли ялики рыбаков, но толстый грек недоверчиво из-под рыжей шляпы поглядел в холодную голубую ширь и сказал решительно:
– Н-нет!
– За полчаса на месте будем!.. Ведь парусом, – пытался уговорить Федор. – Долго ли тут?.. Вон тот мысок обогнуть и… А лошадьми – три часа колесить… Да и то мало сказал: теперь дорога зимняя, – грязь.
А грек забормотал вдруг скороговоркой:
– Ялик-ялик… Ялик-ялик… О-орех!.. Я – толстый, ялик – орех… Бумага папиросна… Пойдем… Линейка…
И потянул его за плечо от пристани.
Но какое-то тупое нерассуждающее упрямство овладело Федором. Была тоска по Наталье Львовне, была злость на Макара, было сомнение, хорошо ли выйдет, если он все продаст этому пузатому, – и потому неудержимо хотелось всем существом ехать именно на ялике и не на каком-нибудь вообще, а вон на том, с зелеными бортами, на котором он часто ездил в Куру-Узень. Кстати, и хозяин этого ялика, матрос Афанасий, рыбак и пьяница, пристально глядел на него издали, от пакгауза, видимо, не узнавая его, бритого.
– Тогда, значит, я поеду один, – сказал Федор греку, и как тот ни таращил глаза, ни сопел недовольно, ни пожимал жирными плечами и ни тащил его к линейке, все-таки пошел к Афанасию, а грек, недовольный, ворчливый, поехал один.
Поковыряв в зубах соломинкой и присмотревшись к морю и небу, сказал, обтирая от рыбьей чешуи теплую матроску старой фуражкой с белым кантом, Афанасий Федору:
– Ехать, так зараз надо ехать.
И глянул на него непроницаемым, обветренным, узкоглазым, широкоскулым сорокалетним лицом.
– Мне коров не доить, – я-то готов… Зараз, так зараз.
На цену Афанасия Федор согласился не торгуясь, и Афанасий пошел за веслами, а когда принес их и положил в ялик, сказал сосредоточенно:
– Надо бы рублишко надбавить, купец…
– А что?
– Мало ли что… Бора[4] может подняться, – вот те и что!
– Может? – оглядел небо Федор.
– Так я, на всякий случай напоминаю… Теперь время зимнее… Парус будем ставить?
– Ну, а как же?
– Да так же… можно и не ставить… Мне-то его взять недолго…
Постоял секунд пять непроницаемый и пошел, медленно ставя ноги, в сторожку за парусом, где, слышно было, чей-то басовитый пропитый голос внушал ему:
– Ты ж там насчет камсы разузнай, – не идет ли!..
На что Афанасий ничего не ответил.
Он был вообще тяжел на слова, на походку, на все движения.
Спустили ялик вдвоем, но когда только что было уселся Федор, на сходнях появился запыхавшийся от быстрой ходьбы, в новых сапогах, в крытой малопоношенной синей куртке на овчинах Макар, и еще не успел оттолкнуться веслом Афанасий, как новый сапог грузно опустился на корму.
– Ты чего это? Куда? – ошарашенно спросил Федор.
– А куда ты, туда и я! – ответил Макар упрямо.
– Я, может, на тот свет, дурак-черт!
– Ну, так и я на тот.
– Не дело, не дело, купцы!.. Ладился одного везти, садятся двое!.. Слазь!..
Афанасий взял за плечо Макара, но тот вытянул ехидно:
– Ты-ы потихонь!.. Я в силах за себя уплатить.
– А сколько это ты уплотишь?
– Да уж больше, чем с него, с меня не возьмешь…
– Давай сейчас трояк!
– У-ди-вил! – покачал головой Макар, вынул кошелек из запачканной замши и нашел в нем зеленую бумажку.
Федор пожал плечами и отвернулся.
– А дом на кого же бросил? – спросил он, когда уже отчалили.
– А моя баба там.
– Смотри, ежели что стянет, – зло буркнул Федор.
– Да уж много не стянет, – куда ей!.. Больше твоей не стянет!
И заиграл желваками.
Федор поглядел на него, на приземистого, курбатого Афанасия, на море в мелких беляках – не ехать было нельзя, отделаться от Макара тоже нельзя.
– Так бора, говоришь, может быть?
– Очень просто, – ответил Афанасий, выгребая за пристань.
– Ну, авось!
– Авось да небось – их два брата, как все одно вас.
Работая веслами против волны, он выбрался на чистое место, здесь поднялся, огляделся кругом и потянул носом.
– На Палац-горе вон черта белого видали?.. Как выезжали, ведь не было, – откуда взялось?..
Поднявшись, разглядел Федор над самым выступом Четырдага кусок белого облака, круглого, плотного и ледяного на вид.
– Может, так, – сказал равнодушно.
– Так ли, не так, – все одно, – буду парус ставить.
В фуражке приплюснутой, маслянистой, с жилками синими и багровыми на скуластом лице, добротном, но с недобрыми запавшими глазами, Афанасий развернул парус, натянул его, и он сразу захлопал, ловя низовку, как утка крылом; Макар сидел напыженно, мешая матросу крепить парус, и тот прикрикнул на него:
– Черт лесовой!.. Именинник ты, что ли?.. Подвинься! Тебе говорю!
– Говорить – говори, а ругаться оставь! – отозвался надменно Макар, но Афанасий поглядел на него еще злее.
– Тут тебе не земля!.. Это тебе море, – понял?.. А я тут у себя на ялике все одно что капитан… На берег выйдем, судись со мной, а в море обязан ты меня слушать!
Ветер влег в парус до отказа, и вплоть до поворота берега, до того мыса, за которым скрывался уже городок, ялик, покачиваясь, кряхтя, разбивая барашки волн в мелкие брызги, бежал с веселящею даже Федора быстротою, и Афанасий, налегая на корме на руль, несколько отошел и бросил ему отрывисто:
– Водку взял?
– Откуда?
– Из лавки.
– Зачем? – удивился Федор.
– Неужто не взял?.. Очень глупо сделал.
Перевел спрашивающий взгляд на Макара и презрительно сплюнул в хлюпающую у бортов воду:
– Ку-упцы!
Несколько раз потом, отрываясь от воды запавшими глазами, взглядывал он то на Федора, то на Макара зло и презрительно.
Как все в городе, он знал, что когда-то братья были ровни между собою и с ним, но теперь, когда разбогател Федор, было зло на него, что разбогател, и зло на Макара, что стережет он братнино добро, как цепной пес. И с той беззастенчивостью, с какою принято смеяться над чужою глупостью в народе, подмигивая Федору, спросил Макара:
– Проверять свое хозяйство едешь?.. Надо, надо!.. В отделку там без тебя ребята разбаловались!
Макар, покосившись на него (он сидел отвернувшись), отозвался:
– Ты себе свое дело смотри!
А Федор спросил:
– Ты, Афанасий, туда часом не заезжал?.. Как там?
Афанасий подумал и сказал, смотря на Макара:
– Неделю назад там был. Рожнов твой известку сюда пригонял, а туда харч возил.
Кроме каменоломни, дававшей красный гранит, ценимый выше синего, там была у Федора известковая печь, что особенно привлекало Кариянопуло.
– Что же ты мне не сказал? – обернулся Федор к Макару.
– Об чем это не сказал?
– Что Рожнов приезжал…
– Вот новость какая: Рожнов!.. Рожнов за делом приезжал, а вот ты зачем это едешь?
Макар сидел сзади Федора, ближе к носу ялика, а Федор на другой скамейке, ближе к корме, и Макар – повернувшись лицом к Афанасию, а Федор боком к нему, и ему удобно было взглядывать то на брата, то на матроса.
– Я-то еду знаю зачем, а вот ты – это вопрос мудреный.
– А он, чтобы не отстать, – живо подхватил матрос, – молодые работают, а старички подсобляй!.. Тоже «зачем»!.. Он свово упустить не должен.
Всем в городке, кто бывал в рыбацком ресторане «Отрада», жаловался на брата Макар, и матрос знал весь его спор с Федором, и теперь всячески хотел стравить братьев на брань, чтобы не скучно было ехать без водки.
Макар, понявши в нем союзника, через голову Федора бросил ему:
– Не упущу, небось!.. Я своему труду цену знаю!..
– Поговори вот с дураком! – вздохнул Федор. – Сказано: пьяница проспится, а дурак никогда.
– Не дураче тебя, нет! – погрозил ему пальцем Макар и челюстью ляскнул, а Афанасий одобрительно улыбался ему и подмигивал, довольный.
Качало сильно, и ялик то зарывался носом, то взлетал, но все трое не страдали от качки, только холодно было на воде, и Федор, засовывая руки поглубже в боковые карманы меховой серой куртки, говорил спокойно:
– Не дураче, так дураком и не выставляйся… А имеешь если ко мне претензию, – иди да судись.
– А ты думаешь, суда на тебя не найду? – крикнул Макар. – Найду, небось!.. Как в суде ничего не добьюсь, ты его можешь, конечно, деньгами засыпать, я подожду, когда другой суд будет…
– На том свете, что ли? Никакого тебе другого не будет, кроме, как всем.
Но Макар отозвался уверенно:
– Люди, которые знающие, говорили ясно: будет!.. Очень даже скоро это будет: обчая правда!.. Для всех, – понял? – каким даже и в суд дороги нет, – не пущает продажная шваль разная, – и все законы тогда к собачьей матери полетят… По новым законам тогда судить будут, – вот как будет тогда…
И, повысив голос, так как мешала хлюпавшая волна и трепет паруса, закончил торжественно, как вчера:
– И отымется у Федора и отдастся Макару!
Небо к морю ближе, чем к земле, и только его одно признает море.
Теперь море было в белых барашках, а на небо всползало из-за береговых гор круглое, изголуба-белое, плотное, холодное облако: как будто перегнулся и заглянул тот самый край его, который зацепился за отрог Чатырдага.
– Гляди, купцы! – указал на него Афанасий как раз после торжественных слов Макара. – Это спасибо скажите, что нам теперь угол резать, – пустяк езды, а то бы я к берегу повернул.
Федор глянул, куда указал матрос, и тут же отвернулся: он знал, что сейчас же за поворотом видна была деревня Куру-Узень, и если так будет идти ялик, как он шел, – через четверть часа придут к каменоломням, до которых едва ли и через три часа доберется грек. А Макар даже и не поглядел: облако было сзади его, и зачем было трудиться поворачивать к нему голову, когда не с облаками у него спор, а с братом, который вот он – голова против головы. И он играл желваками и глядел на него победно. Рук он не прятал от холода, как брат, и они, чугунно-синие и такие же твердые, как новолитный чугун, привычно сжатые в кулаки, лежали на раздвинутых коленях.
Обогнули мыс – видна стала деревня Куру-Узень, и скрылся сзади город. Надо было перекрепить парус.
– Эй, старички, подсобляй!.. – крикнул матрос братьям. – Сейчас дома будем!.. Бери конец, – тот конец, – непонятный черт!.. Подпыривай!.. Подпыривай под парус, тебе говорю!.. Ма-кар!.. Вот черт, недоделок!.. Федор Петров!..
Федор, лучше Макара знавший, что надо делать с парусом и канатом, скоро и быстро, как этого требует море, помог матросу, и, взявши снова руль, матрос закивал, глядя презрительно на Макара:
– Эх, с непонимающим народом этим! – и сплюнул в воду.
А море кипело, как синее варево в котле со щербатыми (чуть видны были верхушки гор на берегу) краями.
– Ты – матрос, яличник, – значит, вроде извозчика, – прищурил глаза Макар. – Ты взялся везть, – ты и вези… Понял?.. А фокусов не показывай.
– Это каких таких фокусов?
– Таких самых.
– Ду-урак черт!.. Сколько ты годов на ялики смотрел, – конца завязать не знаешь!..
– Не обязан я, стерва ты, – понял?
Афанасий поднял голову, чтобы сказать ему что-то крепкое, и вдруг еще выше подбросил ее, – привстал.
– Это что? Глянь! Лист летит или птицы?
– Лист, кажется, – поднял голову Федор.
Действительно, высоко, с береговых гор, поросших дубом и буком, летели желтые листья.
– Амба нам сейчас!.. Спускай парус!.. Парус!..
И вслед за этим криком матроса страшно быстро случилось все и непонятно для Федора. Скользнув оторопелым взглядом по испуганным глазам матроса, он схватился было за мокрый канат, – тут же рядом с ним очутился матрос, что-то кричал и совал руками (что кричал, не слышно было из-за внезапного шума), – и вдруг что-то ударило его, зашумев, сшибло на скамейку, накрыло с головой мокрым парусом, а когда, барахтаясь ожесточенно, выпростал он голову и руки, – прямо перед собой и ниже себя увидел он звериное лицо Афанасия, обнимавшего в обхват скамейку левой рукой – в правой канат, – и кричал он ему непохоже и страшно, он или другой кто:
– Навались!.. На левый борт!.. На левый!
Не крик, а хрип предсмертный, чуть слышный в реве кругом…
И тут же – голова Макара, без шапки, мокрая, белоглазая, выставилась из воды, а перед подбородком пальцы рук его вцепились в борт.
– На левый!.. На левый! – хрипело матросово непохожее лицо, и Федор понял смутно и под парусом, сильно работая всем телом, перекатился ближе к левому борту, налег на него грудью, фыркая и часто мигая под хлещущей в глаза волной, пытался сообразить, что произошло так внезапно, вспомнил Афанасьево словечко: «Амба!» и перевел его: «Смерть!»… Представился потом Макар – мокрая голова с белыми глазами, оглянулся с трудом в его сторону, – парус лежал мокрой грудой, полунакрыв и его и матроса, который молотил кулаками по Макаровой голове и, должно быть, кричал (еле слышно было, как шепот, как тихий плач):
– Убью!.. Потопишь!.. Убью!.. За корму цепляйсь!.. За корму, сволочь!
И, сам не зная зачем, Федор так же точно, как Афанасий, вне себя начал кричать:
– За корму!.. Эй!.. По-то-пишь!.. Корму!..
Потом он увидел лопасть весла против Макаровых рук, и тут же выправился правый борт, и уже ему, Федору, кричал матрос:
– Весло бери!.. Весло!..
Но первое, что сделал Федор, когда выбрался из-под паруса и сел на скамейке около уключины, он оглядел кипень воды перед собою.
Почудилось ему далекое, будто задушенное: «Фе-е-дя!» – потом тут же еще только: «Фе-е-е…» Смотрел на корму, не глядит ли из-за нее Макарова голова, – не было, и кругом в воде не было видно. Между скамеек застряло подплывшее со дна ялика весло, сапоги были в воде на четверть.
– Весло в бабайки! – командовал матрос рядом. – Греби!.. К берегу!
Ветер сдувал ялик в море, а море то на гребень волны его взмывало, то швыряло вниз. Сзади, за ними двумя, мокрой серой грудой валялся парус и на мачте болтались веревки. Афанасий поминутно оборачивался, – не свис бы с борта, – и вскрикивал яростно:
– Враз!.. Враз!.. Трафь!
Косясь на него, Федор старался так же упористо сидеть, как он, так же длинно вперед вытягивать руки с веслом и, только сделав не меньше двадцати взмахов, спросил, наклонясь к его уху:
– А Макар?
В это время огромная волна, встречная, от берега, поднятая бурей, переплеснула через него белую накипь, и он не разглядел около себя матроса; потом ялик зарылся глубоко носом, а когда вынырнул на гребень снова, Афанасий, кося на него безумный правый глаз, кричал:
– …а мы за ним!
И стало понятно, что он сказал раньше, но чего нельзя было расслышать.
Дождя не было, но все время летели густо брызги от волн, верхушки которых сдувало бурей, и от весел, – металась перед глазами сетка капель, нельзя было рассмотреть берега.
– Амба!.. Несет! – крикнул матрос.
– Несет?
– Амба!.. Не выгребем!..
И вдруг повернул к нему все лицо, не похожее на прежнее, ненавидящее нестерпимо, и простонал почти:
– Душу мою погубил, сволочь!.. За пятерку.
В шуме, в брызгах, в ледяном холоде, в провалах и взлетах казалось, что ялик не движется ни к берегу, ни вдоль берега, ни в открытое море, а просто кружится, как волчок, а ручка волчка этого – мачта, и страшно похоже вдруг на лицо утопавшего Макара стало лицо Афанасия: такие же белые глаза, такие же широкие побелевшие скулы, и старая выцветшая рыбацкая фуражка, глубоко надвинутая на уши, облепившая кругло голову его, была, точно Макаровы серые волосы, и дрожал угловатый, как у Макара, подбородок.
И, всмотревшись в него, вдруг привычно, точно Макару, а не матросу, приказал Федор:
– Греби… Трафь к берегу… Вон он – берег…
И так как нужно было уж не матросу, а ему разглядеть в сети брызг берег, разглядел и крикнул:
– Близко.
– Пропадем, – кричал матрос. – Смоет!
Вслед за этим так ударило в мачту бурей, что подбросило левый борт, почти как тогда, при Макаре…
– Канат тяни! – крикнул Федор. – Обмотайся!
И рад был Федор, что матрос послушно обернулся назад и нашарил конец каната, а потом как взмахнет веслом и, откачнувшись, подтянет… И с каждым взмахом своего весла приговаривал громко:
– Раз… Раз… Еще… Раз…
Так было бодрее. Так было забывчивей.
Афанасий обматывался поспешно канатом, тугим, как проволочный, и просовывал его под скамейку. Ноги Федора, крепко упершись в перекладину на дне ялика, леденели, немели, но, стараясь придать бодрости Афанасию, он входил в какой-то пьяный азарт и орал:
– Не удам… Эх, не удам!
Даже представлялись всё старые сельские кулачки на масленице, когда, парнем, он шел быком стена на стену впереди всех.
Однако при напоре шальной воды упал было на Афанасия, и тот, глядя по-волчьи еще, но уже спокойнее, подбросил ему оставшийся конец:
– Бери!
Конца хватило только прикрутить одну левую ногу к скамейке, но и от этого стало много уверенней…
И Федор даже не понял, почему матрос сказал:
– Потом найдут… Вместе с яликом…
– Когда потом?
– А когда сдохнем… Греби… А то в Батум угонит…
– Близко… Ей-богу, близко, – кричал Федор. – А ну, наддай!
Матрос поглядел на него ненавидящим Макаровым взглядом, потом на берег и, улучив время от ветра, сказал:
– Все одно: гонит. Пять минут погребу…
Потом налетел порыв ветра, окатило волной, – нельзя было расслышать.
– Что пять минут? – потянулся ухом к матросу Федор.
– Потом брошу, – закончил матрос.
– Я те брошу, – опять тем же тоном, каким привык говорить с Макаром. – Смо-три!
О том, что близко где-то люди, что целый город только что был виден, что совсем недалеко большая деревня Куру-Узень и его каменоломня и печь с его рабочими, что, может быть, и теперь вот кто-нибудь идет по тропинке вдоль берега и видит ялик, – не думалось Федору. Совсем выпали из памяти люди, которые могли бы увидеть и спасти. Были только они двое с Афанасием на утлой лодке, наполовину залитой водой, и лодку эту вертит ветром и волнами, как кубарь… Однако из нее не выпадешь теперь больше, и надежнее ее все-таки ничего нет…
Что был день, и день яркий, видно было по сверканию брызг и по кусочкам голубого неба сквозь них, но оглянуться назад, в сторону Куру-Узени, боялся Федор: может быть, так далеко уж отнесло в море, что и не разглядишь Куру-Узени… Лучше было не знать этого.
Ветер был со стороны Федора, и один порыв его был так силен, что почти выбил весло из рук. Весло ударилось о борт с такой силой, что половина лопасти отлетела. Даже взвизгнул от бессильной досады Федор, но тут же справился и из последних сил начал пружинить в воде искалеченным веслом, пыхтя и до темноты в глазах от натуги, а Афанасий бессмысленно-злорадно кричал около:
– Греби, собака!
Была хлещущая ревущая вода кругом, и не было Макара, не было здесь, рядом, а был он в воде – ревущей и хлещущей…
Это пугало, как близкая казнь: один казнен уже, – теперь чей черед: его или матроса? Или обоих вместе? Вспоминался грек Кариянопуло, с которым он не поехал. Теперь линейка несет его к жизни, – ялик, проклятый ялик, – к смерти.
Это становилось ясно.
Но у Макара смерть была легкая: вынырнул раза два и пошел ко дну, как ключ, в своих сапогах новых…
– Ты Макара веслом? – улучил время спросить Федор.
– А-а? – не расслышал матрос.
– Веслом ты, говорю, Макара мово?.. – прокричал Федор.
Матрос поглядел дико:
– Я?.. Веслом?.. Ни, боже збави!
И добавил:
– Я ему на корму велел, – Макару… Греби ровней!..
Федор не поспел за матросом, и огромная волна чуть не покрыла их, окатив, как из шайки.
Матрос отфыркивался, как мокрый сеттер, и злобно вскидывал на Федора белые глаза из-под надорванного козырька рыбацкой фуражки.
– Ишь, черт, по Макару ему тоска!.. Я тебе теперь замест Макара!
– Ты что сказал?
– Я тебе теперь замест Макара! – сильнее и злее выкрикнул матрос и глядел помешанно.
Судорог боялся Федор, и, чтобы не затекли ноги, все менял их, сильнее упираясь в днище ялика то одной, то другой. Сверху ему было тепло от сильных движений, а снизу, в ногах – сверлящий холод…
– Ты пойми, – кричал сбоку матрос, – в Макаре твоем было пять пудов весу, да на пять уперся!..
И добавил немного спустя:
– Не тужи много… Об себе тужи… Амба!
Тут же грохнула рядом такая волна, что Федор зажмурил глаза и повторил: «Амба», но, когда открыл глаза, увидел себя все-таки в ялике, только за шею забралась вода и холодила спину… Матрос тоже был рядом и поправлял весло в уключине: чуть не вышибло из рук.
– Мать пресвятая богородица! – прошелестел губами Федор. – Неужто смерть?
– Греби! – отозвался матрос.
– И жена не узнает!..
Почему-то вспомнилась Наталья Львовна такою, какою была в тот вечер на даче Шмидта, когда кричала: «Вы зачем пришли?.. Со старичками моими в карты играть?..»
Тогда показалась она ему всемогущей… И вот он теперь тонет, а она не знает…
– Какая у тебя жена?.. Шкура! – отозвался матрос. – У меня законная… Шишнадцать лет… Ребят трое!..
И вдруг застыл с поднятым веслом:
– Нет! Суши весла: не будет дела!..
– Голубчик!.. Что ты! – испугался Федор. – Неробь!
– Сто рублей дашь? – вдруг странно, совсем безумно улыбнувшись одними краями губ и крыльями утиного носа, хрипнул матрос.
– Дам!.. Дам, ей богу!.. Греби!.. Дам!..
– Испугался, варнак!..
Глядя на него презрительно, он начал грести снова.

Привычный, он греб сильнее Федора, – как и нужно было, так как со стороны Федора был ветер, – и на поломанную лопасть Федорова весла вскидывал иногда глаз.
Они пытались пробиться к берегу, а буря их гнала в море, – больше ничего не было.
– Может, якорь бросим? – спросил Федор.
Это была одна из его надежд.
– Тут бросишь! – отозвался матрос.
Но была и другая надежда: внезапно начавшись, буря могла так же внезапно утихнуть. Протянут дальше круглые вихревые облака, и море начнет утихать. И он сказал матросу:
– Скоро утихнет, – не робь.
– Дня через два, – отозвался матрос.
– Что два? – не расслышал Федор.
– Утишится, говорю… дня через два!..
Это знал и Федор, что штормы здесь бывают долги, но не хотелось думать, что это именно такой шторм.
Поднялась горячая, едкая, почти сжигающая досада, что не поехала с ним Наталья Львовна, а осталась в номере гостиницы «Бристоль»… Ждала платья, которое заказала, и только поэтому осталась… Передать задаток за аренду могла бы, кажется, в полчаса – главное, не было готово платье… Но разве нельзя было не дождаться платья? И разве трудно было завезти задаток вечером, накануне того дня, как он уезжал с греком?.. Тогда они поехали бы вместе… И разве, была бы она с ним, пустила бы его в море на этом ялике?.. И черт не взял бы грека, если бы он поехал один в Куру-Узень… Что там показывать? Каменоломня, печь… Но вот… Аренда, платье, Наталья Львовна, – Наташа, – и в результате погиб Макар, и сейчас погибнет он сам.
– Ку-пец! – вдруг крикнул Афанасий. – Тыщу рублей дашь, буду гресть, не дашь, – брошу!
– Дам! – Поспешно отозвался Федор.
Он испугался, взглянув на матроса: глаза, как у Макара, когда он тонул, и такие же обтянутые скулы и желваки на заскульях, и нос утиный, мокрый… Макар!.. Только ростом был выше тот, но неизвестно было теперь, когда он привязан к скамейке канатом, какого был роста матрос.
Вот он весь сморщился от злой, ехидной усмешки и хрипнул:
– Дашь?.. Вот сволочь!.. Знает, что обоим амба – дает тыщу!..
– А-а? – недослышал Федор.
Но матрос только глядел на него сумасшедшими белыми Макаровыми глазами и качал головой, будто голова у него дрожала…
От этого в первый раз за всю жизнь, какую он помнил, как-то по-особенному, до потери себя самого, страшно стало Федору, и, отвернувшись, он крикнул во весь голос, какой еще оставался:
– На-та-ша-а-а!
Крикнул в берег, в твердую землю, по-последнему, по-детски, как ребенок кричит единственное свое слово: «Мама!», когда охватит его испуг.
– Ду-у-ра-ак! – в тон ему крикнул и Афанасий. – Услышит тебя канаша твоя!..
Но от своего крика немного успокоился Федор, только это была не та успокоенность, когда яснее становится жизнь. Это была другая, совсем противоположная ей успокоенность от ясного сознания близости смерти. Такая успокоенность бывает у тех, кого везут на место казни. И если за минуту перед тем была еще досада на Наталью Львовну, теперь была уже примиренность со всем, даже больше: Наталья Львовна представлялась плачущей горько, и хотелось как-нибудь ее утешить… Но появилась странная мысль: кому же теперь все останется?.. С Натальей Львовной не венчаны, Макара нет… И, точно подслушав его мысль, крикнул Афанасий:
– Федор! Половину обзаведения свово дашь если, – буду гресть… Не дашь, – брошу!
Федор только поглядел на него, и показалось, что в белых Макаровых глазах не брызги, а слезы.
Отвернулся, поглядел на берег… Очень знакомое что-то отчертилось там, где уже не было моря.
– Куру-Узень! – крикнул хрипло Федор.
Знакомы были очертания гор над этой деревней, хотя деревни самой он не мог разглядеть из-за брызг и пены.
– Давно пронесло! – отозвался матрос.
– Баркас там есть! – спустя минуту прохрипел Федор.
– Черт ли в том баркасе! – спустя полминуты ответно прохрипел матрос.
Больше они уже не говорили. Больше нечего и не о чем было говорить. И уж совершенно охрипли, крича и зажимая поглубже последние силы и последнее тепло тел: может быть, пригодятся еще. Гребли несогласно, забирали неглубоко… Гребли, как машут крыльями подстреленные птицы, думая, что уйдут от того заряда дроби, который уже сидит в их телах, если будут махать крыльями, или как бегут, хрипя, загнанные лошади, пока с размаху не упадут и не издохнут…
Глава семнадцатая
Иртышов у своих хозяев
В каждом губернском городе было свое «Жандармское управление»; здесь оно занимало скромный с виду двухэтажный дом внутри довольно обширного двора.
Оно и не должно было щеголять выставочной внешностью; совсем напротив, оно призвано было таиться в тени, как будто его и нет совсем.
Только отсюда должны были видеть и слышать все, что делалось и говорилось и в этом губернском, и в других городах, и даже деревнях Таврической губернии, а сюда кому и зачем можно было позволить смотреть?
Этот затененный особняк очень тщательно охранялся от постороннего глаза и, конечно, ушей, как днем, так особенно ночью, но, уйдя из квартиры учителя торговой школы Павла Кузьмича, Иртышов пошел не на вокзал, чтобы оттуда куда-то уехать, а сюда, в притаившийся особняк.
Зачем же? Чтобы подстеречь кого-нибудь тут и выпустить в него, сколько удастся, пуль из револьвера, как это было принято у эсеров? Нет, затем, чтобы доложить кое-что жандармскому ротмистру Жмакову, получить от него командировку в другой город, а главное деньги, которые он считал заработанными.
«Что же они, черти проклятые, делают? Ведь не на что жить!» – почти бормотал он, а не только думал, возбужденный неожиданным появлением сына, Сеньки.
Днем он не мог бы сюда идти, потому что примелькалась многим в этом городе его долговязая фигура, его рыжая борода, его весьма порыжелое пальто и кепка.
Он и теперь по довольно плохо освещенной улице шел с опаской и оглядкой, тщательно подняв воротник, упрятав в пальто бороду, сознательно сутулясь и изменив свою торопливую походку на медлительную, стариковскую. Даже старался прихрамывать на левую ногу.
Разумеется, калитка таинственного двора была заперта, но он знал, куда надо было постучать слегка, чтобы перед калиткой появился дежурный, которому нужно было вполголоса, притом оглядываясь по сторонам, сказать, что необходимо видеть ротмистра Жмакова, назвать свою подлинную фамилию и подтвердить это особой бумажкой, имеющей вид книжечки, выданной отсюда же и не только за подписью ротмистра, но еще и с приложением печати.
Бумажка эта, конечно, могла быть у него украдена кем-нибудь или вообще так или иначе изъята, и с нею сюда, в потаенный особняк, мог бы проникнуть кто-нибудь другой, чужой, совсем не Иртышов, поэтому дежурный проверил его по фотокарточке, и только тогда пошли доложить Жмакову, имеет ли он желание принять одного из сотрудников, который пока дожидается сейчас в дежурной комнате.
Разрешение было получено, и Иртышова ввели по лестнице на второй этаж в кабинет ротмистра Жмакова.
Когда человеком недовольны, то, если даже и тщательно скрывают это, недовольство всегда прорвется; Жмаков же не скрывал своей неприязни к Иртышову, едва он вошел; не могла же ведь появиться и застыть на его полном круглом лице презрительная гримаса раньше, когда он сидел один за своим письменным столом и просматривал какие-то бумаги.
Это был человек лет сорока, вполне устоявшийся в жизни, давно привыкший к своей службе. Все в нем, – и черные, короткие, торчком стоящие волосы на голове, и небольшие, тоже черные, усы, и глаза с намеренным прищуром, и нос, несколько похожий на утиный, – знало себе цену.
Усталости, обременения сложными делами Иртышов не заметил на лице ротмистра. В открытом серебряном портсигаре Жмакова было много папирос, Иртышову же очень хотелось курить, почему подумал он вполне уверенно, что вот сейчас протянет ротмистр ему портсигар, однако не протянул; даже и руки не подал, даже и не ответил никак на его «здравствуйте, господин ротмистр», только чуть кивнул головой и не предложил сесть.
В кабинете было очень уютно, – особенно по сравнению с квартирой учителя Павла Кузьмича: прекрасный кожаный диван, на который падал свет от лампочки сверху; ковер во весь пол; письменный стол, как успел разглядеть еще раньше Иртышов, был из чинары, настольная лампочка под красивым фарфоровым абажуром; окна завешены толстым темно-синим драпри.
– Вы что это там наделали у художника? – спросил брезгливо Жмаков, чем очень изумил Иртышова, который совсем не ожидал такой его осведомленности.
Желая проверить, так ли он понял Жмакова, Иртышов спросил, стараясь соблюсти непринужденность:
– Не совсем понял я, о каком художнике вы говорите, господин ротмистр.
– Отлично вы поняли, надеюсь, что я говорю о Сыромолотове, – взглянув на него презрительно, процедил сквозь зубы Жмаков и закурил папиросу.
– Этих художников двое – папаша и сынок, – намеренно тянул Иртышов. – В доме сынка у доктора Худолея я находился несколько дней с вашего ведома, но…
– Будет наводить тень на плетень! – резко сказал ротмистр. – Отлично вы знаете, о чем я говорю! Тоже выкинул фортель! А за коим, спрашивается, чертом? Картиной этой сам великий князь интересовался.
– Ах, вот вы о чем!
Иртышов не зря оттягивал ответ: ведь его надо еще придумать, и он придумал и сказал, с виду возмущенно:
– Разумеется, всякий реагирует по-своему, а я – как мне в голову пришло… Дело в том, что слыхал я краем уха неодобрительный отзыв этого самого художника – папаши – о великом князе: – дескать, и такой он и сякой, и хотелось мне вызвать его на аффект, чтобы у него публично вырвалось, а не то чтобы семейно… Вот какая была у меня цель!
– Можно сказать, – наплел! – презрительно отозвался на это ротмистр, чем подхлестнул Иртышова, который с большой горячностью продолжал:
– Кроме старого художника тут был и его сынок и порядочно еще всякого народа, пригретого Худолеем. Разве не мог я ожидать, что они себя тут-то именно и покажут, вывернутся наизнанку, а? Ведь зачем-нибудь вы меня направили к этому святому до глупости Худолею? Должен же я был, чтобы не упускать удобного момента, подвинтить их до приличного градуса. Оказывается, вот, видите ли, не угодил!
– Черт знает что у вас в голове! – на этот раз как бы даже задумчиво сказал ротмистр, но Иртышов повысил голос:
– Жизнью рисковал! Ведь убить меня мог этот Сыромолотов, если бы другой, сыночек его, не спас! А вы к этому так отнеслись, господин ротмистр, как будто и риска никакого не было! Был и не тогда только риск, а до сего времени за свою жизнь опасаюсь, вот что я вам хотел сказать. Где бы меня ни увидел теперь этот живописец, он из меня обещал щепок нащепать и нащепит, я в этом уверен! Поэтому я и пришел к вам…
– Ну, вот, – оказалось, что только поэтому и пришел, а тоже притворился дохлым бараном: о каких художниках я говорю! – не глядя на Иртышова, делая вид, что занят какою-то бумагою, проговорил Жмаков с откровенным презрением.
– Пришел я за другим, конечно, не в связи с этим, – вызывающим тоном подхватил это замечание Иртышов. – Мне, – как вы сами понимаете, надеюсь, – надо отсюда уехать, – так вот командируйте куда-нибудь и денег дайте.
При этом он оглянулся направо и налево на стулья, желая дать этим понять Жмакову, что уж пора предложить ему сесть, что уж достаточно он стоит перед ротмистром, однако Жмаков, отлично его поняв, поглядел на него так строго, что он непроизвольно вытянулся и опустил руку, которой нервно теребил одну и ту же пуговицу своего пиджака (пальто и кепку оставил он внизу).
– Командировать?.. Для этого надо было сначала зарекомендовать себя дельным сотрудником, а не так, – сказал Жмаков.
– Как же так «зарекомендовать»? – вдруг перешел на полголоса Иртышов. – А разве я не старался… Даже с опасностью для собственной жизни? Ведь если они обнаружат меня, то мне – готовая от них пуля в спину!
– Ну, так уж и пуля! За что именно? – издевательски усмехнулся ротмистр.
– Как же так за что? Прежде всего за Петровых, конечно, с завода Анатра.
– Ну, Петровы и раньше вас были у нас на заметке.
– Однако же арестованы не были!
– Выжидали, чтобы не одних Петровых, только и всего. Всякому овощу свое время.
– Всякому овощу, конечно, однако же я форсировал это дело… Также и на фабрике Эйнем я работал.
– Вы еще гимназиста Худолея вспомните!
– Конечно, и его я мог бы вспомнить… У него еще приятель остался Лучков, о нем я вам докладывал… А в общем, разумеется, либералов сколько угодно, – хоть пруд пруди… Весь педагогический персонал торговой школы, например, как на подбор либералы, только что поводов для ареста нет… Одним словом, я насчет командировки куда-нибудь в другой город и хотя бы рублишек сто деньгами.
Последнее Иртышов сказал с возможной для себя небрежностью, но Жмаков повторил удивленно: «Сто?» – и поглядел на него, высоко подняв довольно густые прямые брови.
– Разве сто – это так много? – счел нужным в свою очередь удивиться Иртышов.
– Таких кредитов у нас в данное время не имеется, – сухо проговорил Жмаков. – Что же касается командировки, то…
Тут он продолжительно затянулся папиросой так, что Иртышову почти непереносимо захотелось протянуть руку к его портсигару, и, чтобы удержаться, он спрятал руку назад. Однако важно было, что именно скажет ротмистр, а он медлил, чем заставил Иртышова затаиться в ожидании.
Вот ротмистр начал барабанить пальцами по столу, смотря при этом куда-то поверх красивого абажура настольной лампочки, наконец закончил:
– Особой надобности в этом в данное время тоже нет.
– В таком случае вы желаете, значит, чтобы меня здесь прикончили? – фистулою выкрикнул Иртышов.
Жмаков поморщился и покосился на дверь.
– Вы преувеличиваете, – сказал он. – Приканчивать никому нет никакого расчета.
– Я вас просил командировать меня! – настойчиво повторил Иртышов.
– А я вам уже сказал, что некуда: все подобные места заняты, притом более для нас подходящими людьми.
Это сказано было сухо и как бы окончательно; Иртышов несколько мгновений молчал, пока не собрался с духом заговорить просто о деньгах.
– В таком случае дайте хотя бы… рублей семьдесят.
– Семьдесят? – удивился ротмистр точь-в-точь так же, как и при слове «сто».
– А что же тут такого! Ведь жить же мне надо чем-нибудь? – зло проговорил Иртышов и так зло поглядел при этом на ротмистра, что тот снова забарабанил пальцами и сказал, подвигая к себе свой блокнот:
– Сорок рублей выпишу, – больше будет нельзя.
– Только сорок?
– Только сорок, – повторил Жмаков и, ничего не сказав больше, протянул ему бумажку, на которой написал несколько слов.
К кому обратиться с этой бумажкой, Иртышов знал: не раз случалось ему получать здесь деньги.
Уходя от Жмакова, Иртышов не сказал ему «до свиданья, господин ротмистр», – вообще вышел безмолвно, а Жмаков даже не проводил его взглядом.
Получив по его записке сорок рублей, Иртышов уходил из таинственного особняка гораздо более спокойным, чем был, когда входил, но прежде, чем оставить железную калитку и отдаться мраку и неизвестности улицы, мелкому назойливому дождю и разным неприятным возможностям, вроде встречи с родным сыном, Иртышов с минуту вглядывался направо и налево.
Он решился, наконец, пойти направо, но только затем, чтобы, сделав шагов тридцать, стремительно перейти на другую сторону, потом свернуть в переулок, потом выйти на улицу, параллельную той, на которой он был в особняке, и повернуть в сторону, противоположную той, в которую направился было.
Так как в поздние часы в этой части города улицы были вообще пустынны, то он как будто от самого себя прятал свои следы. Но пустынность и темнота и дождь нагнали на него робость: вдруг выскочат из темноты двое-трое, оглушат колом по голове и ограбят!.. Оробев, он решительно повернул к центру города, перебирая в то же время в памяти знакомые квартиры, в которых мог бы переночевать.
Беспокоить снова учителя торговой школы было уж совсем неудобно, но так же неудобно было бы, за поздним временем, стучаться в семейные квартиры.
Оставалось одно, – ехать на трамвае на вокзал, так как трамвай еще ходил, а поезд из Севастополя, направлявшийся на север, приходил в час ночи. Однако, когда он совсем было подошел к вагону трамвая, он заметил стоявшего у освещенного окна вагона своего Сеньку и поспешил не только затеряться тут же на тротуаре, но и заскочить куда-то в проходной двор.
Когда трамвайный вагон тронулся дальше, он вышел снова на улицу и совсем было решил зайти в подвальчик, где подавали вино и закуски и где можно было посидеть до часу ночи, но какая-то уличная девица, толкнув его локтем и блеснув на свету фонаря беспардонными глазами, осведомилась хрипуче:
– Мужчина, ночевать ко мне не желаешь?
Иртышов пригляделся к ней и ответил ей неопределенно:
– Это смотря по обстоятельствам.
И пошел медленно дальше по улице, – девица шла рядом.
– Ну, ври, продолжай, – поощрительно сказал Иртышов.
– Вот еще – «ври»! Сроду не врала, – прохрипела девица.
Потом очень что-то скоро остановилась около того самого проходного двора, в котором только что скрывался от сына Иртышов, и сказала:
– Здесь. Идешь иль нет?.. Поменьше только думай, – время не отымай.
Иртышов пошел за ней.
Глава восемнадцатая
Елю доставили домой
Когда полковник Черепанов, послав солдатика из обоза за доктором Худолеем, оторвал его от сына, – Володи, – то Володя даже не был в состоянии понять, как он смел это сделать, когда в их семье случилось такое несчастье – гибель Ели, сестры его младшей – Ели, гимназистки-шестиклассницы Ели, ставшей метреской полковника Ревашова!
Он несколько минут стоял ошеломленно на тротуаре и смотрел на подводы обоза, двигавшиеся к казармам и дребезжащие крепкими зелеными колесами по булыжнику мостовой… Какой-то обоз, какая-то ночная тревога, какая-то вообще чепуха в то время, как вот теперь их семья, семья доктора Худолея, неминуемо станет посмешищем в глазах всего города!.. Теперь даже стыдно будет сказать кому-нибудь новому, кто тебя еще не знает, что ты – Худолей… А как теперь держать себя в своем восьмом классе, да и вообще в гимназии? Ведь об этом завтра же будут знать даже приготовишки! Как глядеть в глаза этим маленьким нахалам, которые непременно будут хихикать при виде его и толкать друг друга, – дескать, смотри, вот он – брат той самой гимназистки Худолей!
Дом, где жил полковник Ревашов, был ему известен, и он пошел, наконец, туда, когда миновала его последняя повозка обоза.
Он твердо и точно ставил легкие ноги, так как твердо и точно знал, зачем идет. Он решил войти так или иначе в дом Ревашова и… самому Ревашову, если его увидит, сказать, что он – подлец, а сестре, что она – мерзавка.
Эти два густых, полновесных слова перекатывались, как два бильярдных шара, в его голове и ничему другому там не давали места.
За честь семьи должен бы был, конечно, вступиться отец, но он служит в полку, но в полку сейчас какая-то нелепая тревога, у него, у отца, нет времени вот сейчас (а время не терпит!) сделать энергичный шаг, значит, сделать его обязан он, как старший из сыновей, и он сделает.
Если он ничего не мог сделать, когда арестовали брата Колю, то там ведь было совсем другое, политическое, как это называлось почему-то, хотя он, Володя, в такое определение не верил, оно казалось ему слишком притянутым за волосы, – но в этом подлом случае с сестрой, девчонкой еще, он может кое-что сделать и сделает непременно.
Он слышал всю дорогу, как билось его сердце, когда же подошел к дому Ревашова, то сунул под шинель правую руку, чтобы его унять, чтобы оно не мешало действовать, как надо.
Он прошелся под окнами дома, строго глядя при этом в каждое из них, и ему показалось, что в одном мелькнула голова Ели. Тут же он повернул назад, в крыльцу, поднялся и резко дернул за ручку звонка.
Почему-то он был уверен, что дверь откроет сама Еля (ведь ее он видел в окне), но дверь долго не отворялась, и он снова дернул звонок.
Тогда там, внутри дома, застучали чьи-то каблуки, – не Елины, вообще не женские, скорее солдатские, – в двери что-то лязгнуло, она приоткрылась, и голова молодого солдата (это был денщик Ревашова Вырвикишка), высунувшись, сказала:
– Барина нет дома, – и скрылась.
Дверь захлопнулась, и щелкнул замок.
– Мне барин не нужен, – мне барыню давай! – крикнул вне себя Володя. – Давай барыню сюда!
Из-за двери послышалось:
– Барыни у нас не водится, и просю не шуметь!
Но Володе с большой яркостью представилось, что Еля стоит тут же и шепотом диктует этому солдату, что ему говорить.
Он ударил раза два кулаком в дверь и закричал:
– Отворяй сейчас же, мерзавка!
Голос того же солдата из-за двери отчетливо:
– Просю не безобразничать, а то…
– А то? Что такое «а то»?
– Можем и в полицейскую часть отправить, – вот что такое «а то», – явно по подсказке Ели крикнул тот же солдат.
– В полицию я сам пойду, сам, мерзавка! – не ему, а ей, сестре, закричал, теперь уже не сдерживаясь, Володя, хотя по улице шли люди, и люди эти не могли не остановиться с большим любопытством, чтобы послушать. что такое делается около полковничьей квартиры.
Володя раз за разом начал дергать звонок, но не дверь, а форточка отворилась в ближайшем к крыльцу окне, и в форточку крикнула Еля:
– Володька, уходи сейчас же вон!
– Не уйду, нет! – вне себя отозвался ей Володя.
Но тут отворилась дверь, и из нее показались уже двое солдат, и один из них схватил Володю за левую руку, другой, – прежний, – за правую, и, как он ни упирался, свели его, точнее стащили на улицу.
Несколько человек, – больше женщины, – глядели во все глаза, и Володе стало противно это, он обмяк как-то сразу всем телом и пошел от крыльца развинченной, расслабленной походкой, бормоча все же:
– Ничего, негодяйка, я еще приду, погоди… Я приду еще, приду, погоди!
Прийти он думал теперь не один, а с матерью. В нем все дрожало; смотрел он только вниз, под ноги, и не заметил, как мимо него проехал из канцелярии своего полка Ревашов, направлявшийся в офицерское собрание пехотного полка для встречи начальника дивизии Горбацкого.
Встретившись в собрании с отцом Ели, Ревашов пришел к решению, которое счел для себя единственно возможным, а в то время, когда он говорил с доктором Худолеем, Володя говорил с матерью и удивлялся, – в который уже раз за свою, пока еще не очень долгую жизнь, – тому, как она относится к явному безобразию (на его взгляд).
Она, – плохо причесанная, очень неряшливо одетая, – должна была, конечно, и причесаться и приодеться, раз сын тащил ее в квартиру полковника, – так ей представлялось начало этого щекотливого дела, – он же ни одной минуты не хотел ждать: по его мнению, дело это не терпело отлагательств.
Потом вдруг, уже причесавшись и надев новое платье, Зинаида Ефимовна уселась перед столом, задумчиво подперев голову, и сказала:
– А может, он на ней женится, этот полковник?
– Да не женится он, что ты, мама! – ухватясь и сам за голову, завопил Володя.
– Да ведь как сказать-то, – начала раздумывать вслух мать, – в чужую душу не влезешь, чужая душа – потемки… А если намерение у него есть, так ведь зачем же его мы будем зря только злить?.. Вот придем мы, а он…
– Придем, а он пусть нам и скажет про свои намеренья, – перебил Володя. – А пока не придем мы, можешь на этот счет успокоиться, мама, – он сам ни за что не скажет!
– Да почем же ты знаешь, Володька? Ты же ведь его не знаешь, с ним ни разу не говорил, – по себе, что ли, ты судишь?
– Каждый человек по себе судит! – срыву решил Володя, однако мать поглядела на него неодобрительно.
– Вот ты какой оказался! Другого подлецом называешь, а сам, выходит, тоже из подлецов подлец!
– Это на каком же основании? – возмутился Володя.
– Да все на том же самом, – невозмутимо сказала мать.
– Я тебе только психологию этого подлеца Ревашова хочу объяснить.
– А я покамест не знаю еще, подлец он или не очень.
– Ну, одним словом, идешь ты со мной или нет?
– Что же ты мне и подумать не даешь!.. И чего ты своей поспешностью достигнуть хочешь? Теперь уж его полная воля, полковника этого, – вот я тебе что скажу… Было бы раньше ее к нему не допускать, а теперь… как если захочет отбояриться, то и отбоярится.
– Вот мы пойдем и сейчас это узнаем, – продолжал настаивать Володя, но мать решительно сказала:
– Что же ты мне даже и подумать не даешь!
И ушла к себе в комнату и притворила за собой дверь.
Минут через пять (Володя был еще дома, стоял у окна) она показалась, чтобы сказать:
– До восьмого класса ты дошел, – должен уж понимать: это дело у них с полковником обоюдное…
Потом опять затворилась, не желая и слушать, что ей на это мог бы возразить Володя.
Прошло еще минут десять, Зинаида Ефимовна вышла из своей комнаты в какой-то старомодной шляпке с пером неизвестной Володе птицы (известно ему было только то, что ничего новомодного у матери вообще не было) и сказала:
– Ну вот, допустим, пришли мы, а вдруг она и меня не впустит, как тебя не впустила? Ведь только сраму зря наживешь, а делу ничуть не поможешь, – это ты знай своей глупой башкой.
– Никогда у меня глупой башки не было! – возмутился Володя. – Плохо сочиняешь, мама!
– Это ты плохо сочиняешь, а совсем не я! Это ты меня туда к ней, к подлюге, тащишь, а я вот не хочу и не пойду, потому что наизусть все знаю!
Тут Зинаида Ефимовна вытащила шпильку из волос и сняла шляпку. Потом с большой поспешностью снова ушла к себе, а Володя вышел из дома на улицу, не зная, что теперь можно ему предпринять.
Очень собранным пришел он домой после свидания с Елей, но матери удалось его расстроить. Он ходил по своему кварталу от угла до угла, глядя себе под ноги, усиленно думая, не замечая времени, и вдруг увидел, как выходила на улицу одетая для дальних прогулок мать.
Она затворила калитку, сделала наставление Фоме Кубрику и, когда подошел к ней Володя, сказала:
– Я пойти пойду туда, а только ты сам увидишь, что не надо, – как я тебе говорила, так и выйдет, ну уж раз ты большой дурак вырос, пойдем: для твоей науки иду.
Володя пошел было с возможной для себя быстротою, но она, тут же отстав, прикрикнула на него:
– Куда спешишь? На свою погибель, что ли?
Пришлось идти совсем тихо.
Дорогой говорила Зинаида Ефимовна только о том, что это скорее всего к счастью: ведь полковник пожилой уже человек, значит, не вертопрах, а вполне солидный, – необдуманно ничего сделать не может, поэтому лезть на скандал да еще на улице, чтобы все видели и слышали, – это совсем не годится…
Володя возражал теперь уже слабо: он начал даже думать, не права ли и в самом деле мать. И когда дошли они до дома, в котором жил Ревашов, то повел он мать мимо крыльца. Мать же, хотя и сама не хотела прикасаться к звонку, так и впилась глазами в окна.
Окон на улицу всего было восемь, и в одном из них она заметила Елю. По тому, что Еля испуганно отскочила от окна и больше ни в этом, ни в другом не появлялась, а на крыльцо тоже не вышла, Зинаида Ефимовна поняла, что не так все просто сложилось, как она думала.
Она перешла улицу и стала смотреть на ревашовский дом с другой стороны, откуда все восемь окон были видны сразу, однако сколько ни глядела, – не видела в них Ели.
– А что, а? Ведь я говорил тебе! – торжествовал Володя.
– Что она-то дрянь, это я и без тебя знала, – нашлась, что сказать, мать: – моя вся надежда на него, на полковника.
– Поэтому что же теперь делать будем?
– Домой пойдем, – вот что делать! – вдруг решила мать.
– Только и всего?
– Только, раз ты не понимаешь! Он сам к нам приедет, этот полковник, – ты увидишь.
– Такую картину увидеть всякий бы не прочь, – усмехнулся Володя, но за матерью пошел, раза два оглянувшись назад.
Уверенность матери, несмотря на то, что никогда не питал к ней уважения, все-таки сбивала его с толку.
А всего через полчаса после того, как они ушли от дома Ревашова, явился туда сам Ревашов.
Еля, которая чувствовала себя как в осаде, расцвела было, чуть только увидела у крыльца его экипаж, но померкла и сжалась, когда увидела его в прихожей, где он раздевался: он не улыбнулся ей, он широко раздул ноздри своего крупного носа, он вытирал платком свою пропотевшую лысую голову с самым серьезным видом.
Она взяла было его за руку и прижалась к нему, стараясь заглянуть в его глаза, как только что мать и брат заглядывали к ней в окна, но он сказал, не глядя на нее:
– Ну что же, одевайся, – сейчас тебя отправлю к твоему папаше.
– Как так к папаше? – испугалась она.
Она не столько проговорила, сколько прошелестела это.
– Как? – Очень просто: получил сейчас от него строжайший приказ привезти тебя немедленно домой.
– Что ты говоришь, Саша! Где ты мог от него такой приказ получить?
Еля подумала, что ее Саша вздумал пошутить с нею, что вся серьезность его просто напускная, притворная, поэтому она даже попыталась улыбнуться. Но он оставался по-прежнему сух и серьезен. Он сказал:
– Видел я его сейчас в собрании, в вашем, пехотном… Он был, правда, в большой степени пьян, но…
– Папа пьян? – изумилась Еля. – Он никогда ничего не пьет! Это ты кого-то другого видел, Саша!
– Не пьет? Значит, захотел разыграть пьяного и все ко мне приставал при офицерах, – вот что-с! Мне пришлось очень сдерживаться, чтобы пре-дот-вратить скандал. А требование его было такое, чтобы немедленно, сейчас же ты была отправлена домой. Поэтому одевайся. Лошади ждут.
Еля выпрямилась, передернула плечами, крикнула:
– Саша! Ты врешь!
– Ка-ак так вру? – обиженно изумился Ревашов.
– После того, что между нами было, ты хочешь меня отправить домой? Саша!
– Я только выполняю обещание, на какое меня вынудил твой отец… в присутствии многих ваших офицеров.
– Этого не могло быть! Не верю! Чтобы мой папа был пьяный, чтобы он требовал меня доставить домой, – не может этого быть! Ты это выдумал!
– Та-ак! Вы-ду-мал!
– Да, выдумал! Сейчас тут была моя мать и мой старший брат Володя, – они этого не говорили! – выдумывала Еля, чтобы уличить его во лжи, но он спросил:
– А что же именно говорили?
– Ничего особенного, только домой не звали.
– Значит, им ты надоела больше, чем отцу? А мне он очень не понравился, твой отец, должен я сказать прямо. Какой-то форменный дурак!
– Мой папа дурак? – так вся и вскинулась Еля, любившая отца. – Ну, это уж ты оставь, Саша! Дураком он никогда не был, и так его еще никто никогда не называл… И ты, пожалуйста, не называй.
– Я привык называть все вещи их именами!
– Мой папа не вещь! Его весь город знает!
– Подумаешь! Надеюсь, что и меня весь город знает!.. Одним словом, прекратим лишние разговоры и изволь одеваться и ехать!.. Вырвикишка! – крикнул Ревашов.
– Чего изволите? – рявкнул в тон ему Вырвикишка, ворвавшись в комнату бурей.
– Давай барышне одеваться!
– Ты не смеешь так! Я не позволю, чтоб меня… – И зарыдала Еля, увидев в руках Вырвикишки свое пальто…
Но Ревашов, сделав вид, что хочет ее утешить, обнял ее, говоря:
– Не понимаю, чего ты плачешь! Ведь ты только покажешься отцу, и лошади будут тебя ждать, на случай, если он тебя ко мне отпустит, – тем не менее усердно направлял обе ее руки в рукава пальто.
– Саша! – рыдая, вскрикивала она, когда он сам застегивал ее пуговицы.
– Уверяю тебя, Елинька, что так со мной строго говорил твой папа, точно я тебя здесь убил! Так что ты только зайди домой, – докажи, что ты жива и здорова, и опять в экипаж и сюда, – старался говорить как можно ласковей Ревашов, а Вырвикишке кричал: – Давай шапочку барышни и муфту!
Когда шапочку надел он на ее голову и муфту сунул ей в руки, он сам же повел ее к дверям на крыльцо, говоря:
– Вытри же глаза, Елинька! Нельзя же так! Подумают даже, что я тебя чем-нибудь обидел.
– Мукало! – крикнул он своему кучеру. – Доставишь барышню обратно.
– Слушаю, вашсокбродь! – лихо ответил Мукало.
– Вырвикишка! Садись и ты! – приказал Ревашов денщику, но тут же шепнул ему что-то на ухо, чего не заметила Еля, а тем более не могла расслышать.
Усаживал ее в экипаж он сам. Поцеловал ее в глаза и щеки, назвал «милой» и «солнышком». Потом, когда она уселась, зычно скомандовал:
– Трогай! На улицу Гоголя!
И сытая пара прекрасных, караковой масти лошадей сразу взяла крупную красивую рысь.
Разумеется, Еля сама должна была указать дорогу к дому своей матери, когда экипаж докатился до улицы Гоголя; Вырвикишка же, соскочив первым, помог ей выйти и сам открыл калитку, сказав при этом:
– Вы же не очень долго, барышня, щоб нам вас долго не ждаты.
– Долго не буду, – бодро ответила Еля, входя к себе во двор.
Она поверила Ревашову, когда он целовал ее в экипаже и кричал кучеру: «Доставишь барышню обратно», а теперь окончательно утвердилась в этой вере. Но едва она скрылась в доме, тою же крупной красивой рысью помчалась пара караковых обратно к дому Ревашова, и полковник, уже одетый и даже с дорожным саквояжем в руках, уселся в экипаж и уехал к своему хорошему знакомому, пригородному помещику Вакулину, тоже кавалеристу, подполковнику в отставке.
А Еля, войдя в дом, искала глазами отца и не нашла; оторопело поглядела на Володю, на мать, кинулась потом к окну и не увидела экипажа, в котором приехала.
Она поняла, наконец, что Ревашов обманул ее, но удара такого не могла перенести. Что-то часто-часто замелькало перед ее глазами, потом перехватило дыхание, и она навзничь упала на пол без чувств.
Ближе к вечеру в тот же день, выслушав совершенно безмолвно все, что сказали ей мать и брат, она все-таки улучила время и, схватив пальто и шапочку, но без калош, выскочила на улицу, там оделась и побежала к дому Ревашова. Однако Вырвикишка не отворил для нее двери.
Глава девятнадцатая
Пансион прикрыли
В этот день Иван Васильич Худолей пришел домой поздно. Совершенно убито сидел он и слушал, что ему говорили насчет Ели и Зинаида Ефимовна и Володя.
Сидел, молчал, не двигался, глядел в пол. Только выпил полстакана воды, куда налил на глаз, не считая, порядочно валерьянки.
Раза два после возвращения домой Ели пила эти капли и Зинаида Ефимовна. Их же должна была пить из рук матери и Еля, когда пришла в себя после обморока. Это был день усиленного воздействия на всех почти в доме Худолеев этого пахучего лекарства. Однако, что касалось самого Худолея, то для него день этот оказался почти непереносимо тяжелым, тем более что настал он вслед за бессонной и совершенно бестолковой ночью.
Когда он вышел из двора казармы, то был еще полон и тем, что услышал от явно потрясенного поведением сестры Володи, и тем неудавшимся разговором в собрании с полковником Ревашовым, которого прежде никогда не приходилось ему видеть так близко, лицом к лицу.
Круглая, совершенно лысая голова, выпуклые глаза в мешках, обвисшие, обрюзгшие сизые щеки, двойной подбородок, – всему этому идет уже шестой десяток жизни, – притом какой жизни! – и вот рядом с ним его девочка Еля, которой только еще шестнадцать лет!
Как будто часть его самого, притом большая часть, опоганена, огажена неотмывно, и на самого себя он смотрел брезгливо, точно только что, оступившись, упал в помойную яму…
Ни одной минуты он не был настроен против Ели, как Володя: он помнил, что она пошла к этому командиру конного полка просить у него заступничества за своего брата Колю, и он сам разрешил ей это, – у него тогда мелькнула надежда, что, может быть, ей удастся сделать то, что не удалось ему у губернатора.
Выходило так, что он сам отчасти был виноват в том, что случилось с Елей: кажется, ведь не было в его личной жизни недостатка в знакомстве с людьми, почему же он остался и до этого дня так преступно доверчивым к людям?
Ведь он сам носил на руках Елю-девочку, он воспитывал ее, как мог и умел, по-своему, – значит, он и в ответе за ее наивность, если только эта наивность была причиной несчастья, какое с нею случилось.
Он был взволнован настолько, что не замечал ничего кругом, шел по улице, свернул на другую и когда оказался недалеко от дома Вани Сыромолотова, то совершенно непроизвольно, вместо того, чтобы идти к себе, зашел туда.
Инстинктивно его потянуло туда как бы окунуться в чужую, тоже надломленную, у всякого из его пациентов по-своему, жизнь, чтобы на время забыться. Однако вместо забытья там ожидало его новое огорчение: в его пансионе оказались посторонние люди, причем они были ему знакомы – один – пристав третьей части Литваков, другой – городской врач Максименко.
Отворив дверь столовой, Худолей не перешагнул порога, – он остановился в полном недоумении, силясь догадаться, зачем они здесь, среди его пациентов, и что тут такое происходит. Ничего хорошего он, разумеется, не мог ожидать, раз в его пансион пришел пристав, но еще хуже было то, что с ним вместе явился и представитель городской медицины.
Бегло окинул взглядом Иван Васильич лица о. Леонида, Дивеева, Синеокова, Дейнеки, Хаджи, Карасека, – все были явно обеспокоены визитом пристава и все стояли. Тут же была и Прасковья Павловна в своем белом больничном халате, и она первая обрадованно повернулась к нему, стоявшему в дверях, и сказала:
– Ну вот и Иван Васильич!
Только тогда Худолей вошел, как был, в шинели, потому что и пристав был в шинели, и Максименко почему-то тоже не снял своего штатского осеннего пальто.
– А-а, здравствуйте! – добродушно сказал приземистый бородатый Литваков и протянул ему широкую теплую руку.
– Добрый день, коллега, – торопливо и глядя не в глаза, а куда-то пониже правого погона, сказал сухопарый, зеленолицый, со складками на залысевшем лбу Максименко, рука которого оказалась костлявой и холодной.
Худолей ждал, что они скажут еще: спрашивать их об этом он счел лишним, да как-то и язык его точно отвык вдруг двигаться. И он услышал тут же от пристава:
– По неприятному делу мы к вам; предписано мне от начальства, э-э, полюбопытствовать касательно вашей лечебницы…
– В каком смысле? – обрел, наконец, дар слова Худолей.
– В разных, – ответил Литваков, а Максименко добавил:
– Главным образом в медицинском.
– На эту лечебницу я ведь получил разрешение, – сказал Худолей, обращаясь к приставу.
– Мне это очень хорошо известно, – подтвердил тот, – тем не менее, понимаете ли… – И он развел руками и выдвинул вперед бороду, находя, конечно, этот жест более понятным, чем разные слова, а Максименко буркнул как бы в сторону:
– Получить разрешение мало, надо чтобы действительно была лечебница.
Худолей подумал вдруг, что именно этот самый Максименко, как городской врач, и написал на него донос по начальству: иметь свою лечебницу – мечта каждого врача, а такого, как Максименко, тем более – он и раньше считал его способным отбить любую чужую лечебницу в видах своих личных выгод… Да и вообще-то среди врачей в городе у Худолея не было друзей.
Почувствовав после замечания Максименко, что как-то сразу ослабели ноги, Худолей сел на стул и сказал устало:
– Ну что же, поговорим… Присядьте, пожалуйста!
Когда пристав и городской врач усаживались, он обратился к своим больным:
– У нас, господа, тут разговор будет, так что вы пока перейдите в свои комнаты.
– Напротив, они-то нам теперь и нужны будут, – очень живо вмешался Максименко.
– Зачем же именно сейчас? – удивился Худолей. – Сейчас, я думаю, будут поставлены вами общие вопросы, на которые мне отвечать, а не им… Потом уже вы, разумеется, можете говорить и с ними.
– Отчасти мы уж говорили с ними до вашего прихода, – сказал Максименко, и пристав поддержал его:
– Кое-что мы от них узнали уж… Кроме того, ведь они не то чтобы какие буйные, а вполне рассудительные. Вот и батюшка тут между ними тоже.
Он улыбался, говоря это, причем нельзя было понять, чему собственно улыбался, и эта улыбка пристава задела Ивана Васильича еще сильнее, чем вмешательство Максименко, и он сказал твердо:
– Пока эта лечебница моя существует еще, то позвольте уж распоряжаться в ней мне!
Однако Максименко отозвался на это:
– Вот именно ваши распоряжения здесь и взяты под сомнение кое-где повыше, почему мы сюда к вам и направлены.
Худолей поглядел вопросительно на о. Леонида, на Дивеева, на Синеокова, на студента Хаджи, надеясь, что вот теперь они выступят на защиту, но они почему-то вполне растерянно молчали.
Тогда он сказал, упав духом (да и было отчего за все это утро):
– Хорошо, пусть останутся, все равно.
И тем же тоном, каким он предложил сесть приставу и городскому врачу, теперь Максименко обратился к пациентам Худолея:
– Присядьте, господа, – у нас нет секретов.
Все сели. Только одна Прасковья Павловна не разрешила себе такой вольности, но и не ушла отсюда, так как видела, что вопрос касается и ее, не только больных и самого Худолея.
С полминуты прошло в покашливанье и в сосредоточенности мыслей в голове Максименко, наконец он начал, не глядя на Худолея:
– Дело в том, что всякая лечебница вообще должна преследовать вполне определенную цель, для чего необходимо что именно? – Прежде всего, однообразие болезней, – это с одной стороны, а с другой, – разрешенные врачебной управой методы лечения этих болезней… Существует, например, так называемая народная медицина, однако она, с точки зрения современной научной медицины, считается ни больше ни меньше, как знахарством, то есть шарлатанством. Практика врачебная знахарям не разрешается. Вы (обратился он непосредственно к Худолею) имеете диплом врача и долголетнюю практику, но, по наведенным нами справкам, вы терапевт, а между тем у вас здесь, как нам уже удалось выяснить, собраны нервнобольные, притом, как бы сказать, в запущенном состоянии болезни… Для подобных больных существует определенный тип лечебниц, с одобренными медициной методами лечения, но здесь, у вас, мы, к сожалению, не обнаружили ничего, напоминающего подобые лечебницы, кроме вот разве этого белого халата (тут Максименко сделал жест в сторону Прасковьи Павловны, чем заставил ее покраснеть густо), чего, разумеется, весьма и весьма недостаточно… У вас тут не применяются ни души, ни холодные обтирания, ни другие подобные средства: список лекарств, вами тут применяемых, больше чем беден, – вы, по-видимому, их совсем даже избегаете применять… Чем же вы воздействуете на своих пациентов? Может быть, внушением? Но тогда у вас должно быть, во-первых, соответствующее свидетельство от врачебной управы на право лечения гипнозом, а, по наведенным нами справкам, такое свидетельство вам не выдавалось.
Тут Максименко прервал свою речь, ожидая, не станет ли отрицать этого Худолей, но он молчал, устало наклонив голову, поэтому Максименко продолжал уже с большим подъемом:
– На основании этого мы приходим к какому же общему заключению? Что лечебница ваша не имеет определенной, как бы сказать, конфигурации, – это раз; что она является, пожалуй, даже покушением с негодными средствами, – это два; наконец, что она если, может быть, и не приносит явного вреда вашим пациентам, то во всяком случае вполне бесполезна.
– И поэтому? – спросил Иван Васильич, подняв голову и глядя на своего обвинителя в упор.
– Поэтому мы пришли к заключению вполне определенному, конечно, – ответил Максименко, – причем это заключение в нас утвердилось после того, как мы тут побеседовали перед вашим приходом с вашими пациентами.
Худолей посмотрел внимательно на Дивеева, на о. Леонида, на Синеокова и заговорил:
– О том, что лечебница моя, – я, впрочем, называю ее пансионом, а не лечебницей, – вполне бесполезна, как вы выразились, я бы во всяком случае не сказал так решительно, – ведь он, этот пансион, только что начал существовать, судить о нем, полезен он или нет, во всяком случае преждевременно… Преждевременно. Да! Запущенные нервные болезни, как вы их сами назвали, нельзя вылечить в две недели… Цель, какую я преследовал прежде всего, изоляция больных от их семейных, изъятие их из той обстановки, в которой болезнь их развивалась, прогрессировала беспрепятственно… Внушение? Да, оно применялось только в виде советов. Я не гипнотизер и пассами никакими не занимаюсь. У меня была идея, – скажу проще – мысль о том, что даже простой отдых, даже глубокий, долгий сон способен значительно восстановить духовные силы, – из этой мысли я исходил… Повторяю, я не буду утверждать, что добился уже блестящих результатов, но для этого очень мало времени было в моем распоряжении…
Так как в это время Худолей смотрел исключительно только на одного о. Леонида, то больной страхом перед тяжелым грядущим священник, решительно загоревшийся как-то весь изнутри, даже поднявшись со стула и приложив руку к сердцу, сказал, обращаясь к Максименко:
– Заявляю от лица всех, здесь отдыхающих, что мы от души благодарны почтенному Ивану Васильичу! Мы здесь у него нашли и приют, и ласку, и ободряющие нас слова, – вот что нашли, а не лекарства, какими нас пичкали и дома, не холодные души, – что души, когда в лекарях нет души! Прекрасная душа Ивана Васильича – вот что являлось нашим главным лекарством!
– Доктор хорош бывает только тогда, когда больной ему верит, – а в Ивана Васильича мы верили, – вставил с места Синеоков.
– И продолжаем верить, – дополнил Дейнека.
А Дивеев сказал с большой искренностью в голосе:
– Если даже принять нас всех за сумасшедших, а заведение это за маленький сумасшедший дом, то, мне кажется, что… гораздо лучше находиться здесь, чем в настоящем сумасшедшем доме. Или, например, в тюрьме… Верно, верно… Я только что выпущен из тюрьмы, – знаю!
Можно было улыбнуться такой горячности одного из больных, но пристав Литваков не улыбнулся, а, напротив, нашел в последних словах Дивеева повод к тому, чтобы влить в разговор, ставший для него нежелательным, несколько охлаждающих слов.
– Вот, кстати, насчет тюрьмы, – начал он, обращаясь к Худолею. – Вы принимаете тут к себе всяких, а разве вам дано это право? Вот, например, выпущенный из тюрьмы на поруки попадает к вам, – хорошо-с, он признан больным, почему, конечно, и выпущен. Ну, а допустим, вот другой, Иртышов некто, – ведь он – политический, а у вас он тут находит тоже, как вот сказал сейчас батюшка, и приют и ласку. Как же так приют и ласку, если он – не больше как политический преступник, по которому, может, целая каторга плачет или даже хотя бы ссылка в Восточную Сибирь?
– Этого Иртышова уж нет среди нас больше, – сказал о. Леонид.
– Я вижу, что теперь-то нет, однако же был и провел сколько-то времени, – только чуть глянув на о. Леонида, но обращаясь по-прежнему к Худолею, продолжал пристав. – Вопрос, почему же все-таки вы его приняли, если знали, что он политический.
– Что он – политический, этого я не знал, – ответил Худолей.
– А почему же вы не навели о нем справки у нас, в третьей части? – допытывался пристав.
– А почему же не арестовали его вы, если знали, что он политический? – полюбопытствовал не Худолей, а Синеоков.
– Это уж позвольте нам знать, почему, – недовольно сказал Литваков. – Мы знаем, когда арестовывать и кого арестовывать. Но вы, должен вам поставить это на вид, отвечаете за тех, кого вы тут приютили, – обратился он к Худолею.
– Ведь Иртышов был прописан у вас в домовой книге? – спросил Худолей Прасковью Павловну.
– А конечно же прописали его, как и всех, Иван Васильич, как же можно иначе? Если угодно, я могу и домовую книгу показать, – заволновалась Прасковья Павловна.
– Что там домовая книга! – пренебрежительно заметил пристав. – Из домовой книги полиция, конечно, могла узнать что именно? – Что он у вас значится на жительстве. Однако вот пришел я, допустим, чтобы его накрыть, ан его уж и след простыл! Вот какое дело…
– Вы его не выписали, Прасковья Павловна? – спросил Худолей просто так, для поддержания разговора.
– Только что хотела выписать, как они пришли, – оправдалась Прасковья Павловна.
– Да ведь дело не в том, что записали – выписали, а в том, что вы его приняли, а называется это укрывательством, – намеренно строгим голосом подвел итоги пристав. – Вас бы надо было за это, если по всей строгости закона поступить, привлечь к судебной ответственности, ну да уж начальство решило пока что к этому не прибегать, а знаете ли, вот и с медицинской точки зрения, по определению врачебной управы… Одним словом, придется нам написать тут у вас акт о закрытии этой вашей лечебницы… Вот какое дело.
Худолей понял, конечно, с первых же слов Максименко, что именно к этому и сведется визит полиции и представителя врачебной управы. Он только недоумевал, что поставит ему в вину пристав. Оказалось, что он допустил опрометчивость, приняв Иртышова, того самого Иртышова, который накануне совершенно дико вел себя у художника Сыромолотова…
Он так и сказал приставу:
– Говорится: ошибка в фальшь не становится, а вы вот мою ошибку с этим действительно негодным Иртышовым поставили мне в фальшь!
– Что делать, Иван Васильич, служба у нас такая, – совершенно отходчиво проговорил Литваков, снова найдя в себе ту самую добродушную улыбку, с которой он встретил Худолея.
– Это что же, позвольте, – вдруг заговорил молчавший до этого студент Хаджи, заумный поэт. – Нас всех хотят выписать отсюда? Нет! Нет, я не согласен на это!
– Я тоже, – подал голос и Карасек.
– Да ведь вашего согласия кто же будет спрашивать? – ответил им вопросом Максименко. – Эта лечебница, назовем ее даже просто пансионом, прикрывается как нечто существующее без законного на то основания.
– Как беззаконное! – упростил его слова Дивеев и поглядел вопросительно на Худолея сначала и на Прасковью Павловну потом.
Пристав же взял с этажерки не замеченную Худолеем папку, с которой пришел, неторопливо развязал шнурки, вынул бланк, заготовленный заранее, закурил папиросу и начал писать акт о закрытии пансиона.
Задержался же тут допоздна Худолей потому, что надо было позаботиться о своих больных, найти для них способы, как им добраться домой, – закрытие так закрытие, – переговорить по этому поводу с Ваней Сыромолотовым, у которого арендовал он для пансиона весь нижний этаж дома, посетовать перед ним на себя самого за то, что пришла ему в голову мысль отправить свою «кунсткамеру» для осмотра мастерской его отца…
– И хотя бы догадался я этого Иртышова оставить, – эх, из-за него вышла вся эта история! – сокрушался Худолей, а Ваня Сыромолотов басил сочувственно:
– Не зря мой отец говорил мне о нем: «Очень опасен в пожарном отношении!..» Оказалось, он угадал этого подлеца.
К тому, что расстроилось дело с арендой дома, Ваня отнесся довольно равнодушно, хотя и сказал:
– А я было хотел весь дом вообще дать вам в полное распоряжение, так как хочу отсюда уехать.
– Далеко ли хотите? – спросил Худолей.
– Весьма возможно, что в Ригу, – ответил Ваня.
Глава двадцатая
Борьба за жизнь
В тот же самый день, когда Федор Макухин уехал один к морю, чтобы продать если не все, то большую часть того, что там завел он за последние годы, Наталья Львовна осталась в большом городе.
Макухину надобно было ехать тогда к морю потому, что туда же вместе с ним отправлялся грек Кариянопуло, покупатель; Наталье Львовне надобно было остаться на некоторое время отчасти затем, чтобы внести деньги за аренду имения, что уже было решено Федором, а отчасти затем, чтобы получить от портнихи подвенечное платье: и то было важно, и другое важно.
Но случилось так, что платье оказалось готово уже на второй день после отъезда Федора, а владелец имения Сушки, предводитель дворянства Оленин, к которому она явилась, хотя и принял ее очень приветливо, но заявил ей, что арендную плату он по многим причинам решил значительно увеличить, что он безбожно продешевил, договариваясь об этом раньше.
Это привело Наталью Львовну к решению задатка Оленину пока не давать, так как Федор мог на новые условия помещика и не согласиться, а свадьбу справить, благо там же, в городке у моря, оставались пока и отец ее, полковник Добычин, и мать. И в тот самый несчастный день, когда Федор решил довериться морю, предпочесть эту изменчивую стихию прочной надежной земле, Наталья Львовна приехала к своим, но нашла дом Федора и в нем встретила бабу Макара только тогда, когда ялик с Федором и Макаром отчаливал уже от пристани. Когда же сама она пришла на пристань, надеясь застать еще Федора, ялик виднелся уже далеко.
Все-таки она его видела, этот ялик, увозивший еще не обвенчанного с нею мужа, человека, который сделался уже ей и близок и дорог. Она стояла на пристани, глядела ему вслед, заметила, как на ялике поднялся вдруг, забелел и напрягся парус.
Это напомнило ей старые лермонтовские стихи о парусе; это наполнило ее душу старой поэзией раннего детства; это размягчило ее необычайно, заставив продумать и представить ярко много из ее жизни; это привело ее к ощущению счастья, которое, наконец-то, прикоснулось к ней своим крылом, и она все с большей нежностью думала о Федоре Макухине, простом, но ведь несомненно способном, предприимчивом человеке, который сказал как-то, не так и давно: «Большие дела мы будем делать с вами вместе!»
Это было так непосредственно, так вдохновенно сказано, с таким сиянием глаз, с такой напряженностью во всем крепко сколоченном теле, что очень обрадовало ее тогда: «большие дела», конечно, намерен был делать он сам, но ради нее, – вот что было неожиданно даже тогда для нее самой, повысило вдруг стремительно ее самое в ее же собственных глазах тогда, когда она больше всего нуждалась в этом.
И вот он отправился строить фундамент этих «больших» в будущем дел. Она благословляла его долгим взглядом; она напутствовала его, стоя здесь, на пристани, где он не мог уже различить ее из своей синей дали; она была растрогана; она забыла свою неудачу, что не застала его дома, хотя вполне могла бы застать, если б не засиделать всего только на полчаса дольше у своих…
Когда подошел к ней и стал рядом какой-то рыбак, ей было неприятно это, и она отошла от него на самый конец длинной пристани. Но рыбак, – это был Степан Макогон, товарищ Афанасия, и тоже бывший матрос, – вальковатый, сутулый человек, с дюжими плечами и сивым волосом в черных усах, – прилежно глядевший на белое облако на Чатырдаге, почему-то пошел, широко расставляя ноги в каких-то бахилах, прямо к ней, опять стал рядом и сказал:
– Замечаю я, что вы на тот ялик дивитесь, – так и я же на него дивлюсь, – не настала б на него лиха година.
Вид у рыбака был угрюмый и явно обеспокоенный, и Наталья Львовна не столько поняла, что он сказал такое, как почувствовала что-то плохое, о чем он как будто хотел ее предупредить.
О том, что на этом ялике отправился Федор Макухин в Куру-Узень, ей сказали другие, этот же рыбак появился откуда-то только вот теперь и говорит что-то малопонятное.
– Какая «лихая година»? – спросила она, и он ответил, подбирая слова, какие могли бы быть ей знакомы:
– Ну, одним словом, иттить им порядочно, а кабы чего на море не образовалось.
– Что же может образоваться? – опять не поняла она.
– Штормяга, – пояснил он и добавил: – Зря Афанасий парус поставил, – вот я к чему говорю… Беды может с ним нажить, как если убрать не поспеет.
– Какой беды?..
Наталье Львовне хотелось точно знать, какая беда угрожает ее Федору в такой ясный и как будто довольно тихий день, но Степан Макогон поглядел искоса на нее с большим недоумением и проговорил уже сурово:
– Какая беда-то бывает, если в море людей она захватывает? В море бежать от беды некуда, вот я вам что говорю. Вам свово будет Федора Петровича жалко, а мне Афанасия, как мы с ним в паре сколько годов уж действуем, да и ялик этот, он только считается его, а моя часть в нем тоже есть, в этом ялике.
Только теперь поняла Наталья Львовна то страшное, о чем говорил рыбак, и зачастила вопросами:
– Почему же? Почему так? Откуда это может?
Рыбак кивнул головой на Чатырдаг и сказал мрачно:
– Переваливает через… Скоро здесь будет.
– Кто? Кто будет?
– Бора, вот кто… Не иначе, барышня, вам берегом ехать надо на всякий случай… Может, доберутся до Куру-Узени, а как если нет?.. Ну, одним словом, нанять вам надо лошадей хороших и прямо аж до самой Куру-Узени, вот что я вам скажу. А там у Федор Петровича рабочие есть, – Рожнова там спросите, вот.
– Лошадей? Господи! Где же их нанять? – вся уже охолодевшая от страшных слов рыбака, проговорила Наталья Львовна, но рыбак, сказав: «Пойдемте, найду!» – двинулся на Набережную, добавив на ходу:
– Мне Афанасия жалко, да кстати и ялик тоже… Так что как если желаете, я бы тоже мог с вами поехать.
– Пожалуйста, голубчик, пожалуйста, я заплачу вам, – тут же согласилась на это Наталья Львовна, чувствуя, что действительно трудно уж стало идти от начавшего дуть навстречу ветра, и оглядываясь на море, где уже нельзя было разглядеть белевший так недавно парус.
Минут через десять они уже садились в экипаж, называвшийся здесь фаэтоном, так как он имел поднятый кожаный верх.
Этот верх защищал ее, довольно легко одетую, от холодного плотного ветра, того самого «боры», который начался так внезапно и грозил ей каким-то большим несчастьем. Теперь оно уж не было для нее смутным: это несчастье – смерть Федора – нельзя было ей предотвратить, но в сущности и в борьбу с ним вступить тоже было бы невозможно.
На что же можно было надеяться ей? Только на какой-нибудь исключительно счастливый случай, который позволит все-таки Федору добраться до Куру-Узени вовремя…
Наталья Львовна начала было расспрашивать Степана Макогона, но односложные ответы его скоро показали ей, что расспросы эти лишние, что лучше молчать.
Степан сел было напротив, на переднее сиденье фаэтона, но Наталья Львовна упросила его сесть с собою рядом, так как на переднем сиденье его слишком продувает ветром. Однако была у нее и другая причина для этого: ей очень тяжело было смотреть прямо в его суровое, мрачное от самых худших предположений лицо.
На море же, где шел ялик, совсем не могла смотреть Наталья Львовна, потому что шоссейная дорога на Куру-Узень, очень выбитая и местами грязная от незадолго до того бывших дождей, шла по долине, и моря из-за довольно высокой гряды холмов с нее даже не было и видно.
В Куру-Узени на известковой печи и в каменоломне Макухина работало человек десять, а Рожнов, молодой еще малый, но разбитной, грамотный, был там у них за старшего.
Что собирается приехать хозяин с покупателем, там не знали. Но если печь была не близко от берега, то каменоломня зато на берегу, и отсюда заметили ялик.
Рожнов же, который так недавно нанимал этот ялик, узнал его и поднял крик:
– Братцы! Да ведь это же никак тот самый ялик, каким я сюда намедни доставился!
Кое-кто из рабочих пригляделись, и один, поглазастее, сказал уверенно:
– Тот самый!
А другой подтвердил:
– Не иначе, как тот!
– Значит, Афанасий-рыбак там на нем! – И Рожнов хлопнул себя от жалости руками по бедрам.
– Была бы труба подзорная, сразу бы видно было, есть там кто, или уж волной снесло.
Глазастый, которого звали Данилой, долго вглядывался, напрягаясь и даже вытянув шею, наконец сказал:
– Есть!.. И похоже – не один, а будто двое.
– Двое? А гребут они, не замечаешь? – встревожился Рожнов.
– Незаметно… Похоже – несет их.
– Неужто пропасть должны люди? А? Братцы! – почти простонал Рожнов. – Поэтому, значит, весла, что ли, у них выбило, а? Не иначе там Афанасий! Кто другой, не знаю, а повез Афанасий, как и меня, – его ялик! Выручать надо! Что ж мы стоим?
– А как же мы можем? – начал думать вслух Данила. – Баркас если спустить за ними, то и наш баркас таким же манером унесть должно.
– Баркас? Унесть?.. Нешто мы его к берегу не направим всемером? Должны вполне направить, – Афанасию канат кинем, на буксир возьмем… Ну, братцы, что же? Жена, трое ребят у Афанасия, – я их всех знаю, – сироты останутся! Бери весла, братцы! Скорей!
И Рожнов, не оглядываясь на других, побежал вниз, к баркасу, вытянутому далеко на берег. Там же, под навесом, лежали и весла. На этом баркасе вывозили отсюда камень – красный гранит – в город. Это была крепкая посуда на три пары весел.
Глазастый Данила посмотрел еще раз на ялик и сказал:
– А может, они там закоченели оба… – Но все-таки побежал тоже к баркасу, а за ним остальные.
Все были одеты тепло, – успели одеться, – все знали Афанасия-матроса; кое-кто ворчал и на него, и на Рожнова, и на Данилу, однако очень быстро, как этого требовало дело, спустили баркас на воду и взялись за весла. Рожнов сел на корме. Он снял шапку и перекрестился трижды, и все тут же перекрестились серьезно и истово.
– Догоним! – бодро прокричал Рожнов. – А ну, братцы!
И шесть весел пошли враз отталкивать вперед и вперед неуклюжий с виду, но легкий на ходу баркас, а гребцам изо всех сил помогал бора.
Грести умели все, – еженедельно приходилось это делать, а по воскресеньям они рыбачили, – у них были и сети и крючья на большую рыбу; к морю они привыкли, хотя были здесь пришлые, – больше из черноземных губерний. Но море было слишком злое теперь и перекатывало с волны на волну тяжелый баркас, как будто он не имел никакого веса.
Через пять минут все были обрызганы с головы до ног, и на дно баркаса захлестнуло воду, но в то время как гребцы сидели спиной к ялику, какой собрались догнать, Рожнов, то и дело поднимаясь для этого, не выпускал ялика из глаз и, – было ли это правдой или нет, – так часто кричал: «Догоняем, братцы!», что когда крикнул он радостно: «Вот он!» – все тут же повернулись и все оглянулись, как по команде, но увидели только плотную сетку водяной пыли, а не ялик, подниматься же с места можно было только их рулевому, а не им, они, чтобы подняться во весь рост, должны были бы выпустить весла из рук.
Свирепый ветер бил Рожнову в спину и в затылок, – им в лицо: им трудно было дышать, им слепил глаза ветер.
Двое из них – Данила и Севастьян – были каменотесы: молотком и зубилом они превращали бесформенные глыбы камня в прямоугольные плиты, – отбивали «лицо» для облицовки стен. Работа эта была тяжелой и кропотливой, но она ценилась, конечно, выше, чем работа простых каменоломщиков, однако всякая вообще возня с глыбами камня требовала прежде всего крепких мышц и большой сноровки, и все семеро на баркасе были кряжистый народ.
Гребли они умело и споро; бора им помогал, – он был попутный, мачты на баркасе не было. Когда Рожнов закричал: «Вот он!» – ялик Афанасия был действительно близко, и минут через пять Рожнов уже мог разглядеть Афанасия.
Он крикнул ему:
– Э-эй! Афа-на-сий!
Крик его долетел, – донесло ветром. Лицо Афанасия было повернуто к нему, но если он что и кричал в ответ, расслышать было нельзя. Повернута была к Рожнову и голова другого, какого-то незнакомого, бритого…
– Актера везет! – прокричал Рожнов своим. – А может, немца!
И деятельно начал одной рукой разматывать канат, другой продолжая править.
Только когда баркас подошел к ялику не дальше, как на двадцать шагов, и гребцы старались обойти его с кормы, чтобы удобней было бросить конец, до них донеслось придушенно слабое: «Рожнов!.. Братцы вы мои!.. Рож-но-ов!»
Это силился кричать хриплым голосом тот, другой, кого вез Афанасий, – бритый, принятый Рожновым не то за актера, не то за немца, – и Рожнов первый, а за ним и другие узнали, что этот бритый – их хозяин Федор Макухин.
– Держись, Федор Петрович! Выручим! – обрадованно обнадежил Рожнов Макухина и, поймав момент, бросил ему, так как был он ближе к корме баркаса, мокрый, с узлом на конце, канат.
Гребцы дружно огибали ялик, чтобы его могло прибить к борту баркаса, чтобы можно было снять и Макухина и Афанасия с ялика на баркас.
Это было трудно сделать, но близость помощи удвоила силы погибавших, – полуокоченевшие, они начали двигаться; волною вскинуло ялик почти вровень с бортом; они перевалились наполовину, их подхватили, и они мешками свалились на дно баркаса между скамеек. Афанасий оказался даже в состоянии помочь Рожнову взять ялик свой на буксир…
Трудно было справиться с этим. Спорили, не захлестнет ли ялик вода, можно ли с таким лишним грузом дотащиться до берега, но Афанасий умолял, обнадеживал, – взяли.
Однако впереди пенилось и бурлило открытое море, и туда же, куда несло только ялик, несло теперь борой и баркас. Нечего было и думать повернуть его и идти обратно против бури; нельзя было подставлять ей и свой борт; можно было только править так, чтобы выгресть к пологому берегу довольно далеко от каменоломни, но все-таки в том же заливе.
Очень скоро пришлось бросить ялик, и даже сам Афанасий первый начал кричать Рожнову:
– Руби канат! Ну его к черту!.. Руби канат!
Рубить было нечем, – перерезал ножом. Ялик помчало.
Прячась за высоким бортом баркаса от ветра, Федор Макухин все-таки крупно дрожал. Он пытался сдерживаться и не мог. Он был одет легче, чем Афанасий, и промок до последней нитки. Он не вмешивался ни во что больше, попав на баркас. Он предоставил действовать тем, кто его спас уже больше чем наполовину и может, – в это он верил твердо, – спасти до конца.
Он видел, как гребут Данила и Севастьян, – он пристроился у ног Данилы, упершись спиною в борт баркаса, а его каменотесы сидели на одной скамье. Они откачивались и наклонялись точно, размеренно прижав к груди щетинистые подбородки – бурый у Данилы, желтый у Севастьяна. Глаз их почти не было видно. Их пальцы с черными ногтями были в ссадинах от осколков камня, и теперь эти ссадины разъедала, конечно, соленая морская вода, но они терпели это и должны были вытерпеть…
Рожнова тоже было видно Федору из-за спин другой пары гребцов. От почти сросшихся черных бровей вид у него, молодого, и всегда-то был суровый, а теперь он посуровел еще больше: он правил баркасом, а чтобы править им в бурю, нужны были и сноровка, и сила, и верный глаз…
«Какие ребята! Какие люди! Цены им нет!» – думал Макухин, стремясь как-нибудь сохранить в себе тепло, стараясь не дрожать и все-таки стуча зубами.
Афанасий только тогда свернулся на дне баркаса в клубок, когда в последний раз проводил глазами свой ялик. Федору видно было только его спину в просвет между ногами другой пары рабочих. Лицом он повернулся к Рожнову, и, должно быть, тоже била его дрожь…
Наклонялись и откачивались два подбородка – бурый и желтый; приближались и удалялись черные ногти и ссадины на руках; скрипели уключины; свистел и шумел ветер; то взлетал, то зарывался баркас; бились в борт волны; переплескивали через борт их гребешки; тщетной являлась надежда сберечь внутри себя тепло, – насквозь пронизывал холод; бесконечно тянулось время; и когда, наконец, ткнулся нос баркаса во что-то твердое, тверже, чем вода, потом отскочил снова и вновь ткнулся уже не носом, а серединой днища, как-то даже не сразу поверилось Федору, что достигли берега, что выкинулись куда-то на песок пляжа…
Но звучали кругом бодрые голоса, и все их перекрывал голос Рожнова:
– Ну, прямо скажу: не чаял – не гадал в живых остаться! Волоки, ребята, спасенников из посуды, а то они, кажись, заклякли в отделку!
И над Федором наклонились два подбородка – бурый и желтый, – и за него взялись руки в изъеденных соленой водой ссадинах и с черными ногтями…
Наталья Львовна, посадив рядом с собой под кожаный верх фаэтона Степана Макогона, сразу ощутила некоторое неудобство: в нее уперлось что-то твердое, бывшее в кармане его бушлата. Отодвинувшись, насколько могла, и присмотревшись, она увидела, что это непочатая бутылка водки с красной сургуч-головкой.
Ей стало неприятно это, и она протянула вопросительно-недовольно:
– Что это у вас, – водка?
– Водка, – спасибо, поспел захватить, – ответил Макогон, – ведь Афанасий с Федор Петровичем не взяли же, – я видал, – а погода вон какая разыгралась!
И Наталья Львовна поняла, что водка необходима, а Степан догадался переложить бутылку в другой карман.
Лошади у извозчика (Макогон звал его Кондратом) оказались хорошие, – они все время бежали рысью, хотя Наталье Львовне хотелось бы, чтобы они скакали, летели, как этот бора, дувший с Чатырдага.
Подъезжая к другой деревне, на полпути к Куру-Узени, Кондрат нагнал линейку, на которой ехал грек Кариянопуло. Он знал, что грек тоже ехал на каменоломню Макухина, – он торговался и с ним, только не сошелся в цене – грек был очень прижимист. Теперь Кондрат злорадствовал:
– Что, пиндос? То бы в закрытом фаэтоне ехал, а то на линейке торчишь, как цюцик, хвост свой поджал!
Наталья Львовна, когда фаэтон обгонял линейку, с большим любопытством разглядывала толстого грека, сидевшего спиною к ветру и уткнувшего всю нижнюю часть широкоглазого лица в поднятый воротник пальто.
А когда потом Степан Макогон подробно объяснил ей, зачем едет этот грек в ту же Куру-Узень, она возненавидела Кариянопуло сразу и навсегда: не будь этого покупателя, зачем бы Федор поехал с Афанасием-рыбаком? Конечно, он теперь сидел бы дома и показывал бы ей свои комнаты, а она говорила бы ему о своем визите к Оленину и советовала бы не соглашаться на его новую цену аренды, а поторговаться как следует, – может быть, он уступит.
И вот теперь, благодаря этому толстому греку, что же теперь? Что ждет ее в этой Куру-Узени, до которой никак не доберешься? Добрался ли до нее Федор на ялике?.. Может быть, все-таки успел добраться до начала ветра? Скорее всего, что добрался, – он счастливый, – к нему милостива была судьба, – неужели отвернулась от него именно в этот день, накануне их свадьбы?
Всячески старалась отогнать от себя Наталья Львовна тревожные мысли. Вся дорога прошла только в том, что они наплывали, она же с ними вела борьбу. На помощь себе десяток раз призывала она Степана, который должен был объяснять ей, когда именно ялик мог дойти до мыса и начать резать угол, и что это, собственно, значит «резать угол»…
Когда доехали, наконец, до деревни, могла ли она сидеть спокойно, смотреть на бескрышие сакли, лепившиеся по косогору одна над другой, и не смотреть на кипевшее, как вода в котле, море?.. Но каменоломня Федора была на самом берегу, и, чтобы попасть туда, надо было проехать мимо деревни. Известковая печь тоже оставалась в стороне, – туда не заезжали, потому что спешили попасть скорее к самому берегу моря.
Баркас пристал верстах в пяти от каменоломни. Его вытащили на берег и под его бортом уселись отдыхать. Все выбились из сил. С троих, – между прочим, и с Севастьяна, – буря сорвала шапки и унесла в море. Все были мокры, а у гребцов и рубахи вымокли от пота.
Федора Макухина продолжала бить дрожь, и он вытащил было из кармана куртки коробку спичек, но тут же бросил ее, так как она вся размокла, Афанасий же, – он сидел рядом, – спросил зло:
– Что, курить захотел?
– Костер хотел – обсушиться, – угрюмо сказал Федор, а Рожнов подхватил:
– Костер и всамделе, это бы да!
Однако сухих спичек ни у кого не нашлось.
– А грек, небось, уж приехал теперь на линейке на своей, – напомнил Федору Афанасий.
– Должно, приехал, – подумав, сказал Федор.
– А мой ялик теперь где, не знаешь?
– Куплю тебе ялик, не зуди, – сказал Федор.
Рожнову и другим хотелось узнать, зачем приехал хозяин и о каком греке говорит Афанасий-матрос. Федору ничего говорить об этом не хотелось, Афанасий же, не простивший Федору потерю ялика (жди, когда купит!), подмигнул Рожнову:
– Продает же ведь донгалаку какому-то, поперек себя толще, обзаведение свое все, – нешто не знаешь?
– Федор Петрович! Неужто? – испугался Рожнов.
И Данила, и Севастьян, и другие четверо потянулись головами к Федору:
– Неужто греку?
– Какому это греку?
– А мы-то как же теперь?
– Он сюда своих поставит заместно нас!
Покосился недовольно Федор на Афанасия и сказал твердо, насколько мог:
– Слушайте его больше! Не продам, не бойтесь!
– Так грек же поехал за этим или вроде прогулки себе? – не унимался Афанасий.
– Выходит, для него вроде прогулки, – сказал Федор и, только теперь окончательно утвердясь в этой новой для себя мысли, добавил:
– На черта мне продавать, что мне совсем не мешает? Захочу продать, найду что продать и кроме этого.
Время было спросить и ему, кто же это из семерых догадался спустить баркас, чтобы перехватить ялик, и он спросил.
– Кого же еще люди послушать могли? Рожнова, само собой, – ответил на это Данила.
– Выходит, это ты мне жизнь мою спас? – обратился к Рожнову Федор.
– А что бы я один сделать мог? – сконфузился Рожнов. – Один бы я и баркаса с места не сдвинул.
– А почему же ты мог знать, что я на этом ялике еду? – допытывался Федор.
– Ни сном, ни духом не знал!.. Вижу только, смотрю, – это же Афанасия ялик, а я же на нем сколько разов ездил, – ну, думаю, это не иначе, как к нам он трафил, а бурей его уносит, – объяснил Рожнов.
– Ну, Афанасий, сколько ты им отвалишь за свое спасение, это уж тебе знать, – торжественно, насколько был в силах, начал Федор, – а что до меня, то все вы, братцы, от меня по сто рублей получите, а Рожнов – двести! Вот!.. А чтобы я вас другому отдать мог, об этом и думать забудьте!
К каменоломне по тропинке вдоль берега идти пришлось против ветра, до того разлютевшего, что и свежему человеку очень трудно было бы продвигаться вперед, а Макухин и Афанасий плохо владели теперь ногами.
Рожнов приставил к Афанасию Данилу, сам взял под руки Федора, остальных же выставил вперед. Так шли, и шли долго, – часа полтора. Садились отдыхать и снова шли, нагибая головы, точно тянули бечевою, как бурлаки, свой баркас.
Глазастый Данила первый разглядел еще издали, что у них на каменоломне появились люди, а потом заметил и экипаж – пару лошадей, и сказал об этом Федору.
– Грек приехал, – решил Федор. Афанасий же спросил Данилу:
– Линейка?
– Нет, похоже – фаэтон, – верх крытый, – присмотревшись, не совсем уверенно, впрочем, сказал Данила.
Однако шагов через двадцать он уже не колеблясь определил, что фаэтон, а не линейка. Потом разглядели это и другие, и сам Федор тоже.
– Ведь он же на линейке поехал? – обратился Федор к Афанасию.
– А то на чем же? – удивился его вопросу Афанасий.
– Ну, значит, извозчик его потом вернулся, перепряг лошадей в фаэтон, – пытался догадаться Рожнов.
– Кабы он был у того извозчика, – заметил Афанасий. – Нет у него фаэтона, а только линейка.
Потом все заметили, что среди троих там на берегу была одна женщина, а минут через десять после того Федор, потрясенный, со слезами на глазах, кричал туда:
– На-та-ша! На-та-ша-а!
И чуть не упал, рванувшись было бежать туда: он узнал в женщине Наталью Львовну.
Часто бывает это, что только потерянное нами навсегда становится для нас по-настоящему дорогим и милым.
Чем ближе к загадочной деревне Куру-Узень подъезжала Наталья Львовна, тем плотнее охватывала ее тоска, особенно потому, что все больше и больше мрачнел ее спутник Степан Макогон.
Он хотя и говорил ей насчет того, что Афанасий, пожалуй, успеет срезать угол до начала боры, а сам в это не верил, и она, наконец, заметила его безнадежность и испугалась.
Окончательно поверила она в гибель Федора, когда Кондрат довез ее до каменоломни, где не нашла она ни одного человека.
Степан знал, конечно, о баркасе, а когда не нашел его на обычном для него месте, махнул рукой, потом выбил из своей бутылки пробку, ударив ладонью в дно, запрокинул бутылку и отпил не меньше стакана: это был жест отчаяния, и так и поняла его Наталья Львовна.
Она плакала, когда Кондрат, взобравшийся на скалу карьера, откуда, конечно, шире было видно море, закричал Степану:
– А приглядись, эй, Степан! Приглядись, куда показываю, это не баркас там?
И когда Степан пригляделся, то закричал ответно:
– А вже ж баркас! Только людей черт мае!
Люди в это время как раз сидели за баркасом, и увидеть их никак было нельзя.
Все-таки баркас был налицо, – вытащен на берег, и для рыбака и матроса Степана явилось задачей: вытащен ли баркас, или его просто сорвало отсюда с причала и выбросило там бурей.
– Нет, – сказал он решительно. – Пускай говорит мне кто завгодно, а чтобы в ту сторону выбросить его могло, это уж звиняйте, никак не может, бо дует так, прямо, а никак ли не в бок!
Как отделилась от баркаса и направилась берегом кучка людей, никто из трех не заметил, не туда глядели, а потом тропинка делала такой изгиб, что хотя бы и глядели, не могли бы увидеть.
Одновременно заметили потом друг друга и рабочие каменоломни и приезжие. Степан Макогон, как и Кондрат, не могли не догадаться, что ломщики на баркасе выходили в море, а потом приткнулись, где смогли; гораздо труднее, конечно, было различить в толпе Федора Макухина и рыбака Афанасия, тем более что их прятали от ветра другие.
Но когда закричал Федор, толпа ломщиков невольно открыла его и Афанасия, и все начали кричать и махать руками. Тогда и Степан разглядел Афанасия, а Федора – Наталья Львовна, и оба они побежали по берегу туда, им навстречу.
Наталья Львовна бежала, совсем не замечая от радости, действительно ли бежит она, или просто летит по воздуху.
Она, конечно, обогнала слишком добротного Степана и, добежав до Федора, обняла его, вся вздрагивая от рыданий, а когда оторвалась от него на момент, чтобы хорошенько рассмотреть его, заметила краем глаза, как Степан совал в рот Афанасия горлышко привезенной им бутылки.
Костер, как хотел Федор возле баркаса, развели в каменоломне, где в защите от ветра он горел без помехи. Около него уселись сушиться все, кого выпустило в этот день из своих объятий бурное море. И если Наталья Львовна не нуждалась в том, чтобы огонь высушивал на ней платье, то все же казалось ей, что ничего красивее, ничего праздничнее этого костра в каменоломне ее Федора она никогда не видала в жизни…
Зимний день короток даже на юге, и Кондрат напомнил, что нужно уж ехать обратно, чтобы не захватила в дороге ночь. Выйдя к фаэтону, Наталья Львовна не могла удержаться, чтобы не расцеловать на прощанье спасителей ее Федора, – Рожнова, Данилу, Севастьяна и остальных, чем очень растрогала самого Макухина.
А Кариянопуло все еще не было, хотя все четверо (и Афанасий и Степан) уселись в фаэтон, чтобы ехать обратно.
На обратном пути увидели толстого грека в той самой деревне, около которой его обогнал Кондрат: оказалось, что под ним на выбоине дороги лопнула рессора, и линейка не пошла дальше этой деревни, в которой была кузня.
Впрочем, не рассказывая греку о том, как он сам добрался до Куру-Узени, Федор успел сказать ему, чтобы он возвращался назад, так как продавать каменоломню ему он передумал.
Дня через четыре после этого чересчур памятного дня, грузно, тяжело переставляя ноги, опираясь на палку из дикой груши, глядя исподлобья запавшими глазами, к дому Федора Макухина подошел матрос Афанасий. Наталья Львовна увидела его в окно и сама вышла ему навстречу.
Она была непритворно рада тому, что он встал, ходит, пришел навестить Федора Петровича. Она не замечала, – старалась не замечать, что его старая вытертая рыбацкая фуражка с белым кантом была та самая, в которой он едва не утонул так недавно, и та же самая была на нем суконная матроска под очень обветшавшей курткой – бушлатом. Быть может, она даже и не узнала бы его, если бы он оделся как-нибудь иначе.
– Федя, – сказала она Макухину, вводя к нему в комнату матроса, – к тебе гость!
Федор лежал на широкой тахте, прикрытый теплым одеялом. Она ожидала увидеть большую радость на лице Федора, но он только протянул: «А-а, ты уж встал!» – однако даже не улыбнулся.
Афанасий же явно для Натальи Львовны чувствовал себя не совсем ловко в ее присутствии, однако уходить ей не хотелось, – хотелось послушать, как они будут вспоминать свою прогулку на ялике, которая едва не оказалась для них последней.
Неприятно ей было только, что матрос обратился к ее Федору на «ты».
– Ну, Федор Петрович, что же ты? Лежишь еще? А я вот заковылял.
Отметила она и то, что он, усевшись около тахты на стуле, сразу же загрязнил своими толстыми сапогами пол: ведь мог бы вытереть ноги, когда вошел, – в прихожей имелась для этой цели дерюжка.
– Лежу, как видишь, – ответил Федор, – и ноги как не мои.
– Ты бы их спиртом почаще растирал, – посоветовал Афанасий, – а что в бутылке оставалось бы, это бы выпивал по-трошки.
– Это помогло бы, вы думаете? – спросила Наталья Львовна.
– А как же! Первое средство, – убежденно сказал Афанасий. – Ведь спирт, он же кровь туда-сюда разгоняет, все равно как полицейский на улице, чтобы столпления не делала… Говорят люди, что карасин будто помочь дает, только я, как сам не пробовал, за карасин говорить не хочу, а спирт – это уж всем известно… А чем же ты ноги пользуешь?
– К нему доктор тут один приходит – лечит, – объяснила Наталья Львовна, но Афанасий этого не одобрил:
– Уж доктора налечат! Пети-мети знай давай.
– Как если ты встал, то уж и я надеюсь, что встану, – сказал Федор. – А теперь-то что же нам с тобой, Афанасий, – чаю, что ли, выпить? А?
– Чаю? – весьма удивился Афанасий и добавил: – Что же мы с тобой, Федор Петров, из такой погибели выкрутились нешто затем, чтобы чай распивать?
– Ты, значит, полагаешь, что водчонки бы лучше? – спросил Федор, и Афанасий, поведя глазом на Наталью Львовну, тут же согласился с ним:
– Полагаю, что хорошо бы.
– Коньяку, может быть? – предложила Наталья Львовна.
Афанасий вопросительно поглядел на Федора и вопросительно же сказал:
– После, конечно, можно бы попробовать, а?
Когда Наталья Львовна вышла за водкой и коньяком, Афанасий, оглянувшись на дверь и придвинув стул к тахте поближе, заговорил вполголоса:
– Федор Петрович, ты же уговор-то наш помнишь?
– Какой уговор?
– А насчет ста рублей-то… Ведь я же теперь, может, сколько время через твою прихоть калечным буду, а ты же обещание давал мне, – это чтоб я греб веслом дюжее.
– Сто рублей будто я тебе обещал?
– Неужто забыл? – И сразу посуровело лицо Афанасия. – Ты даже, скажу тебе, тыщу обещал, ну, это уж потом было, – это ты вполне мог забыть, потому – не в себе был, а что касается ста рублей…
– Помню, – перебил его Федор.
– Помнишь? – обрадовался Афанасий. – Ну вот, стало быть…
Федор слабо улыбнулся в первый раз с его прихода, но так как услышал приближающиеся шаги Натальи Львовны, то сказал только:
– Это считай у себя в кармане. Дай вот только на ноги встану, и на свадьбе моей гулять будешь, только почище одёжу себе найди.
Наталья Львовна поставила столик около тахты, а когда на столике появились перед Афанасием две бутылки – одна с водкой, другая с коньяком, – то такой светлый и радостный показался ей этот только что глядевший исподлобья матрос, что долго потом не могла она припомнить ни одного более для нее приятного гостя.
Глава двадцать первая
Сыромолотовы расстались
Ваня Сыромолотов оказался в немалом затруднении после закрытия худолеевского пансиона: с одной стороны, ему хотелось уехать из своего дома, с другой, – не на кого было его оставить.
Самое простое было бы, конечно, напустить в него квартирантов, однако ведь не думал же он никогда не возвращаться сюда: иметь свой дом про запас, на всякий случай он считал небесполезным. Наконец, подходящие квартиранты могли ведь и не попасться за короткое время, – город совсем не был перенаселен, а жить здесь только затем, чтобы заниматься отбором квартирантов, значило для него совершенно напрасно терять время.
Ваня решил дом запереть, а для досмотра за ним нанять дворника.
Но в городе был человек, которого тоже не мог он оставить так себе, просто и спокойно, как всякого другого: человек этот был выдающийся художник Алексей Фомич Сыромолотов, – не отец, то есть, не столько отец, сколько человек одной с ним профессии, но стоящий где-то на очень большой высоте над ним.
Ваня, не только повинуясь первому впечатлению от полотен своего отца, повернул свои полотна к стене: он был поражен мощью кисти отца глубоко и прочно, и за себя ему, как художнику тоже, «любимому детищу Академии», не зря же ведь получившему заграничную поездку, в первый раз, может быть, в течение нескольких последних лет стало как-то очень неловко.
Он помнил, конечно, – и как же можно было это забыть, – что отец кричал ему: «Вон! И навсегда!» после случая с Иртышовым, но это кричал отец, а его поразил художник.
Два понятия эти в нем жили самостоятельной жизнью и раньше, пожалуй даже всю его жизнь, но в последние дни они совершенно как-то разъединились, и он готов был говорить отцу, как вполне постороннему, то, что он пережил и перечувствовал под влиянием его техники, замыслов его картин, и в разговоре с ним готов был называть его, как любой бывший студент Академии художеств, по имени-отчеству – Алексей Фомич…
Раза три было это, что он как бы по какому-то совсем постороннему делу медленно проходил по улице, где жил, на Большом Плане, его отец, то есть Алексей Фомич Сыромолотов, и даже заглядывал в окна, еще медленнее ставя ноги, но зайти все-таки не решился. И только когда окончательно назначил себе день отъезда, в этот день, в сумерки, нерабочее время для художников, – звякнул щеколдой калитки Алексея Фомича.
Кутаясь в теплый платок, отворила ему Марья Гавриловна, но, хотя и улыбалась приветливо, не сказала: «Пожалуйте, Иван Алексеич!» – серебристо-певуче, как говорила как-то прежде.
Она была в нерешительности: ведь слышала это «Вон! И навсегда!», и Ваня, осторожно отстранив ее, без приглашения вошел в дом.
Он снял пальто и шляпу в передней, действуя именно так, как если бы зашел не к отцу, а к художнику большой авторитетности, с которым очень хотелось ему перед своим отъездом поговорить о кровном для себя деле, – о живописи.
Он вполне был убежден, что Алексей Фомич, как обычно в сумерки выходивший из мастерской и стоявший у окна, наблюдая улицу, его видел и знает, что он неторопливо, как было ему свойственно, разделся в прихожей.
Все-таки, слегка кашлянув басовито на случай, если бы это было не так, Ваня постучал в дверь столовой и оттуда услышал знакомое отцовское:
– Войди!
Алексей Фомич действительно стоял у окна.
– Что ты? – спросил он, когда вошел Ваня.
Головы к нему он не повернул, – смотрел на улицу.
– Уезжаю сегодня с ночным, – прогудел Ваня.
– А-а… Так.
Чтобы о чем-нибудь начать разговор, Ваня сказал:
– Прикрыли пансион этого… доктора Худолея, – так что оставляю дом свой пустой.
– Что же ты, в сторожа к себе пришел меня приглашать?
– Нет, нанял уж старичка одного, – невозмутимо ответил Ваня. – Он же и дворник будет… А что из этого выйдет, когда-нибудь увижу, когда приеду.
– Гм… А если он тебе по нечаянности пожар в доме сделает, то можешь и ничего не увидеть, – сказал Алексей Фомич без всякой едкости в голосе, однако не поворачивая головы.
– Все может быть, конечно, – согласился Ваня.
Тут он хотел как-то перейти к тому, зачем пришел, – к его картинам и к его живописи вообще, но почувствовал, что сразу сделать этого нельзя, – надо как-нибудь подготовить переход, спуститься (или подняться) к нему незаметно для оскорбленного так недавно в своем святом большого художника, и он сказал об Иртышове, что слышал от Худолея:
– Приходил пристав в мой дом, чтобы арестовать этого самого прохвоста, фамилия которого неизвестна, а псевдоним – Иртышов, но так как я его выгнал тогда же, в тот же день, как он себе подлость позволил, то… Куда-то будто бы он из города удрал, – так что полиция его ищет, но пока не нашла.
– Ищет все-таки? Гм… Скажите, пожалуйста! – не повышая голоса, отозвался на это Алексей Фомич и добавил: – Подлецов наша полиция всегда очень неудачно ищет, зато порядочных моментально находит.
– Да, вот, насчет порядочных, – очень живо подхватил это замечание Ваня, довольный тем, что какой-то разговор у него все-таки завязался. – Доктор Худолей всех пациентов своих развез по домам, но оказалось, что одному все-таки некуда было ехать, – ну, вообще некуда, – его только что перед этим из тюрьмы на поруки выпустили, нашли, что не все у него на чердаке в порядке… Это архитектор бывший, некто Дивеев… Пришлось мне с ним возиться несколько дней. Наконец, вот только сегодня утром его отправил на Южный берег: будто бы там у него какие-то близкие люди есть.
– Он у меня был? – спросил Алексей Фомич.
– Был, и больше всех возмущался тогда этим мерзавцем. А что касается картины твоей, то поражен был ее техникой, – мгновенно придумал Ваня.
– Так что сумасшедшим я, значит, угодил, хотя и возмутил мерзавца? Какой же можно сделать из этого вывод?
Алексей Фомич повернул теперь голову к Ване, будто и всерьез ожидая от него ответа, Ваня же почувствовал, что вот именно теперь он может сказать о том, чем был полон все последние дни, и он начал прямо, с себя:
– Какой вывод? Должно быть, тот, какой сделал я, а я все-таки не сумасшедший и тем более не мерзавец… Я поражен этим, – говорю очень точно: поражен! Могу так сказать, – ведь мне от тебя ничего не надо: ни наследства, ни, как бы это выразиться, – очень хороших отношений, что ли… Я тебе – не ровня, скажу это прямо, – куда уж мне! Ты меня ругаешь, – может быть и стоит, – я даже убедился в последнее время, что стоит, – потому что у меня чего-то твоего нет…
– Очень многого нет! – резко перебил Алексей Фомич.
– Вот именно, – очень многого, – схватился за эти слова Ваня, – а между тем, – чем же еще я и хотел бы стать, как не художником?
– Врешь! – почти крикнул Алексей Фомич. – Врешь! Не хотел и не хочешь!
– Вот тебе раз! – удивился Ваня. – Как же так не хочу?
– Не хочешь, – вот и все объяснение! Не прямо идешь к цели, а мыслете ногами пишешь, – петляешь, как заяц, – плывешь с заходом во все встречные порты, вот что я тебе должен сказать!.. Силы наел много? – Отбавь! Знаешь персидскую сказку о Рустеме и Зорабе? Что Рустем со своей силой сделал, помнишь? Половину ее какому-то волшебнику или духу отдал на сохранение, – вот что! А зачем отдал? – Чтоб она ему не мешала, – вот зачем. А ты чем занялся? Удвоил ее гимнастикой? Зачем? За двумя зайцами погнался? Может быть, ты этого зайца, который повиднее собой, и поймал, я не спорю, не отрицаю, глупо было бы и отрицать, когда ты мне, мне, Рустему, чуть позвоночника не сломал, но что касается другого зайца, то – он пока еще в почтенном от тебя отдалении скачет.
Проговорив это, если и не с привычным для себя подъемом, то, быть может, потому, что в сумерки неудобно блистать яркостью даже мысли, – Алексей Фомич начал закрывать ставни.
Марья Гавриловна вошла с зажженной лампой, как только Алексей Фомич прикрыл последнее окно, – конечно, у нее уж все было готово. Поставив на стол лампу, она спросила:
– Самовар сейчас подать или попозже?
– Если готов, то что же вам с ним делать? – спросил ее в свою очередь Алексей Фомич, и она вышла и тут же внесла бурлящий самовар на пятнадцать стаканов.
При свете лампы Ваня пристально вглядывался в лицо пожилого, но такого еще мощного художника, не только не истратившего себя, но шагнувшего далеко вперед даже за два-три последних года. Зораб как будто хотел отыскать в Рустеме этот неиссякающий родник творчества, для которого не нужны оказались никакие нажимы извне: била струя все шире и шире, все чище и чище, как-то сама по себе, не нуждаясь ни в чьем одобрении… А он, – которого так одобряли профессора Академии, который так много как будто и видел и усвоил в бытность свою за границей, почему-то все время топтался и топтался на месте.
– Скачет в почтенном от меня отдалении? – повторил слова отца Ваня. – Да, это и я почувствовал, когда побывал в твоей мастерской… Нет техники!
– А у кого ее нет, тот говорит, что она и не нужна совсем, – подхватил Алексей Фомич. – Дескать, на черта какая-то техника, когда нужно дать намек? Теперь народ пошел умный, – с одного намека все поймет: сам про себя дорисует и допишет, а техника – это отсталость, провинциализм, сущая ерунда!.. Знаешь, что тебе надо бы делать, – вдруг воодушевился он: – Сочетать, вот что! Со-че-тать, а не разъединять в себе силача и художника, – вот что ты должен делать! Ты – Зораб, но я-то ведь Рустем, а ты забыл об этом, когда мне свой дурацкий вопрос задал… Влей свою Зорабову силу в искусство, а не в то, чтобы Рустему непременно сломать хребет!.. Какого кентавра победил Геркулес? Кажется, Нессуса?.. А ты дай картину в пять этих моих стен длиною, – дай сотню Геркулесов с их палицами и сотню кентавров… и кентаврих, кентаврих тоже, – непременно кентаврих и тоже с палицами в руках, и с луками, с колчанами стрел через плечо… Дай всем мышцы такие, как у Микеланджело в его «Страшном суде», как у тебя самого! Стань перед зеркалом голый и пиши с самого себя всех кентавров и всех геркулесов…
– И кентаврих тоже, – вставил, улыбнувшись, Ваня.
– А как же иначе? И кентаврих тоже с себя, – ведь это же пока еще только полулюди-полузвери, ведь кентаврих не кормили кентавры, – они должны были сами добывать себе пищу… Разумеется, и кентаврихи имели такие же мускулы, как самый заправский кентавр. Ты, конечно, едешь сейчас к своей Эме, – она – женщина, хотя и циркачка, – женщина, – не кентавриха, нет, – и если ты ее выкинешь когда-нибудь в окно шестого этажа на мостовую, она найдет время, пока долетит до мостовой, и в зеркало поглядеться, и губы себе подкрасить. Кентаврихи же губной помады не имели и в зеркало не гляделись… Так вот, – дай людей и кентавров, – вот твоя тема! Можешь назвать даже так: «Последний бой людей и кентавров», – в этом, дескать, бою истреблены были все кентавры, сколько их еще оставалось, – восторжествовал человек. Представь только, сколько силы (своей силы), ракурсов можешь ты бросить на полотно в пять таких стен длиной! А? Что молчишь? Не нравится тебе такая тема? Тебе бы все «Жердочки», «Фазанники» писать? А? Вот в этом-то и заключается твоя трещина: сила, как у бизона, а картины, как у чахоточного в последней стадии! Так-то!.. Ну, что же ты сидишь, в самовар глядишь? Наливай чай и пей, – не мне же наливать прикажешь!
Однако Ваня не прикоснулся к чайнику, стоявшему на самоваре, и к своему стакану. Он слушал очень внимательно и ждал, что еще скажет отец. И Алексей Фомич, ходивший в это время по столовой из угла в угол, не остановился на том, что сказал. Он только что начинал раскачиваться, и Ваня чувствовал это и, хотя не пил чаю у себя дома, все же отказался:
– Да я уже пил, – мне не хочется… Кентавры и люди? – Хорошая тема, да кто-то уж, кажется, писал на нее…
– Кто именно? – вскинулся отец, остановясь. – Не знаю такого. А хотя бы и писал кто, – что из этого? На все темы писали. А ты напиши так, как будто до тебя только мальчишки без штанов этой темы касались обезьяньими лапками, холст пачкали; сморкались на холст, а не писали, – вот как ты должен это сделать! Тут борьба не на живот, а на смерть, и победил человек, а если бы кентавры победили, то… то на Васильевском острове в Петербурге не было бы Академии художеств, а паслись бы там моржи да дикие гуси. Ты понимаешь ли, что тут ты должен дать последнюю ставку за жизнь разума на планете Земля? Тут должно быть такое солнце, – показал он обеими руками на стену, на которой рисовалась ему картина, – такое солнце, чтобы жгло зрителей, чтобы зрители, как вошли бы в твой манеж (где же еще можно было бы выставить такую картинищу? – Конечно, только в манеже) – как вошли бы, так сейчас же раскрыли бы свои зонтики, а дамы чтобы начали веерами на себя махать, хотя бы стояла в то время петербургская зима и в манеже было бы как на улице (какой же черт в манежах отопление заводит?..) А пейзаж какой ты мог бы дать, а! Земля во всем своем блеске! Ведь не из-за пучка зеленого лука или редиски бьется человечество с кентаврами! Оно бьется из-за обладания такой красавицей, как Земля!.. Если из-за одной прекрасной Елены десять лет бились греки с троянцами, то Земля-то вся в целом, праматерь всех Елен вообще, во сколько миллионов раз должна быть у тебя на картине прекрасней всех прекрасных Елен вообще? Дай же красоту эту, из-за которой люди с недолюдками бьются! Такой пейзаж дай, чтобы даже петербуржцы ахнули и целый бы день от него глаз отвести не могли! Чтобы так с разинутыми ртами и стояли и ни в пивные, ни в рестораны бы не шли!
Ваня улыбнулся и спросил:
– Что же это за пейзаж такой?
– Найди! – крикнул отец. – Земля велика и обильна пейзажами, – выбор несметный, – ищи и найди! В том-то и задача искусства, чтобы искать, а на готовое, на то, что другими найдено, кто же льстится? Только обиженные талантом, но держащие нос по ветру, – дескать, если я напишу не то, чтобы прекрасную Елену, а хотя бы миловидную швейку, у меня какой-нибудь меценатишка картину эту купит для украшения своего вестибюля или уборной, а кто же купит картинищу с черт знает кем, – с кентаврихами, у которых копыта и хвосты трубой, кому это лестно? И сколько дадут мне за этих кентаврих? (Кентавры же, а тем паче люди кому могут быть интересны?..) Подобные сопляки за подобную тему не возьмутся, конечно, а за-ка-за, заказа ты если ждешь, то какой же ты к черту художник? Ты можешь сказать мне: «Теперь двадцатый век. Теперь и „Страшный суд“ Микеланджело и „Бой с кентаврами“ одинаково никому не нужны, а нужно только то, что узаконено, как последний крик моды…» Хорошо, я допустить готов даже и это… Футбол, например, узаконен? Непременно, притом на большей половине земного шара. Это, дескать, борьба. Тут, дескать, тоже мускулатура и рук, и ног, и даже затылка. А что касается пейзажа, то непременно и пейзаж: в закрытых помещениях заниматься этим спортом неудобно… Ну что ж, – футбол так футбол… Пиши футбол… Пиши, наконец, свою французскую борьбу, как француз Дега писал балерин (хотя сам, впрочем, балериной не был)… Собери на холст побольше атлетов, и чтобы занялись они у тебя каким-нибудь полезным современным делом, – грузили бы, например, на волжской пристани на пароход «Самолет» мешки с мукой или ящики с консервами – по двадцать пудов каждый ящик… Репин писал бурлаков, а ты – грузчиков в какой-нибудь Самаре или в Нижнем… А не хочешь писать наших, – поезжай в Алжир, в Порт-Саид, – пиши чернокожих…
Алексей Фомич замолчал вдруг, раза два прошелся по комнате, потом, остановясь прямо против Вани, сказал:
– Дом запер? А? Тот самый дом, который и отпер-то, то есть купил, – зачем собственно? Дескать, у отца – уединенная мастерская, так вот же и у меня тоже! Хоть и на другой улице, но в городе том же!.. Теперь – приходи, кума, приноси ума! А кума-то… надула, черт ее дери! Вильнула хвостом, – и мимо! Ну что ж… Погорячился, конечно, по младости лет и ошибся. За это я не виню. Мне даже любопытно это было. «Уединился, – думал я, – и отлично! Значит, цену себе нашел…» А цена-то оказалась грошевая… В себя не поверил, себя не нашел, – зачем же, спрашивается, завел свою мастерскую?
Ване стало неловко наконец: он сидел, – отец то все ходил, а то вот стоит перед ним; он поднялся тоже; он должен был ответить не только отцу, но и себе. И он заговорил:
– Я никогда особенно умен не был, и я, конечно, ошибся, это правильно. Но только в чем именно ошибся? Мастерскую себе завел? – Это не так важно, я думаю. Ошибся я не в этом, а в другом… Мне там, в Европе, не то, чтобы после Мессинского землетрясения, а вообще показалось, что не так что-то прочно все на земном шаре, почему я и начал писать свой «Фазанник» и «Жердочку» и тому подобное. А когда я увидел тебя, то, должен признаться, – был поражен: до такой степени, то есть, в тебе самом все оказалось прочно!.. Ты, конечно, нашел, – это и для слепого ясно, – и в то, что ты нашел, в это самое поверил… Я уж тебе говорил это, скажу еще раз: я изумился. И отлично понимаю я, что эта, как бы сказать… Ну, все равно, – прочность твоя от твоей цельности… Ты – как шар, и без трещин… Ну, а вдруг что-нибудь такое, вроде Мессинского землетрясения, только по воле вот этих самых твоих кентавров? Предположим, что они еще водятся на земле… Как ты тогда, а?
– Это что же такое может быть? – спросил Алексей Фомич с большой серьезностью. – А-а, понимаю! И что я тогда буду делать? – Алексей Фомич прошелся еще раз по комнате и сказал очень твердо: – Я думаю, что во всяком случае останусь самим собой… А так как тебе сегодня, то есть уже скоро (он посмотрел на стенные часы), приходится ехать, то все-таки выпей на дорогу чаю.
Ваня просидел у отца недолго, – еще с полчаса, не больше. За это время он выпил всего только четыре стакана чаю и что-то такое съел, – что именно, не заметил.
Отец не спросил его, куда он едет, а он не счел нужным говорить об этом. Простились они, как это у них было принято, без объятий, даже без рукопожатия; зато долго держал в своей огромной руке Ваня небольшую и не очень мягкую руку Марьи Гавриловны, пожелавшей ему раза три от чистого сердца «счастливой дороги».
Ваня просил ее, хотя бы изредка и мимоходом, наведываться, как исполняет свои обязанности оставленный им дворник его дома, и, в случае чего, черкнуть ему об этом два слова. Но куда именно «черкнуть», не сказал, она же в сумятице чувств забыла спросить об этом.
Алексей Фомич сел пить чай только после ухода сына. Наливала стакан ему, как обычно, Марья Гавриловна, стеснявшаяся садиться за стол при Ване.
Однако за первым же стаканом художник задумался до того, что Марья Гавриловна осторожно взяла этот стакан, и он едва это заметил, – все же заметил.
Он спросил:
– Куда же вы его? Я ведь не пил еще.
– Да он уж застыл совсем, Алексей Фомич! Я вам сейчас горячего налью, – проговорила она, улыбаясь, но он сказал, с виду сердито:
– Я именно и хотел, чтобы он остыл! Прошу поставить его на место.
– Что это вы, Алексей Фомич! – удивилась она. – Никогда ведь вы холодного чаю не любили.
– А вот вы, Марья Гавриловна, никогда газеты мне не догадаетесь купить, – повернул совсем на другое он.
– Газету? Да ведь вы же газет читать не любите, Алексей Фомич, – оправдалась она, но он сказал наставительно:
– Газета на газету не приходится… В тридцати подряд, – так бывает, – читать совсем нечего, а в тридцать первой, глядишь, и поместят что-нибудь немаловажное… Вот, например, что такое он мне тут долдонил сейчас, будто в Европе беспокойно? Что-то такое будто бы там собирается, а? Революция, может быть, вроде той, какая у нас в девятьсот пятом была, а я сижу здесь и ничего об этом не знаю… Завтра утром извольте-ка газету какую-нибудь купить, вот что. Прямо, конечно, писать об этом ничего не будут, но могут как-нибудь обиняком, для тех, кто понимать эти обиняки в состоянии… Он мне еще как-то раньше говорил то же самое, только тогда я внимания не обратил…
Повертел в руках остывший стакан и добавил:
– Черт знает что, – терпеть не могу! Вылейте это вон и налейте горячего!
Глава двадцать вторая
Свадьба Макухина
Гремели литавры.
С полным знанием дела какой-то сивоусый старик колотил время от времени бубном о свой кулак.
Страшные звуки издавали две широкогорлых, ярко начищенных медных трубы.
Очень поджарый, коричневый, с тонкими черными висячими усами, похожий на полевого кузнечика, цыган Тахтар Чебинцев пронзительно пиликал на скрипке.
Все это и, кажется, еще что-то, кроме этого, представляло собою оркестр, игравший на свадьбе Федора Макухина.
Отдельно от оркестра выступал гармонист, меланхолического, мечтательного вида, лысый со лба человек, пышно называвший свою двухрядную русскую гармонику итальянским словом «концертино».
Все вообще музыканты были свои местные: они знали гостей Макухина, гости знали их, так как гости эти были только рабочие каменоломни, спасшие его от смерти, рыбаки – Афанасий и Степан Макогон, извозчик Кондрат.
Они принарядились для этого вечера так, как если бы он случился на Рождество, на Пасху, на Троицу. В церкви, во время венчанья, шафером самого Макухина был Рожнов, шафером Натальи Львовны – другой молодой и холостой малый – Аким, один из гребцов баркаса.
Кое с кем из них, – с Афанасием, с Кондратом, с Макогоном, с Севастьяном, с Данилой, – были их жены, разумеется тоже нарядившиеся как только могли.
Извозчики городка думали, что все они будут наняты Макухиным для свадебного «поезда», то есть для катанья по улицам гостей, с песнями, с гармоникой, вообще с большим шумом, и у Макухина действительно появилась было такая мысль, но когда он поделился ею с Натальей Львовной, та пришла в ужас и просила его обойтись без «поезда».
Свадебный пир и без «поезда» вышел достаточно шумным. Вина было выставлено много, – три бочонка (в окрестностях городка делали вина многих сортов в больших винных подвалах, известных на всю Россию); длинный стол был полон всякой всячины, и два повара – один из ресторана «Отрада», другой из гостиницы «Южный берег», – проявляли свое искусство на кухне.
Можно было вполне обойтись и без свадебного генерала, так как отец Натальи Львовны был в своем мундире полковника в отставке и надел ради такого торжества все ордена, какие у него были. Очень представительной показалась всем гостям и слепая жена его, к которой Федор относился с большим почтением, хотя и называл ее «мамашей».
Так как она не выносила махорочного дыма, то махорку курить гостям своим Макухин решительно воспретил, – все получили от него по коробке папирос Феодосийской фабрики Стамболи.
Дня за два до свадьбы Макухин купил Афанасию новый ялик и дал сто рублей; получили от него по сто и гребцы баркаса; а Рожнов – вдвое, так что среди гостей не было недовольных.
Так как Наталье Львовне непременно хотелось видеть у себя на свадьбе Павлика Каплина, то этот гимназист на костыле, заменивший уже другой свой костыль обыкновенной тросточкой из кизила (такие тросточки делали тут очень искусно, и они продавались во всех лавках для курортных), был тоже в числе гостей. Ему непременно хотелось быть шафером невесты, и он уверял, что имеет уж в этом деле большой опыт; однако Макухин предпочел ему своего Акима, чем он счел было себя обиженным, впрочем ненадолго. После того как Федор спасся от смерти, хотя и пролежал пластом неделю, Павлик решил, что он заслужил право быть мужем Натальи Львовны. Он даже сказал ей довольно важно: «Должен признаться вам, что я одобряю ваш выбор», – чем очень ее рассмешил.
Макухину хотелось, чтобы на свадебном пиру его был непременно священник, который его венчал, но тот оказался не совсем здоров, – пришлось обойтись без него, как обошлись без «поезда».
В другое время Наталья Львовна при венчанье в полной народа небольшой здешней церкви чувствовала бы себя, как актриса на сцене в роли, к которой хорошо подготовилась, но после того, что пришлось ей пережить на берегу моря, она была почти робкой, как будто стала моложе на десяток лет.
Она вошла в себя только потом, в доме мужа, сделавшемся теперь и ее домом. Гости же ей положительно нравились, и ради них она решила вытерпеть до конца все, даже оркестр.
Ей принадлежала мысль украсить комнату, в которой был пир, – самую большую в доме, в нижнем этаже, – кадками с олеандрами, цветущими душистыми розовыми и белыми цветами, и лимонными деревьями, на которых висели еще зеленые, но уже крупные плоды.
На столе поставлены были тоже цветы в вазонах, но потом их пришлось снять, так как они занимали слишком много места и очень всем мешали.
Для Павлика, который действительно поправился, как об этом и писал своему отцу в Белев, эта свадьба была гораздо больше, чем развлечение в однообразной жизни.
Вся пленившая его, северянина, красота южного русского моря и Крымских гор как-то неразрывно тесно сплелась в его душе с образом тоскующей красивой молодой Натальи Львовны, и вот Наталья Львовна уже стала женой этого плотного, простого на вид малого, с золотистым крутым затылком, почему-то бритого, в хорошем дорогом костюме, а у гостей его головы всажены прямо в середину плеч, так что шеи отсутствуют, спины сутулые, руки корявые, вместо ботинок – сапоги, которые, как видно, усиленно терли щетками, однако не оттерли как следует; кто в пиджаке из нанки, кто в суконном черном бушлате, а кто и в поддевке. А бабы – в платках и полушалках, спущенных с примасленных лоснящихся голов на плечи.
Одна из этих баб, с плоским, будто калмыцким лицом и небольшими, как черные бусы, глазками (это была жена Данилы), удивила его тем, что, припав коротким носом к ветке олеандра, истово восхитилась:
– Ах, пах какой от этих цветов, – ужас!
Все время переводил глаза Павлик с Натальи Львовны на ее гостей и потом снова на нее, стараясь подметить на ее лице недоумение или даже растерянность, но лицо ее было неизменно приветливым, даже как будто лучилось.
Убедясь, что это ему не кажется только, а есть на самом деле, Павлик проникся, наконец, и сам ее внутренней радостью и вот тогда-то сказал ей на ухо, что вполне одобряет ее выбор. Для него самого смысл сказанного им был шире, чем могла понять его Наталья Львовна: не только выбор мужа, но даже и выбор этих гостей.
Ему и в самом деле приятно было наблюдать, как гости деловито щелкали пальцами по бочонкам вина и довольно крякали, убеждаясь, что бочонки полны. Он, потирая руки и весело подмигивая полковнику, приготовлялся наблюдать, как будут опустошать эти три бочонка.
– Вот-то начнется битва русских с кабардинцами! – вполголоса, но очень выразительно сказал он полковнику, кивая сначала на гостей Макухина, потом на эти бочонки.
Лубочная книжонка под таким заглавием попалась ему как-то в детстве и поразила его тем, что в ней не было ни русских, ни кабардинцев, ни битвы, а действие происходило в каком-то баронском замке, совершенно неизвестно, где именно.
Полковник, который после свадьбы Ивана довольно часто встречался с Павликом и привык к нему, отечески ласково похлопал его по спине. Павлик видел, что он, – в мундире и с орденами, – чувствовал себя тут, у зятя, среди поддевок, бушлатов и ситцевых платков, не особенно ловко, и внутренне ликовал, и ему все хотелось подшутить над ним. Однако подшучивать пока не представлялось возможности, тем более что очень тесно к своему мужу держалась слепая, которая, конечно, тоже и в еще большей степени, чем полковник при орденах, должна была хоть сколько-нибудь освоиться с этим новым для нее положением: она ведь только слышала, какими хриплыми голосами говорили гости, как они густо кашляли и как стучали их тяжелые сапоги.
Против своего обыкновения, она не вступала в общий разговор просто потому, что он был ей совсем не интересен. Перед ней поставили пиво, так как этот напиток она предпочитала вину и, в какие бы обстоятельства ни попадала, оставалась верна своим привычкам.
Пока не сели за стол, гости и особенно гостьи, видимо, чувствовали себя довольно стеснительно, но, усевшись, – а рассаживал их сам Макухин, – как-то сразу потеряли всю неловкость.
Павлик объяснил это самому себе тем, что за столом им уже было вполне понятно, что надо делать.
Налили кто стаканчики, кто рюмки, – выпили за молодых. Потом стали закусывать чинно, споро, неторопливо, стараясь не очень звякать ножами и вилками о тарелки.
Женщинам, из которых каждая, конечно, считала себя мастерицей по части выпечки пирогов, очень понравился пирог, изделие повара из «Отрады»; мужчинам – заливное из осетрины и майонез, работа повара из гостиницы «Южный берег».
Так как слепая была большой любительницей ветчины, то для нее, а заодно уж, конечно, и для полковника, была добыта во всех отношениях прекрасная ветчина и поставлена перед ней на блюде, красоты которого, к сожалению, ей не дано было оценить.
Когда налито было по второй, Афанасий на весь стол рявкнул: «Горько!» – и все сочли необходимым подхватить это на разные голоса, особенно пронзительные у баб, а музыканты, в это время что-то игравшие, сделали такое фортиссимо, что Наталья Львовна сначала непроизвольно заткнула уши, потом бросила руки на плечи мужа и прильнула губами к его бритым губам.
Это «горько!» однообразно повторялось еще несколько раз, причем теперь уже не Афанасий, а другие старались не упустить момента и покричать.
Потом пили «за мамашу» и «за папашу» молодой, и оба они поднимались при этом и кланялись на обе стороны, как артисты, которых вызывает публика, очарованная их высоким искусством.
Не больше чем через час после начала пира стало уже так бестолково шумно, что Павлику показалось – вот-вот подымется дым коромыслом, как на свадьбе Ивана с дачи Шмидта.
Сидевший рядом с ним полковник заметно для Павлика старался до конца выдержать характер и не прикасаться к спиртному вплотную, а только чокаться с ближайшими соседями и слегка пробовать, что такое ему налили. Однако Павлик, видевший, как он разошелся на свадьбе Ивана, не переставал ожидать, что он разойдется еще и тут, у своего зятя.
Но вот этот зять, которого тоже наблюдал по-молодому зорко Павлик, встал с места с каким-то очень серьезным и даже будто торжественным лицом.
Он провел рукой по верхней губе вправо и влево, явно для Павлика забыв, что сбрил усы, кашлянул в эту руку, поглядел на Рожнова.
Рожнов прикрикнул на сидевшего против него Степана, затянувшего было блаженным голосом: «По морям, морям, морям, нынче здесь, а завтра там», а потом и другие попритихли, когда Павлик закричал на весь стол:
– Тост! Тост! Слушайте тост!
И Федор Макухин действительно начал говорить, к тревоге Натальи Львовны, не уверенной, умеет ли ее муж с должным красноречием произносить тосты:
– Когда мы, братцы, мокрые, хоть нас выжми, под баркасом от ветра прятались, сказал тогда Афанасий, что хочу я обзаведение свое в Куру-Узени продать, а вы тогда в ужас впали, будто на вас прямо лев какой из клетки выскочил, в кусочки вас изорвать должен… Лев не лев, а конечно – какой, между прочим, денег у нас тут нажил… Почему же такое? Умен, что ли, очень? – Нет, только и всего, что от других греков своим ему у нас была, конечно, поддержка… Вот я и подумал тогда, под баркасом: ребята испугались, что другому продам, а он их может, конечно, по шапке, а своих тут насажать, потому что – они каменщики природные… Эх, думаю, сижу, а с чего же я-то сам начинал? Что у меня, наследство, что ли, было получено? Ниче-го, ни копейки, а только доверие ко мне было, как наш хозяин-армянин запутался и от нас сбежал, а нас, рабочих-каменотесов, было у него человек двадцать… Сложились, кто сколько, – на тебе, Федор, заправляй всей нашей артелью!.. Ну, хорошо… Давно дело было, – вот на ноги стал. Так вот, стало быть, сижу под баркасом, думаю: мне выходит линия в другом городе жить, другим делом заниматься, а неужто ж Рожнов, как он все равно тут за старшего, вести это дело каменное тут не может? Деньги на первый обиход у них будут, да вот баркас этот, мой спаситель, им пускай останется, сети у них есть, чтобы рыбу ловить, когда – весной да осенью – ход ее бывает, – Афанасия да вот Степана еще могут к себе в компанию взять по рыбальству, – разживутся, так и домишки себе могут поставить… А захотят шире еще дело свое повести, охотников войти к ним в компанию всегда найдут. Вот так сижу под баркасом, думаю, а у самого зуб на зуб не попадет никак от холода, и спичек нет, чтобы костер развесть, обсушиться… Так как, Рожнов, может такое дело у тебя выйти или нет?
Пока Федор говорил, что он такое думал, прислонясь к баркасу, его слушали, мало понимая, к чему он клонит, но когда он обратился прямо к Рожнову, то половина хмеля соскочила с многих голов. Павлик же, посмотрев сперва на полковника, потом, из-за его спины, на Наталью Львовну, вдруг яростно изо всех сил захлопал в ладоши.
Известно, что стоит только начать хлопать, а за поддержкой дело не станет, – и вот, все ли поняли Федора наконец, или все еще нет, но хлопать начали все, даже и музыканты и меланхолический гармонист, и литаврист вдруг ударил в свои литавры, а старик подставил свой опытный кулак под бубен, трубачи взялись за трубы, а Тахтар Чебинцев за скрипку… Раздалось нечто вроде туша, до того громогласного, что Рожнову, поднявшемуся, чтобы ответить Федору, пришлось пережидать стоя, когда утихомирится оркестр.
Он стоял, сдвинув свои сросшиеся у переносья брови, и Павлик, с большим любопытством следя за его лицом, стремился угадать, что он скажет. Федор ждал не садясь, и Рожнов начал:
– Федор Петрович, это вы меня испытываете, или как? Потому что, если испытываете, то ведь наобещать двадцать коробов можно, а если, скажем, по-сурьезному…
– По самому сурьезному, – перебил его Федор.
Рожнов оглянулся на своих, точно ожидая поддержки, но был он, хотя и молодой, вполне обстоятельный и ни малейших неясностей не любил, поэтому спросил Макухина:
– Значит, Федор Петрович, там у вас только думка была, а теперь вы же как именно: нас там на своем или чтобы на нашем хозяйстве хотите оставить?
Павлик хотя сам и правильно понял Макухина, но вопрос Рожнова тоже счел правильным: дело это требовало, по его мнению, полной ясности, и ему нравился обстоятельный Рожнов не меньше, чем оказавшийся таким щедрым Макухин.
Федор, пока говорил свою длинную и путаную речь, избегал глядеть на жену, теперь же, когда понадобилось отвечать Рожнову коротко и точно, поглядел и увидел, что Наталья Львовна улыбалась, – значит, не только не была против, но ей как будто нравилось это неожиданное для нее самой решение мужа.
И он сказал Рожнову:
– Если ты в состоянии дело там сам вести, то и начинай с богом, и хозяином там, значит, буду уж тогда не я, а вся ваша артель; а если не в состоянии, то так мне вот тут и скажи, потому что мне тогда придется подумать.
Рожнов, только теперь окончательно поверивший в точный смысл сказанного Макухиным, повернулся к своим и крикнул:
– Что же вы, ребята, сидите, как все равно зюзи какие? Что это вас, что ли, не касается, а только меня одного?
Павлику подумалось тут же, что на его месте и он точно так же бы крикнул. Однако поднялся Данила, человек лет сорока, дюжий, с бурыми густыми усами (подбородок он выбрил в этот день в парикмахерской), протянул к Рожнову руку и сказал:
– Ты-ы не кричи очень! Ты-ы потише!.. Не хуже твово понимаем, что работать мы теперь можем скрозь, – как на сухом берегу, так, значит, и само собой в море – с сетями, с баркасом… Работать вполне можем, а с кого получать за работу? С тебя?
Выставил вперед кудлатую голову, вытаращил красные от водки глаза и ждал ответа.
– Со всей нашей артели, а не с меня! Я только вроде бы опять за старшего назначаюсь, если, конечно, оставите… – объяснил ему Рожнов, но тут же обратился к Макухину: – Так, Федор Петрович, или я не понял?
– Именно так само, а как же еще? – удивился Макухин.
Но тут в помощь Даниле поднялся и Севастьян, пригладил волосы, чтобы не лезли в глаза, и сказал не Рожнову, а прямо Макухину:
– Премного благодарим, Федор Петрович, а только… не выйдет!
– Так, значит, чужому продать? – слегка повысив голос, однако без заметного для Павлика раздражения спросил Макухин, на что Севастьян тут же ответил:
– Мы вами очень довольные, Федор Петрович, и пускай себе, как оно допрежь было, так чтобы и было, в том же порядке.
– Истинно! – подтвердил Данила. – Как сами начнем хозяйствовать, нам лучше не будет, а только хуже!
– Ну, что ты будешь делать с таким народом! – удивился Рожнов и хлопнул себя, насколько позволила скученность за столом, обеими руками по бедрам.
– Ничего, после разберутся, – успокоил его Макухин и кивнул гармонисту: – А ну, дерни что-нибудь повеселее!
Гармонист уперся подбородком в свой инструмент, подумал, перебрал лады и очень решительно заиграл вальс «Дунайские волны».
Танцевать никто из гостей не умел, или пока еще не разошлись настолько, чтобы затанцевать. Даже и не слушали гармониста. Поднялся спор за столом, потому что Афанасий кричал:
– Как это, чтобы они рыбалили? Какие из них к черту рыбаки? Только рыбу от берегов отпугивать!.. Рыбак должен быть специальный, а не такой!
Но из ломщиков камня нашелся один, пожилой уже, чернобородый, – Филат Бегунков, сидевший как раз против Афанасия. Голос у него оказался тоже громкий и с хрипотой. Он был задет Афанасием за живое.
– А я вот и есть рыбак специальный, – с Волги! – отстаивал себя он. – Мы с братанами тем же манером воблу ловили и до дела ее, эту рыбу, доводить могли, а также леща тоже!
– То Волга, а то море, – сравнял один такой! – кричал Афанасий.
– В полую воду не шути Волгой, – никакому морю не уступит, – защищал свою реку Филат, – только что вода в ней тогда желтая от глины!
Услышав про глину, Макухин вспомнил вдруг, что ничего не сказал об известковой печи, и опять встал.
– Ведь вот же память отшибло, братцы! Ведь в том же конце, возле Куру-Узени, известку выжигают! Правда, версты две от моря считается, так зато же там пара лошадей на дроги. Тамошних ребят возьмите к себе в артель; каменных домов там себе понаставите – из своего камня, на своей известке, – черепицей покроете, – без страховки тогда проживете… Чтобы земля рядом с татарской деревней такая бы русская, наша загремела, – приходи любоваться!
– Покорно благодарим, Федор Петрович! – поднявшись, сказал Рожнов и поклонился, но жена Данилы подняла вдруг голос:
– На что же там дома каменные громоздить, когда там ни картошки посадить негде, ни капуста не родится?
А жена Севастьяна добавила:
– Да и корову там если завесть, – паши для ней нету: только камень везде да держи-дерево промеж! Что там корове взять? Ни на что изведется! Ни молока от нее, ни мяса!
Павлик увидел, что Макухин нахмурился и сел на свое место, как садятся ученики в классе, невпопад ответившие на вопрос учителя. Даже и Рожнов счел нужным найти какой-нибудь выход из неловкости для своего хозяина.
– Это они потому так, Федор Петрович, что мне не верят, – сказал он. – А спросите их, себе-то они верят ли? Ни за что один другому не поверит! А уж бабы наши, – от них только и слышишь: «Вот Дунька не даст мне соврать!.. Вот Машка не даст мне соврать!..» А как Дуньки-Машки случаем около не будет, наврут столько, что и на баркасе не увезешь! Да они и себе-то самим, ну, может, от силы, один раз в год поверят, да и то навряд. Как же они мне вдруг, после вас, Федор Петрович, верить станут? Все им будет думаться, что я не иначе как жульничаю, – в свою пользу норовлю, а не в ихнюю.
– Ну, пускай вместо тебя другого кого выберут, – сказал Макухин, но Рожнов только усмехнулся:
– Другого!.. Я же сказал ведь: и себе-то не верят, а не то что кому другому. Не выйдет это, Федор Петрович!
– А как же артели разные: плотников, штукатуров, – строителей вообще всяких, – по всей России ходят на заработки, и ничего ведь, – у них выходит, – не хотел сдаваться Макухин.
– Артели эти, – когда им по субботам деньги хозяева, где они работают, выдают, – все до одного человека бывают, во все глаза глядят и всеми ушами слушают, – ввязался в разговор Степан Макогон, а Рожнов только добавил:
– А бывает и так, что даже и харчи им хозяйские идут: тогда уж совсем счет простой, сколько кому приходится. Это им на работе скажут. Деньги и бабы на базаре считать умеют, хотя и грамоте не учились.
Макухин покрутил головой и сказал Рожнову:
– В таком случае, как домой к себе приедешь, – там, на месте, виднее будет, – обсудишь со всеми, а после поговорим.
И принялся усердно наливать в рюмки водку своим соседям.
Когда садились за стол, был еще день, притом день солнечный, светлый. Однако досидели до сумерек, а в сумерках и за общим шумом не заметили, как появился у Макухиных еще один гость, совсем не званый, вообще неожиданный, так как его считали хорошо устроенным в другом городе, и о нем вполне извинительно забыли. Этот гость был Алексей Иваныч Дивеев, которому не только посоветовал ехать сюда Ваня Сыромолотов, но еще и купил место в легковой машине, уверенный в том, что в дальнейшем он, авось, не пропадет.
Для очистки совести раза два он все-таки спросил этого весьма рассеянного архитектора, найдет ли он дом, в котором жил, и нужных ему людей, – Наталью Львовну, Макухина, – и Алексей Иваныч убедил его, что непременно найдет, – как же иначе, – что он не совсем же лишился рассудка.
И он действительно не только поднялся с берега на Перевал и пришел прямо на дачу Алимовой, но и узнал там, что в доме Макухина на свадьбе теперь и полковник Добычин, и его слепая жена, и Павлик Каплин.
Где именно дом Макухина, он тоже припомнил и вошел в него бодро, но, войдя, довольно долго стоял в дверях, удивленный и обилием гостей и их видом. Пожалуй, он даже ушел бы, если бы его не заметил сам Макухин и не вытащил на середину своего зала.
– Ну, прямо он мне теперь хуже татарина, этот Алексей Иваныч! – шутил Макухин, подводя нового гостя прямо к Наталье Львовне.
– А-а, Алексей Иваныч! – обрадовалась она и чмокнула его в лысый лоб, когда припал он к ее руке.
Однако и слепая обрадовалась тоже, услышав об его приходе.
– Вот так разодолжи-ил! – протянула она, улыбаясь и повернув в его сторону свое круглое, без морщин лицо, с седыми, редкими уже волосами, свисавшими на плоские уши.
И полковник не то чтобы счел своим долгом изобразить веселость, а по-настоящему, – как это наблюдал Павлик, – сердечно обнял Алексея Иваныча и облобызался с ним троекратно, точно христосуясь.
К удивлению своему, и сам Павлик почувствовал какую-то размягченность чувств при виде того, о ком помнил только последнее, сказанное полковником: «Удрал штуку!.. Стрелял все-таки в своего этого… и убил его… или, может быть, ранил… убил или ранил, а теперь сидит!..»
Он не успел справиться об Алексее Иваныче у Натальи Львовны и оставался при том, что услышал тогда, на свадьбе Ивана, от полковника. И вдруг оказалось, что вот он – Алексей Иваныч, – нигде не сидит, а здесь с ними, как ни в чем не бывало! Имел, правда, растерянный вид, когда чуть ли не тащил его, взяв под руку, Макухин, а теперь глядит по-прежнему и даже пытается улыбнуться.
И Павлик не мог удержаться, чтобы не обнять Алексея Иваныча одною рукой (другой он, встав, опирался на палку).
Сейчас же нашлось для нового гостя место за столом, который перед тем казался непроницаемым: сам Макухин поставил ему стул как раз рядом с Павликом, а другие, влево от него, всего только немного отодвинули свои стулья, и вот перед Алексеем Иванычем оказалась уже тарелка с чем-то отбивным, имевшим для него, проголодавшегося за день, несомненный смысл.
– Постойте-ка, Алексей Иваныч, а как же это вы очутились тут? – спросила его Наталья Львовна, приставив для этого ко рту руку, так как не надеялась, что он расслышит ее за общим шумом.
Невольно подражая ей, то есть тоже отгородившись ладонью, Алексей Иваныч сказал коротко и четко:
– Пансион прикрыла полиция.
– Вот как! По-ли-ци-я!
О частностях этого дела она уже не спрашивала: слова «полиция» было для нее довольно. Сама же она, передав Федору насчет закрытия пансиона, добавила:
– Ничего, пусть живет тут. Ему же будет, мне кажется, лучше, а то ведь возле него были совсем чужие люди, – поди-ка привыкай к ним… Я думаю, он нам мешать не будет, а?
Макухин же отозвался на это:
– А если ему работу какую-нибудь дать, то лучше всяких пансионов ему это помочь может.
– Ну, какую же ему работу дать можно! – усомнилась Наталья Львовна, однако Макухина точно осенило:
– Ведь он – архитектор, что ты! Пусть строит!.. Эх, если бы я архитектором был, сколько бы красивых домов я понастроил!
Наталья Львовна приложила руку к его лбу и сказала ему на ухо, но серьезно:
– Ты не пей, Федя, больше, – тебе вредно.
А в это время Павлик чокался с Алексеем Иванычем, налив ему стаканчик портвейна.
Алексей Иваныч боялся, что Павлик начнет его спрашивать о чем-нибудь, что ему самому неприятно уж было вспоминать, но тот ни о чем не спрашивал, только угощал его, точно сам был хозяином в этом доме, и расхваливал то вино, то пирог, то майонез, то отбивные котлеты.
Между делом он сказал ему:
– Надеюсь, вы опять поселитесь на нашей горке, Алексей Иваныч? Это было бы очень хорошо.
– Неужели?.. Что же в этом хорошего? – так же между делом, усердно занятый едой, спросил Алексей Иваныч.
– С вами мне лично всегда было интересно говорить, – признался Павлик, на что отозвался Алексей Иваныч с виду рассеянно:
– Вот как? Интересно? А я этого и предположить не мог.
Полковник сказал ему из-за спины Павлика:
– А шоссе-то ваше, как вы уехали, пришло в упадок: никаких работ там больше не ведут.
– Ах, это на берегу которое? Вот как, – не ведут? – удивился Алексей Иваныч. – Скажите, пожалуйста! А почему же так?
– Не ведут, нет, – я там недавно был и никаких рабочих не видел, – подтвердил полковник. – А почему именно, – не имею понятия.
– Да ведь там же этот, как его… староста здешний, – Иван Гаврилыч, – припомнил Алексей Иваныч.
– Никого нет, и никакого старосты я не видел.
– Староста тут, ведь он – жулик, – вступила в разговор слепая.
– Это не наше дело, – попытался отстранить ее полковник, но она обрадовалась случаю поговорить, – ведь долго молчала.
– Как же так не наше? Вполне наше, раз мы тут живем уже столько времени… А что жулик, так что же тут такого? Он на то и староста, чтобы был жулик.
Другие за столом или очень мало обратили внимания на поздно пришедшего гостя, или совсем не заметили его прихода, занятые спорами об артели каменоломщиков, – может она существовать без хозяина или нет.
Музыканты тоже не хотели быть только посторонними зрителями на свадебном пире: они тоже проявляли деятельность, вдруг ударяя во все литавры и бубны, рокоча трубами и взвизгивая скрипкой. А утомясь, они подкреплялись за своим небольшим, стоявшим в стороне столом.
Особенно усердствовал в этом гармонист, который, наконец, потерял весь свой меланхолический облик и глядел мутными набрякшими глазами почти свирепо, точно собираясь с силами начать скандал, а не вальс и не польку.
Почувствовав этот остановившийся на себе свирепый взгляд гармониста, Алексей Иваныч спросил Павлика:
– Это кто же такие гуляют на свадьбе?
– Удивиться вполне можно, – ответил Павлик, – но это все спасатели Макухина.
Конечно, Алексей Иваныч не понял его и переспросил, и Павлику пришлось рассказать вкратце, как мог в море проститься с жизнью Федор Макухин, так же, как простился с жизнью его брат Макар, если бы не выхватили его из моря его же рабочие.
Это изумило Алексея Иваныча.
– Макар?.. Макара я вспоминаю… Макара я помню, как же, – отлично помню… Так он погиб, вы говорите? Вот уж никак нельзя было ожидать!
Он сидел взволнованный. Он даже перестал есть, а только глядел на Макухина, точно стараясь найти на его плотном, бритом теперь лице признаки прирожденной удачи во всех житейских делах.
И вдруг стремительно вскочил он. Хотел было выйти из-за стола, чтобы подойти к Макухину, но стулья стояли плотно, а за его стулом оказался какой-то шкафчик, в свою очередь прислоненный к стене… Нельзя было выйти, и он громко заговорил, обращаясь к Макухину:
– Федор Петрович! Что я тут услышал! Будто ты был на волосок от смерти и тебя спасли вот они! – Он кивнул неопределенно на весь стол. – Ты – счастливый человек, Федор Петрович! От души тебя поздравляю! И Наталью Петровну, Наталью Петровну тоже! Это очень редкостно, чтобы так везло в жизни!.. Я себя лично… я о себе лично два слова, если позволите… Я не то чтобы завидую вам обоим, а только мало что понимаю… Просто, ничего в общем не понимаю, – почему же мне никак и никогда не… как это называется, – забыл… (он пощелкал пальцами) не было удачи, что ли?.. Ведь я – архитектор, – вдруг обратился он ко всему столу, – ведь я вырос на проектах и сметах, на проектах и сметах, – отчего же я ни одного порядочного здания не построил и даже своей личной жизни тоже? Проекты и сметы, ведь это – моя область, а что касается самого себя, ничего спроектировать никогда не мог, ничего вычислить не мог, – почему это? Чего мне недоставало?.. И в результате я вот на чужой свадьбе!.. У меня конец, у вас, – обратился он снова к Макухину и Наталье Львовне, – только начало, и я хотел бы, чтобы ты, Федор Петрович, и вы, Наталья Петровна…
– Львовна! – громко подсказал ему Павлик, а полковник, Лев Анисимович, поглядел на него явно неодобрительно, и это его смутило.
В довершение всего гармонист, все время свирепо на него глядевший, развернул свое «концертино» и перебрал лады, а старик с бубном раза три сряду ударил бубном о свой кулак.
Павлик потянул Алексея Иваныча за рукав книзу, и он сел, умолкнув, и сосредоточенно начал глядеть в свою тарелку. А на узенькое, но все же свободное место между общим столом и столом музыкантов выскочили, перемигнувшись, молодой малый Аким, который держал в церкви венец над Натальей Львовной, и тоже не старая еще жена Севастьяна, – оба раскрасневшиеся от вина, оба с платочками в руках; и музыканты грянули казачка.
Зажгли лампу-молнию, и от этого, после сумерек, очень многим, должно быть, стало казаться, что в свадебном пиру начинается вторая, гораздо более веселая часть.
Есть действительно в искусственном свете, изобретенном человеком, какой-то вызов дневному свету: ведь он во всяком случае для всех очевидная победа над ночной темнотой, действующей весьма угнетающе.
Все воспрянули духом: те, кто способны были пить до полусмерти, нашли, что они еще только начали входить во вкус попойки; те, кто плясали, увидели, что они еще не отбили каблуков; те, кто горланили песни, – что они еще далеко не охрипли, а те, кто умели, щелкая по бочонкам, определять, сколько в них осталось вина, решили, что вина осталось еще гораздо больше, чем было выпито… Даже с музыкантов при ярком свете лампы слетели сонливость и усталость, и у гармониста снова появился меланхолический вид.
А ночь выдалась темная, так что нечего было и думать, чтобы можно было не только дойти к себе Павлику и полковнику с его слепой женой, но даже и довезти их по очень плохой дороге в гору. Их, а также Алексея Иваныча уложили спать в комнатах на верхнем этаже, когда было около одиннадцати часов. Тогда же ушли домой и музыканты.
Ровно до двенадцати досидели молодые, потом тоже ушли наверх, а гости еще сидели, пока хватило керосина в лампе. Они улеглись на полу, где нашли для себя удобнее и куда донесли их ноги.
Каменотесам из Куру-Узени, конечно, некуда было идти; что же касалось рыбаков Афанасия и Степана и извозчика Кондрата с их женами, то хотя они и были здешние, но не могли уж понадеяться на себя, что дошли бы к себе благополучно.
А за окнами хлебосольного макухинского дома, – слышно было даже и пьяным, – ревело море. Начавшийся еще днем прибой разъярился ночью, и огромнейшие волны бешено-упрямо шли в атаку на сонный город.
1923, 1944 гг.
Преображение человека*
Часть I
«Наклонная Елена»
Молодой горный инженер Матийцев, заведующий шахтой «Наклонная Елена», решил застрелиться в воскресенье, 6 мая, в 11 часов вечера, и рано утром в субботу, подымаясь привычно по гудку, он старался как можно тверже прочертить в сознании последовательность того, что нужно сегодня сделать… Прежде всего, непременно обойти шахту – это для того, чтобы в последний раз оглядеть спокойно то, что горячо проклято и от чего, наконец, уходишь совсем.
Этого можно было не делать вчера, но сегодня необходимо нужно. Обход кончить полагал он раньше, чем всегда, наряд рабочих на завтрашний день поручить штейгеру Автоному Иванычу, затем с вечерним поездом поехать в Ростов, чтобы в воскресенье утром отослать почтой восемьсот рублей, сбереженные от годового жалованья, матери в Петербург.
Почему именно деньги эти нужно было отправить там, в Ростове, а не здесь, в поселке Голопеевке, верстах в двух от рудника, – это было не совсем ясно для него самого; просто здесь были знающие его почтовые чиновники, деньги же отправлялись не кому-нибудь постороннему, а матери, и не захотелось, чтобы случайно или намеренно прочитали текст перевода, хотя он ничего о себе не писал: думал послать отдельное письмо матери и отдельное сестре Вере, учительнице.
Из сна он выбился уже недели две, и во время этих кошмарных, жутких ночей, когда безостановочно все ходилось по комнатам, он все уже решил, подвел итоги всему и теперь похож был на отъезжающего, уложившего в чемоданы решительно все, до последнего куска мыла.
Домашние мысли в дорогу не годятся – и появились в нем уже те, другие мысли; начинало уже охватывать кольцо потусторонности, когда все кругом, все еще вчерашние интересы и тревоги вызывали только снисходительную улыбку мудрых или сошедших с ума.
Известно, что люди умирают, как живут. Люди горячие, полнокровные иногда за день до смерти не знают еще, что убьют себя: зреют и решаются сразу, как горячий купальщик, – еле скинув рубаху, уже бросился в воду быком. Люди холодные долго сидят на берегу Леты, мочат голову и грудь, поглаживают бедра, пробуют воду ногой; зато это именно они отталкивают спасательные круги, не хотят принимать противоядий и срывают повязки со свежих ран.
Матийцев не был ни холоден, ни горяч – он был только очень молод и одинок – просто не успела еще обмозолиться душа. Это был худощавый блондин лет двадцати четырех, с высокой головой и несколько близко к носу посаженными, несколько близорукими глазами, отчего у всего лица был немного наивный, прислушивающийся вид. О нем говорили, что ему повезло получить шахту прямо со школьной скамьи, но в «Наклонной Елене» последнее лето он работал студентом-практикантом и знал ее, а тут случилось, что заведующий этой шахтой перевелся на Кавказ на марганец и главный инженер Безотчетов взял Матийцева на свою ответственность: он ему нравился, как серьезный работник; он приходил на работу в шесть утра вместе с шахтерами и уходил на дневную поверхность только к обеду, а там машинное отделение, сортировочная, мастерские – хозяйство большое, сложное, и везде нужен свой глаз.
Было две «Елены» этой же бельгийской компании: «Вертикальная», как более старая, была оборудована лучше, а в «Наклонной», существующей всего пятый год, вводить новшества считали пока лишним. Двухаршинный пласт угля шел в ней с перерывами: доходил до каменного перевала и задавал инженерам задачу, продолжается ли он за перевалом. Бурили перевал, взрывали динамитом, находили за ним угольный пласт, который разбухал потом до двух аршин снова, и опять рылись в нем шахтеры: крепили своды сосновыми балками, прокладывали рельсы, отводили воду в канавки (шахта была сильно мокрая), и к прежней запутанной сети штреков прибавлялся новый с боковыми печами. За недолгие годы пробуравили этих штреков и квершлагов на тысячи сажен. Иногда штреки соединялись совсем низенькими узенькими дырами, по которым можно было пробираться только «вплавь», ползком. Это было трудно и как-то мерзко, обидно для человека.
По узким штрекам гулко мчались лошади и бензиновозы с вагонами, потом по бремсбергам вагоны подымались наверх, и здесь чумазый мальчишка на черной доске мелом озабоченно вел им счет. Если уголь попадался с породой, то в сортировочной, на движущихся сетках, целый полк столь же чумазых девчонок-глейщиц, – которых шахтеры безулыбочно называли барышнями, – ловко отбирал глей, а чистый уголь по деревянным эстакадам проворно катился и опрокидывался в угольные ямы. Им отчасти питались соседи – химический и металлургический заводы, но, конечно, несравненно большая часть его отправлялась по подъездной ветке на станцию.
Среди ветхозаветных полей степных дюжина дюжих горластых труб, сложные формы надшахтных зданий, заводы, красное, очень тревожное и днем пламя коксовых печей, и все это в густом, зловещем по окраске дыму было так неожиданно для того, кто видел это впервые.
На заводы с рудника уголь безостановочно плыл в вагончиках по воздушной электрической дороге прямо над посевами пшеницы, и никакого соответствия не было между этой пшеницей, первобытным образом посеянной руками здешних крестьян, и вагончиками вверху; и человек с игривой фантазией мог бы, подъезжая к Голопеевке, вообразить, что здесь поставлен хитроумнейший капкан для уловления земного нутра, и нутро земное уж здорово защемлено и от боли, а главное, от конфуза зверем ревет через высоченные трубы.
На заводах и в шахтах кругом было тысяч семь рабочих, и это они год за годом заселяли поселок Голопеевку. Сначала долго ходили осматривать и всячески измерять отдающийся в аренду участок, потом решительно устанавливали угловые столбы дома, натягивая крышу, нанимали баб смазывать кое из чего сбитые стены глиной с навозом, а месяца через два справляли уж новоселье и звонко переругивались с соседями из-за цыплят, поросенка, котенка, собаки, помоев, ребят, бабьих сплетен. Так вырастали улицы, очень широкие, степные, а на главной десятка два предприимчивых армян устроили бакалейные магазины, фруктовые лавки, винные погреба, на одном углу появилась прекрасная вывеска: «Бараночное и крендельное заведение Восход Ивана Пискунова»; на другом – «Готовое платье Перешивайлова», потом акушерка Бабкина, сапожник Кислый, портной Желтобрюх, а кто не очень дорожил своим здоровьем, мог достать здесь даже колбасы «собственной заготовки Мокроусова из Козлова». Ближе к заводам и кладбищу разбит был чахлый общественный сад с деревянным собранием и открытой сценой, на которой подвизались иногда весьма захудалые людишки актерского звания, или шансонетки, или борцы, или труппа ученых слонов, или какой-то «заезжий шут Капуцинов» оповещал о своем прибытии сюда красной огромной афишей: «Прохожий, если даже ты с дамой, остановись перед сею рекламой!..» Какой-то Кебабчиев устроил в Голопеевке Hotel Hermitage и о том, что при этом отеле имеется «роскошная ванная комната», оповестил все станции в окружности верст на двести: до того хотел обрадовать как можно больше народу. А ванная, действительно, весьма не мешала в Голопеевке, так как вечно дул ветер над степью и летом вздымал тучи черной пыли по дорогам, а в самом поселке стояла густая гарь и копоть из труб. Реки здесь не было, а пруд, устроенный в балочке заводами, ими же и загрязнялся до того, что даже привычные шахтеры, приходившие сюда иногда погулять и постирать на свободе портянки, и те долго крутили носами, выбирая местечко посвежей.
Инженеры завели при летнем саду свои комнаты, в которых скучно играли в преферанс и на бильярде. Большей частью все это был холостой народ, а по духовным качествам – деловой, оборотистый, скупой, малоразвитой и грубоватый. Когда ездили куда-нибудь по железной дороге, привозили с собой иногда пачку пестрых юмористических журнальчиков – этого и хватало на месяцы; газет почти не читали, и крупные новости, волновавшие города, узнавали иногда долго спустя, когда уж новостями их никак нельзя было назвать; имели обветренные лица, чумазые руки, ходили в высоких сапогах и манерами, и голосом, и привычкой очень долго, очень крепко и очень продолжительно ругаться напоминали армейцев.
Молодость – переходное, мечтательное, мягкое, странное время жизни – у Матийцева затянулась несколько дольше, чем полагается инженеру, и от этого трудно было ему: она была здесь совсем не к лицу, в «Наклонной Елене».
Когда раньше приезжал сюда на практику Матийцев, он смотрел на это, как на необходимую студенческую работу, но жить здесь годы – это как-то не представлялось ему ясно. Власть над пятьюстами шахтерами – это бремя так легко как будто нес его предшественник, но для него, деликатного от природы, оказалось оно чересчур трудным. Он старался придать своему лицу как можно более внушительный вид: насупливал брови, нарочно запустил клочковатую бородку, говорил горлом, чтобы выходило гуще, часто повторял: «Понял? Слышишь?.. Ну вот…» и десятникам, пожилым, почтенным людям, говорил «ты». Иногда покрикивал на возражавших: «Молчать! Ни слова!», но при этом голос у него звучал резко, неприятно, по-бабьи, и за этот голос, должно быть, как школьники, меткие на прозвища, шахтеры прозвали его «свекрухой», а за вечное ныряние по шахте – бурундуком (землеройкой).
Летом с ними было труднее, чем зимой; летом уходили домой на поля казанские татары, нижегородцы, тамбовцы, пензенцы и здешние украинцы, а оставались или приходили шатуны, всегубернские вольные бродяги, которые работали только до первополучки, потом уходили. Между шатунами попадались потомственные дворяне, сыновья генералов, был один граф и еще один неизвестный под именем «итальянского короля»: действительно, сказочно был похож на Виктора-Эммануила, хорошо говорил на трех языках, а кто он был раньше, как получил подложный паспорт на имя безграмотного крестьянина Севастьянова, трудно было узнать. В праздники после получки шахтеры представляли пьяную буйную орду, с вечными драками, увечьями, даже убийствами, и на здешнем кладбище маляру Дряпачеву часто приходилось вырисовывать такие надписи: «Под сим крестом покоетсR прах Семена Белошапкена. Убит невинно рукой злодеR 29 ииунR» («я» он писал как R).
Или так:
«Незабвенный мученик, мир твоему праху! Здесь покоется прах Павла Коренькова, скончавшегося на 23 году своей жизни от злого сердца, злого умысла и бесчеловечных предателей. И вы прочтите, последователи Июды, да украсится ваша совесть печатью Каина за пролитую кровь мою и горе матери моей…»
Иногда же, когда кто-нибудь не мог дать за столь трогательную надпись Дряпачеву, а поручал это кладбищенскому сторожу из солдат, Фоме Кукле, надписи на крестах получались короче, даже совсем краткие, так:
Ни
гу
Тюрин Максим
А
у
Кто способен был вдуматься в это, узнавал о покойном, что он был Нижегородской губернии, Арзамасского уезда.
Казармы для шахтеров были набиты битком – по три, по четыре семьи в одной комнате, кое-как разгороженной ситцевыми занавесками, и три-четыре тупые беременные бабы поедом ели там друг друга, а бессчетные клопы по ночам ели без разбору всех. Спали на нарах. Так как казармы имели вид деревянных балаганов, причем доски в стенах пригнаны были кое-как, то зимою сквозь щели дуло. Заразные болезни не выводились, и в здешней рудничной больнице было только два отделения: для хирургических и заразных.
Платили рабочим ордерами, которые здешние мелочные лавочники, торгующие всякой дрянью, больше же всего водкой, принимали за полцены.
В первое время Матийцев писал матери:
«…В сущности, это ужасно! Несчастнее этих людей я не могу себе представить. Они живут как-то, но просто в силу человеческой живучести… И я, как инженер, принужден их давить, не считаться с ними, как с людьми, выжимать из них соки… И если лично не делаю этого, – все равно это делают помимо меня… Привыкнуть к этому можно ли?..»
Он так и не привык к этому за год службы в «Наклонной Елене», хотя не без удовольствия слушал иногда командирский зык своего штейгера, Автонома Иваныча, который был из казаков с Дона, имел веселые яркие разбойничьи глаза, черные смоляные густые волосы и усы кольцом, бурое лицо с отеками, бравую походку и зачем-то носил на руках татуировку из якорей, змей, топоров, молотков, сердец, пронизанных стрелами, и прочей чуши, «чтобы не подменили».
Сложный узел причин, толкающий человека в нездешнее, – как развязать другому? И если бы Матийцев вздумал рассказать о том, из-за чего у него вышел разлад с жизнью, Автоному Иванычу, например, – бравый штейгер просто счел бы его дураком. Но вот что случилось последовательно с Матийцевым с января по май.
В январе был весьма неприятный разговор по службе с главным инженером Безотчетовым – разговор неизбежный, по существу дела. При прежнем заведующем «Наклонной Елены» пуд угля обходился в последнее время в 5,3 копейки; при нем же, хотя он и больше работал, поднялся до 6,4. Об этом и раньше говорили, но, наконец, в ответ на беспокойный запрос дирекции, Безотчетов пригласил Матийцева поговорить решительно.
Безотчетов был сухощекий, катарального вида, вдоволь наглотавшийся угольной пыли, раздражительный, облезлый человек лет сорока пяти, не из особенно удачливых в жизни и теперь всячески сколачивающий капиталец, чтобы, наконец, отдохнуть. И когда заходил по делу иногда к нему Матийцев, это был радушный хозяин, хотя и с вечным раздражающим кашлем, и с откровенной зевотой, и с долгим сидением у камина, и с газетной политикой; когда же он сам навещал «Наклонную Елену», он был наигранно строг, делал частые замечания, тягуче начиная их словами: «Послушайте – никогда нельзя…» или: «Поймите же – всегда нужно…» Озабоченно совал всюду сухое лицо и привычно ругал рабочих. Но таким еще не видел его Матийцев: перед ним сидел он, наклонив острую голову, постукивая не в такт тощими пальцами по столу, подняв косяком брови, слова не цедил, как обыкновенно, – был короток и точен – и, главное, сделал из своих и без того маленьких глаз какие-то две ярко-белые, уничтожающие точки.
– Отчего же, – говорил он, – на «Вертикальной», – вот… Яблонский и кутила – это всем известно, – и мот откровенный, и бабник явный, когда все это успевает, – неизвестно, но у него четыре, восемь десятых, а у вас шесть, четыре десятых – это разница!.. Там, конечно, есть обстоятельства, и вам известные, и нами они учтены, но-о… при тех же обстоятельствах у вас было бы от силы пять, шесть десятых, а у него четыре, восемь десятых… Вот он получил премию, а вы нет. Он премию, а я за вас нагоняй!
– Да, это нехорошо, – согласился Матийцев.
– Хорошего мало-с… У вас есть хорошее качество: вы – добросовестный, однако… в конечном счете это для компании ведь безразлично… вы понимаете?.. раз это дает такой результат.
Посмотрел на него долго и неприязненно и добавил:
– Наконец, вы ведь подводите меня, а? Так как это благодаря мне вы получили шахту, а теперь вами же мне глаза колют… Приятно?
Это было уже грубо.
– Тогда я оставлю шахту другому, более способному, – покраснев, сказал Матийцев все, что и мог сказать.
– Особенной необходимости в этом пока нет. Удвойте энергию.
– Куда же еще? Я работаю семнадцать часов в сутки, отупел, ничего не читаю… В десять вечера сваливаюсь, как камень, в пять на ногах…
– Подберите хороших десятников… Сдайте артельщикам хотя бы всю работу, уж они не дадут маху… Требуйте строже.
Потом он начал говорить об экономии: на креплении, на плате рабочим, на рельсах, на мазуте, на костылях и еще на многом, даже на овсе лошадям, советовал за кем-то проследить, кого-то подтянуть, на кого-то не полагаться – то, что слышал Матийцев уже много раз.
– Ибо что такое инженер в шахте? Прежде всего коммерческий человек. И все ваше назначение в том, чтобы уголь в добыче обходился как можно дешевле, а какими мерами вы этого добьетесь, это уж дело ваше и компании не касается. Вот и все… Поняли?.. Что вам и нужно помнить.
К концу этой неприятной беседы Безотчетов подобрел, оставил его обедать, жена его, Мария Павловна, молодящаяся дама, которая видимо благоволила к Матийцеву, была теперь больше, чем всегда, по-женски внимательна и далека от всего противного, делового; четыре канарейки беспечно заливались, две моськи сыто урчали, заглядывая снизу в его глаза, и даже Безотчетов. рассолодев от горячего, прощаясь с ним, решил добродушно: «Ничего, Александр Петрович, только нажмите педаль. И… не срамитесь». Но неприятный осадок от этого разговора – своя непригодность – плотно засел уже в душе и много занял там места.
В феврале цена пуда спустилась было до 5,9, но в марте опять поднялась до 6,3, и опять забеспокоился Безотчетов.
В апреле, в первой половине, пришлась Пасха, когда дней семь-восемь не работали в шахтах, – шли ремонты, которыми ведали подрядчики, – и можно было несколько отдохнуть от ненавистного рудника. Заведующий «Вертикальной Еленой» Яблонский направился в Житомир навестить свою там усадьбу. Матийцев же поехал в Воронеж, где, как знал, жила теперь у своего отца Лиля, курсистка, которую он скромно издалека любил.
Встретились случайно в Москве года два назад на совсем плохой картинной выставке, где оказалось их только двое в совершенно пустых залах. Поразило, что она, как королева: высокая, с корзиной пепельных волос, с лицом тонким, белым, северным, зябко ушедшим в меховое боа, нарядно одетая, даже странно было, зачем она здесь? Точно сказка. И еще больше поразило, что она обратилась к нему первая, когда они близко стояли: «Ну, а вы… нашли хоть один сносный номер?» Голос грудной и досадливая складка на лбу. Взволнованный, удивленно-радостный, он повел ее смотреть отмеченный им свежий этюд. Поговорили немного о живописи, которую любил Матийцев, и она простилась, плавно кивнула головой и плавно ушла, а когда ушла, сразу же стало нечего смотреть в этих скучных залах, и, выйдя следом за нею, он видел и слышал, как шла она вдоль длинного ряда извозчиков, высокая, легкая, и бросала на ходу: «Пречистенка, – двугривенный… Пречистенка, – двугривенный… Пречистенка, – двугривенный…» Заметил удивленно, что только пятый задергал было вожжами и только седьмой, бородатый, рыжий, в серебре инея, повернулся и отстегнул полость.
И так пусто стало, когда она умчалась, и так просторно, как будто не Москва была кругом, а чистое поле, и так досадно, так неслыханно жалко стало, что вот уехала навсегда, а он даже не спросил, не сумел спросить, кто она, где живет. И все Рождество было тоскливо.
Но к весне они нечаянно встретились в Петербурге, в театре, и потом стали встречаться намеренно. Ничего не было сказано такого, что по-особенному волнует: были как товарищи, говорили о студенческом. Он понимал, конечно, что не он же один открыл ее, и все боялся оказаться смешным.
Когда уехал он в Голопеевку, писал ей, стараясь, чтобы письма выходили занимательные, не навязчивые, не глупые, и в ответ получал надушенные листки, уписанные энергичным по-мужски почерком. В этих письмах, по исконному обычаю всех русских девушек, категорически решались всевозможные вопросы, в каждом письме новый, и, казалось бы, ей все равно, кому писать, лишь бы решить тот или иной вопрос на листке непременно надушенной почтовой бумаги, но Матийцева всякое письмо ее наталкивало на множество мыслей и волновало долго.
Вместо подписи ставила она почему-то одну букву «Э» – так ей нравилось с буквы «Э» начинать свое имя Елизавета – и непременно запечатывала большие узкие конверты фамильной печатью по серому сургучу.
Неизменность привычек и мужской крупный почерк тоже нравились Матийцеву. Но у нее и лицо было красиво-спокойное в линиях: оно боялось улыбок; действительно, улыбки делали его обыденнее, мельче.
И это спокойствие единственно дорогого лица здесь, среди вечных гудков, свистков и рева труб над землею, грохота бензиновозов и лошадей с вагонами в земле, стало казаться понятным, больше того – необходимым даже. Она точно тихий монастырь в себе носила с очень нежными, очень тонкими, очень хрупкими стенами, сводами, куполами, и его даже улыбкой тревожить было нельзя. Отсюда это так ясно видно было, так нужно было именно это представить, потому что жила в душе настоятельная потребность в нежной тишине, и куда же еще было стремиться от вечной рудничной грязи, от едкой рабочей ругани, от тысячи ненужных душе забот, как не в тихую чистоту?
В последнем письме, перед Пасхой, Лиля сообщала, что Пасху проведет в Воронеже, у родных, и случайно или намеренно дала свой адрес там: Старо-Московская, свой дом. Матийцев понял это так: намеренно, и поехал в Воронеж.
Была хорошая весна: звучная, полноводная, пушисто-зеленая, бодрая, парная, выпирающая изо всех швов земли и неба… или это только казалось так. Когда входили в вагон на станциях разные степные люди, все они были уж до тепла загорелы, голосисты, ясноглазы, и даже от их высоких калош, заляпанных грязью, веяло деловым строительством земным, непреклонностью, решимостью в борьбе и всевозможными лихими «черт возьми», и шапки у всех были неистово набекрень. Тогда и в нем самом легко и просто решалось, в какой из трех комнат его домика на руднике должно стоять Лилино пианино.
Дом на Старо-Московской он нашел: деревянный, когда-то крашенный в лиловое, теперь серый, широкий по фасаду, с резными окнами. Дворник или кучер поднялся навстречу от ворот, важный, старый, совсем как апостол Петр.
– Экая фигура!.. Тебя не Петром ли зовут? – улыбаясь, спросил Матийцев.
– Нет… Терентий…
Подтянул плисовые шаровары, одернул красную рубаху. А о барышне сказал: «Доложу пойду…» Пока же провел его на антресоли.
За широким двором заметил Матийцев липовый сад, площадку для лаун-тенниса, пегую борзую над припавшим к земле хитрейшим серым котом, и подтыканная баба, расположившись на скамейке под пихтой, сурово чистила суконкой канделябры, а на нее сверху сыпалась старая хвоя.
Матийцев догадался, почему привел его Терентий на антресоли: страстная пятница, уборка, в комнатах кавардак, должно быть, и ждал он Лилю с таким волнением, что даже руки похолодели.
Он представлял уже столько раз это свидание раньше: выходит навстречу Лиля с корзиной волос своих и ясным взглядом и вскрикивает: «Вы? Вот как! Какими судьбами?..» Но она вошла, гладко причесанная, с заплетенными косами, отчего голова показалась неестественно маленькой, платье на ней было простое, домашнее, перехваченное кожаным поясом, и первое, что она сказала, было:
– Фу, какой у вас гнусный галстук!
При этом она даже плечами пожала и покраснела оскорбленная, и гримаса почти физической боли показалась на лице, и глаза стали злые.
Матийцев растерянно прикрыл галстук рукою, сразу почувствовал, что он действительно гнусен, хотя был это обыкновенный серенький галстук бантиком.
Потом как-то совсем не мог наладиться разговор: ясно было, что явился Матийцев не вовремя. Тонкие пальцы Лили были в розовой краске; сидела она, как на иголках, отвечала невпопад; часто подходила к окну – перебирала цветы в банках, или к роялю – перелистывала ненужные ноты. Не скрывая, ждала нетерпеливо, когда же он уйдет наконец.
Уходя, он спросил, можно ли ему прийти на Пасху.
– Ну, конечно, приходите!.. На второй день… или, лучше, на третий!..
И так радостно прощалась с ним, что он решил было тут же ехать к матери и сестре в Петербург. Но то, что лелеялось в долгие зимние месяцы, не могло так сразу разлететься весной, и Матийцев три дня сидел в номере гостиницы, по непривычке к такому огромному количеству свободного времени совершенно измучился, исходил вдоль и поперек город, избегая только вокзала, чтобы не бежать внезапно и малодушно, а когда на третий день собрался идти (в новом уже галстуке – белом), так долго волновался, что не спросил точно: когда именно прийти? Во сколько часов?
И как и в первый раз, так и теперь, но уже принаряженный и с намасленной серой головой Терентий (теперь потерявший всякое сходство и с Петром и вообще с кем-либо из святых), сильно выпивший и с завороченно-красными веками, как у больших старых догов, покачнувшись, сказал ему: «Христос воскресе!», и, предупрежденный, должно быть, Лилей, провел его опять на антресоли. Но, проходя по двору, Матийцев не мог не заметить ее в саду, где было многолюдно, весело, играли в лаун-теннис под липами и среди белых платьев и черных сюртуков очень ярко (день был солнечный) блестел круглый эполет на кирасирском мундире.
Матийцев знал, что у Лили здесь отец, мать, братья, и только теперь понял, что она даже не хочет и знакомить их с ним, что для нее он просто «один знакомый инженер», не больше, чем бы сам он ее ни считал.
Она вбежала к нему, праздничная, возбужденная игрой, и не успела еще поздороваться, как уже засмеялась:
– А знаете, вы совсем одичали в своем руднике!.. И бородка эта… – извините меня, – она у вас очень смешная, очень… ха-ха-ха… очень!
Потом она спросила его, надолго ли он приехал в Воронеж и зачем, – что здесь делает? Совершенно растерявшись, он пробормотал о каких-то делах по отправке угля, добавил зачем-то, что инженер должен быть человеком коммерческим, и поспешил проститься.
В тот же день, он, конечно, уехал, и не в Петербург, куда было и поздно и незачем, а в Голопеевку, в свой домик, из трех комнат которого ни в одной нельзя было никогда уже поставить Лилино пианино, – в свой домик, где хозяйничала престарелая шахтерская вдовица Дарьюшка, которая иногда запивала, и тогда прислуживала ее племянница, девочка-глейщица, а сама она каталась по полу в кухне и плакала тихо и горько.
В любви неразделенной есть зародыш ненависти к самому себе: в одиночестве из него вырастает отвращение к себе, иногда нестерпимое. Так было и с Матийцевым.
Наконец, вскоре после Пасхи в «Наклонной Елене» случилось первое за его время несчастье: в неосмотренной как следует печи засыпало отвалившимся углем и породой двух шахтеров: Ивана Очкура и Семена Сироткина.
Быть может, не так бы тяжело было это, если бы Матийцев не знал их раньше: среди нескольких сот человек это было бы вполне возможно; но Очкур и Сироткин хорошо были известны ему – смирные, степенные, семейные, – и даже заглушенные голоса их, каждого в отдельности, узнавал Матийцев, когда в первое время после обвала из забоя кричали они, – бородатые, пожилые оба, а как маленькие:
– Голубчики, э-эй! Братцы… э-эй! Христа ради!
Несчастье заметили сразу, и Матийцев и Автоном Иваныч примчались вовремя на вагоне бензиновозки, и несколько человек шахтеров сбежались с кирками, а откапывать их все-таки было нельзя: потрескивало и сыпалось дальше, ближе к штреку, и еще могло бы кого-нибудь засыпать, увеличить несчастье.
– Сейчас, сейчас! Копаем! Спасем, потерпите! – кричали им, но это была только ложь от бессилия: часто и бестолково стучали в стены печи подальше от обвала, где безопаснее, чтобы только слышали святые рабочие стуки Сироткин и Очкур и умирали с надеждой.
– Попробуем! Давайте попробуем! – тоскливо убеждал Автонома Иваныча Матийцев, хватаясь за него руками.
– Что вы, господь с вами! – отзывался Автоном Иваныч. – Мало вам двоих?
А погребенным заживо кричал:
– Эй, потерпи, братцы!.. Чуть-чуть осталось. Сейчас!
И этим, около:
– А ну, наддай!.. Эх, постарайся!.. Дюжей!
Стучали в безопасные стены с новой силой, а уж слышно стало, что там загрохотало глухо последнее, что над ними висело, и обвалилось сплошь, а уж ни крики оттуда, а только стоны, по которым нельзя уже было различить, где Сироткин, где Очкур…
Матийцев жутко представил, как трещат и ломаются их ребра и как оба уж поняли, что им не спастись, что это пришла их смерть и стоит и святые рабочие стуки их не вырвут… Вот они застонали тише… вот еще тише… вот уж чуть слышно, как вздох… А потом те, что стучали здесь, остановились, и один спросил тихо:
– Стало быть, кончились… господин штейгер?
Автоном Иваныч медленно снял фуражку, перекрестился, сказал твердо: царство небесное! И тыльной частью руки старательно вытер пот со лба, а десятнику Гуменюку приказал:
– Плотников… Лесу… Живо!
Тут же закрепили печь, где было можно, и стали откапывать; тянулось это часов восемь, и во все время Матийцев не выходил из шахты, и все коробило, что и отсюда, как из других печей, чтобы не пропадала работа, подъезжая шумно, заберут коногоны уголь и отвезут на плиту, к сдаче, как будто это был такой же безответный, рядовой, ежедневный уголь и как будто его тоже можно мерить и считать вагонами и пудами…
Откопанные наконец, раздавленные тела их осветил было лампочкой Матийцев, но от острой жути не мог смотреть, а потом, когда вывезли их наверх и две новые шахтерские вдовы – одна скуластая, черноглазая, с грубыми руками, другая желтая, с птичьим лицом, беременная, прибежав запыхавшись из казармы, упали обе на страшные тела ничком, – не только Матийцев, даже урядник, похожий на станционного жандарма по спокойствию, и тот не мог вынести их надрывного воя.

Это было под широким навесом, где хранился от дождя цемент в бесчисленных бочонках и около было вязко и бело наслежено; но когда урядник решил, что бабы поплакали довольно и что бабьи вопли – занятие домашнее, а на руднике им совсем не место, и начал отрывать от трупа беременную Сироткину – другая грубыми подсученными руками вдруг выдернула у него из ножен шашку, быстро уткнула эфесом в землю и, исступленная, уперлась в нее животом. Так бывает во время сильной зубной боли: режут и колют десну, чтобы новою болью заглушить прежнюю. Шашка оказалась очень тупа, и толпа около помешала бабе – острие прошло вскользь по мягкому животу, но рана все-таки была широка и кровава. И отчетливо, резко осталось в памяти, как сидела баба на земле, зажимая рану обрызганной, голой до локтя рукой, дрожала, глухо визжа, и блуждала по всем мокрыми темными глазами; как урядник, испуганный, держа шашку в руках повторял тупо: «Вот дура. Зачем она это?» – и у него, Матийцева, искал сочувствия озадаченным взглядом; как Сироткина – хоть бы обернулась – самозабвенно причитала, все лежа ничком; как кочегар из машинного отделения, весь черный, только глаза красные, развертывал свой грязнейший платок, должно быть для перевязки, а сзади мямлил кто-то косноязычно: «Как же, посуди, осталась сама пята… Вот эта, зарезавшая…» И дождь хлестал.
Ее отправили в больницу; покойников схоронили, сиротам отдал свое месячное жалованье Матийцев. Потом началось следствие, и уже Яблонский заранее поздравил Матийцева с месяцем тюрьмы за небрежность; но он осудил себя раньше суда.
Куда-то пропали дни, и потянулись почти сплошные ночи. В эти ночи он долго не мог заснуть; он зажигал свечу (лампу зажигать представлялось излишне длинным), ходил по комнатам, не уставая, часами, и не думал даже, а только видел, слушал, ощущал всего себя, потому что раздвоился как-то; слушал себя, но как будто и не себя, а своего врага, который ненавидит беспощадно, врага, но в то же время и единственного друга, который не лжет ни в едином слове самому себе о тебе самом, поэтому не слушать его нельзя. И иногда подолгу глядел он на себя в зеркало, как на чужого, пристально всматриваясь в глаза, теперь впалые и больные, в завитки негустых мягких волос, в детские почти еще губы, – и появилась привычка вслух говорить тому, кого он видел: «Ну что, Саша? Плохи твои дела… Дрянь ты…» Но это было минутное; вслед за этим являлась вдруг странная гордость от сознания, что мера всех вещей в мире все-таки он сам и что это не жизнью вытесняется он, а жизнь до самых глубин своих осуждена им.
Эта жизнь вся до конца представлялась ясной, при всей запутанности своей – очень простой, нелепой по своей сущности, и казалось, что нет такого вопроса в ней, которого нельзя было бы решить сразу, одним нажимом мысли, потому что разрешающее все в жизни было уж окончательно найдено: смерть.
За последние дни потерялась куда-то молодая четкость движений. Матийцев долго одевался, поднявшись, а когда оделся, то вспомнил, что оделся не для шахты. Разделся опять, напялил грязную грубую синюю рубаху, высокие, тяжелые, смазанные дегтем шахтерские сапоги. Когда самовар внесла девчонка-глейщица, долго пил чай, и когда вышел, наконец, наружу, шел уже девятый час. Сеялся такой же, как вчера, дождик мелкий, лужи от угля кругом были, как чернила.
В конторе, куда зашел он за лампочкой, ждал его недавно уволенный за пьянство камеронщик: пришел проситься снова на водокачку. Теперь он был трезв, только синь, сморщен и жалок; стоял и трясся, и еле можно было разобрать, что бубнил он что-то о жене и детях, и глаза у него были умоляющие и сильно воспаленные, как у всех на руднике… А Матийцеву было уж все равно.
– Ну, иди себе, – сказал ему спокойно.
Камеронщик понял это так, как хотелось ему понять всей душой: «Иди к своим помпам, выкачивай воду, как раньше выкачивал: ничего с тобой не случилось».
– Покорнейше благодарю! – даже чуть покраснел от счастья. – Мне к господину штейгерю явиться пойти?
Матийцев, занятый своим, только отмахнулся от него рукой и добавил: «Иди!», – даже не поглядел на него, но камеронщик еще раз поклонился низко и пошел, радостно стуча по каменным плитам сапогами.
А кладовщик, сухой старикашка, подавая лампочку Матийцеву, посмотрел на него независимо, потому что он единственный на шахте ни в чем от него не зависел: хранил инвентарь бельгийской компании и только главной конторе и был подчинен.
Принимая лампочку, Матийцев подумал:
«Он и не догадывается, что завтра в полночь меня уж не будет на свете».
И так однообразно думалось при взгляде на всех, кто попадался на дворе шахты. А тут еще котлы сбивали, и железо страшно лязгало, паровоз на скупо блестящих рельсах пыхтел отчаянно, везде мокрые груды угля, – итог каторжной работы в земле, дым и гарь кругом, вверху – остовы труб и копер «здания» на «Вертикальной Елене», как виселицы… Очень хотелось сейчас же закрыть и глаза и уши, сесть плотно в тишину и темь. В голове шумело и сверлило от бессонницы, и так явно болело сердце, не толчками, а сплошь.
Автоном Иваныч встретился у самого спуска в шахту в своей засаленной драной тужурке с кантами и грязной фуражке. Поздоровался издали и крикнул:
– А я пойду на литербу!
В «Наклонной Елене» был уклон, когда-то раньше обозначенный: «Литера Б». Шахтеры звали его «литербою» и вот почему-то теперь, с неделю уж, это было любимое у Автонома Иваныча: литерба, литербе, литербой.
Глядя на его веселое лицо с отеками, Матийцев прошептал брезгливо:
– Какой дурак!
Когда входил в шахту по грязному, скользкому, узкому спуску, крыса шмыгнула из-под ног: здесь в шахте их было много – питались объедками, плодились в конюшне. Прежде у Матийцева были счастливые дни и несчастные, как у всякого, кто каждый день рискует жизнью. Он не любил, когда попадались под ноги крысы, но теперь что же могло случиться? Прежде всю жизнь щемило что-то: что-то могло прийти откуда-то непрошеное, прийти и случиться; а теперь что же еще могло прийти?
Вспомнилось, читал в газете, как один самоубийца отравился только затем, чтобы узнать, есть ли загробная жизнь.
«Этот экспериментатор был студент, кажется, естествовед», – подумал Матийцев и улыбнулся, но тут же ясно припомнил, что это был просто какой-то штабс-капитан в отставке.
По скользкому спуску, перекрытому деревянными перекладинами, ноги ступали нетвердо. У надоевших стен из угля был ощутительно живой, самодовольно-глупый какой-то, жирный блеск. Привычно искал глаз гнилых подпорок и балок крепления, а рассудок был уже насмешлив и далек: черт с ними. Раскачивал лампочку и соображал, во сколько часов будет в Ростове, если поедет сегодня вечерним поездом, которым не приходилось ездить.
В первом штреке человека четыре с артельщиком закрывали кабель, недавно проложенный, – это были первые, встреченные им в шахте.
– Ну что, как? – ненужно спросил было Матийцев артельщика. Артельщик, расторопный молодой малый, начал бойко объяснять, как, по его мнению, проще было бы забетонить кабель; иногда эти чумазые люди придумывали дельные приемы. Матийцев пытался было вслушаться, но ничего не слыхал; думал о своем: о сестре Вере, о матери, которой тяжело будет узнать о его смерти, но что делать… в чем-то и она была виновата. И когда бойко двигавший руками артельщик кончил и ждал, согласится он или нет, – Матийцев ничего не сказал: улыбнулся блуждающей улыбкой и зашлепал дальше по грязному штреку.
На скамеечке около плиты, с которой трое ребят подавали вагоны вверх, на бремсберг, мирно спал десятник Косырев, – это было нехорошо, а рядом с ним сидел и тянул трубочку сторож динамитного склада, – это было еще хуже. Матийцев разбудил десятника.
– Ты что это? Не выспался дома? – вспомнил, что сам не спал ночью. – Ты как смеешь спать?
– Ногу зашиб, – болит очень.
– Выдумывай больше, – ногу! А ты что куришь?
– Я не курил, господин инженер, – я только чубук продувал.
– Пожар наделать?.. И чего ты здесь торчишь? Твое здесь место?
Сторож пополз в боковую печь к своему складу, вздевая на ходу картуз.
– Сколько добычи? – привычно спросил у откатчиков.
– Пятьдесят вагонов, – сказал один, а другой поправил: – пятьдесят четыре.
– Мало.
– К вечеру свое набьют – пятьсот вагонов, – обнадежил Косырев.
– А в номере десятом видел, как рельсы кладут? – вспомнил Матийцев.
– Видал, – сажен пять проклали.
– По ватерпасу?
– Нет, без вертипаса… Я ему говорил – Ракушкину, – а он одно слово: «У меня глаз – вертипас». Ну, я его попросил: «Иди, когда так, к чертовой маме, когда много об себе понимаешь».
– Да-а… Пусть как хочет кладет, – усмехнулся Матийцев.
Прошел в конюшню к Дорогому на лошадей посмотреть. Это было единственное место в шахте, где чуялось что-то похожее на барское имение, представлялся тенистый сад, около пруд, белые облака на синем небе – так как стояли или лежали в стойлах лошади и мирно жевали сено, а конюх Иван, по прозвищу Дорогой, крепчайший, бородатый, широкий старик, в кумачовой рубахе и рыжей жилетке, как будто вот сейчас возьмет в повода целый табунок и поведет купать на пруд, поодаль от бабьих мостков, под ивы, на белый песочек, где кулики свистят и плачут чибисы…
От двух электрических лампочек было тут почти светло.
– Доброго здоровья, дорогой, – поклонился Иван Матийцеву.
– Ну что… Как у тебя тут? – улыбнулся длинно, но не насмешливо Матийцев: он уважал Дорогого; Дорогой был, как домовой в своей конюшне, только что не заплетал по ночам гривы, да ведь и незачем было, если лошади были не выездные.
Но он был прискорбен теперь.
– Вот, посмотрите, дорогие, что анафемы сделали: Лоскутному бок примяли… бензиновозкой… А?! Ну, бога хваля, дорогой, ребра, кажись, целые – не жалится, и глаз ясный. Ну, какие же анафемы, дорогой, – не могли лошадь остеречь, поставить в затишье. Самая умная лошадь, дорогие, – и такой ей испуг сделать! Бога хваля, ничего – щупал я сквозь. Полома ребров нету, только примяли… Новую Зорьку им отпустил взамену. Не одобряют Зорьку, дорогой: нравная очень, дорогие: в хорошей жизни жила.
Матийцев пощупал мокрый бок пестрого Лоскутного: действительно была вдавлина небольшая.
– А у кого Зорька?.. Какой коногон?
– Божок, дорогие… у Божка в обучении. Как бы не испортил ее, дорогой, – а?.. Так глядеться, ничего лошадка, – ну, нравная… Вот Магнит – это так, это наша. Ох и лошадь добрая, дорогой!
Матийцев провел рукой по крупу тоже новенького огромного вороного Магнита и хотел уж уйти, а Дорогому хотелось еще показать:
– Посмотрите, Карапь как у нас справился, – не узнать! Сами, дорогие, видели, как к нам спустили, – совсем был нестоющий, дохлый – в этом месте рукой обхватить, а те-перь, дорогие, – худоват еще, конечно, ну-у, не так!.. А Моряк у меня на овсе… Посмотрите, дорогие, как лошадь загоняли, – в ночной смене была. Нельзя так до тоски лошадь доводить… воспретите им, дорогой.
И, нацедив ведерко воды из-под крана, осторожно намочил лежащему рыжему Моряку острое темя.
Вспомнил Матийцев, что больше уж не увидит конюшни.
– Ну, прощай, Дорогой, – искренне сказал он, – прощай.
– Счастливо, дорогой!.. Дай бог путя, дорогой!..
Обласканный этим «прощай», Дорогой снял картуз и шлепнул его на густые еще лохмы только тогда, когда вышел из ворот Матийцев.
Рядом было депо бензиновозов, но туда не хотелось заходить: машины как машины, и притом кволые, ломкие и опасные: уж два раза горело депо от шахтерских цигарок. Хорошо, что нет в шахте гремучего газа: легче дышать.
Потянулся дальше тихий штрек. Только из одного забоя сбоку виден был огонек, крохотный, как восковая свечечка, и глухие ватные удары кирки об угольный пласт. Кто-то полулежит там голый до пояса, и на черной спине полосы от едкого пота, а на зубах хруст.
Думалось в тишине Матийцеву о том, что читал недавно, как известный ученый решил, что пессимизм молодежи началом своим имеет каких-то бактерий, заводящихся в тонких кишках… «Хорошо, пусть так… Ну, а если решит другой ученый, что Христом – это тоже от бактерии… в толстых кишках, например? Разве легче от этого будет кому-нибудь?.. Какая чушь!»
Встретилась партия человек в пять, – шли с работы наверх. Привычно поднял к ним лампочку.
– Чьи?
– Горшкова.
– Откуда?
– С четвертого номера.
И разошлись.
Пропустил мимо грохочущий бензиновоз с десятью вагонами, спешивший к плите. Осветил уголь, машиниста. Промахнули гремя и скрылись за поворотом.
Двенадцатилетний мальчишка Федька, дверовой, который только и делал целый день, что отворял и затворял двери посередине штрека, – чуть только слышал справа или слева гул вагонов, – распахнул и перед ним двери настежь.
– Ну что… скучно, небось? – кинул ему на ходу Матийцев.
– А то не скучно? (Федька был внук Ивана Дорогого.)
– Терпи, терпи… учись: тебе еще долго терпеть, – и улыбнулся про себя, отходя. А за дверью недалеко был боковой пролаз на ту самую «литеру Б», куда пошел Автоном Иваныч, а чуть дальше – та печь, в которой обвалом засыпало двоих: Ивана Очкура и Семена Сироткина. Печь эту закрестили и заделали дощатой решеткой, мимо решетки этой вот уже недели три старался не ходить Матийцев, а теперь подошел к ней вплотную и долго смотрел и вслушивался: теперь это можно было.
Очень четко думалось: «Штабс-капитан сомневался в загробной жизни, я же в нее не верю, совсем, – но… жаль, что нигде около „Наклонной“ никаких цветов… Если бы они попались мне на глаза, я принес бы их вам сюда и бросил бы за решетку… чтобы вы знали».
И хотя могила их была на том же кладбище, все-таки и здесь, где умерли, тоже как будто лежали они, а на могиле близких так хочется подумать и вспомнить о них. Тут было до удушливости тихо, только изредка как будто вода журчала в сточной канавке. Тут хорошо было забывчиво представлять нездешнее: чувствовалась какая-то острая грань, отделяющая это, – что от целой жизни земной осаждалось в тихом темном коридоре на глубине ста с лишнем сажен, и то: уже наплывало то, и не особенно заметен был переход между ними: так – маленький горбик.
Исподволь какая-то жуткая торжественность вошла в душу, и долго стоял так Матийцев, точно слушая заупокойную обедню по себе самом, издалека звучащую, и было хорошо ее слушать.
Он хотел потом свернуть влево, но тут вдали, в глубине штрека, слышны вдруг стали лошадиные визги, рычание, хлопание и крепкая брань. Подумалось было: несчастие, но тут же догадался он, что несчастия нет, а идет спокойная работа, – просто забурился груженый вагон, и кто-то из коногонов бьется с ним и лошадью. Остановившись, приглядевшись, скорее понял, чем увидел Матийцев, что это – Божок и недавно купленная молодая лошадь – Зорька, о которой говорил Дорогой.
Божок был большого роста, но сильно сутулый, в размер высоты штрека, с длинными узловатыми руками. Лет ему было под тридцать. На дневной поверхности был очень неповоротлив, неуклюж; и в шее, сильно вытянутой вперед, и в ногах, сильно согнутых в коленях, очень древнее что-то всегда виделось в нем Матийцеву. Точно из-под тяжести какой-то каменной бабы с кургана, улучив минуту, выполз когда-то ночью (непременно ночью), приполз полями сюда, в «Наклонную Елену», и упрямо стал жить опять, больше в земле, впрочем, чем над землею. Сила у него была страшная, и его боялись задевать шахтеры, особенно, когда был он пьян. Глядел он на всех одинаково, исподлобья. Мог, кажется, глотать стаканы и рюмки; гнул пальцами пятаки…
Лампочкой, привешенной к передку вагона, освещены они были неверно, – он и Зорька, так что и разобрать было трудно, что это такое: будто сцепились кентавры.
– Я т-тебя зад-душу!.. Я т-тебя съем! – рычал Божок, – это, наконец, ясно расслышал Матийцев, подходя.
Божок и в самом деле обхватил Зорькину шею, тряс Зорькиной головой, а Зорька, тоже рыча, все ухитрялась пустить в дело оскаленные зубы, и валил от нее такой пар, точно в тумане были они оба с Божком.
В «Наклонной Елене» работало всего восемнадцать лошадей. Когда случалось им заболеть, их выдавали наверх ветеринару. Были очень опытные, умные, послушные, работавшие точно и сознательно, как человек, а попадались и такие, конечно, из новеньких, что хоть убей на месте. И их били иногда зверски, а когда совсем ничего нельзя было сделать, в дело вмешивался Божок. Тогда в темных штреках начиналось состязание: Божок подымал забурившийся вагон и бил лошадь кнутом из проволоки. Лошадь упрямо дергалась и шагов через пять опрокидывала вагон. Божок подымал его и бил лошадь вагонной цепью. Лошадь лягалась, визжала, слабела, дрожала, парила, но через десять – двадцать шагов опять сбрасывала вагон. В вагоне с углем пудов пятьдесят. Коногон один в пустом, черном длиннейшем, грязном штреке, – помочь некому, но работа не ждет. Мальчишки (а коногоны больше мальчишки лет семнадцати) обыкновенно надрываются на подъеме забурившихся вагонов и лет в двадцать никуда уже почти не годны. Но Божок недаром же был силен, как зверь, и жесток. Он задевал крючьями за пах лошади и разрывал шкуру, или вбивал гвоздь в ее ноздри, или крутил репицу хвоста так, что лошадь, устав лягаться, садилась на зад, как собака, и только мотала головой, визжа и оскалив зубы.
От лошадиных зубов погиб уже здесь в «Наклонной Елене» один коногон: это было года за три до Матийцева. Такая же, как Зорька, строптивая лошадь изловчилась ухватить мальчишку Васюка за пояс, схватила и понеслась с ним по штреку. Забилась в дальний угол и тут, остервенев, должно быть мгновенно взбесившись, вцепилась в горло зубами. Слышали из ближнего забоя, – вскрикнул кто-то раз, два, но больше не вскрикивал, а потом долго ждали вагончиков с углем и не дождались, и когда пошел Автоном Иваныч, чтобы дать Васюку нагоняй, он наткнулся на обезумевшую окровавленную лошадь, разрывавшую тело Васюка в мельчайшие клочья.
– С бородкой была, вороная! – говорил потом Матийцеву Автоном Иваныч, блестя донскими глазами. – И вот мой совет вам: никогда, ни под каким видом не покупайте лошадей с бородкой, особенно вороных: аномалия, атавизм! Весьма вредные, стервы!.. Я тогда вашему предместнику говорил, – засмеялся и ручкой помахал, а небось, как увидел, что она с Васюком сделала, – ей-богу, верите ли, на глазах слезы… С бородкой эту стерву, я, конечно, тут же убил кайлом в левый глаз. У нас на Дону так: в чем, в чем, а в лошадях понимают.
Над собранными в гробу кусочками тела Васюка тупой формалист Фома Кукла, не спеша и размашисто, как позволил длинный крест, написал:
Кр
Та
Василий Филатов
Гу
Ма
У
Жития 17 лет
Иса
во
се
Бы
ст
ро
ва
Больше ничего не прибавил, как будто погиб человек не такой ужасной смертью, а мирно был взят ангелами прямо с цветущих полей Тамбовской губернии, Моршанского уезда, Исадской волости.
И вот теперь что-то похожее: Зорька и Божок, только не Зорька Божка, а Божок хочет съесть Зорьку. И съест, пожалуй: у него зубы, как у медведя. Как заладил, так и рычит все:
– Я тебя зад-душу! Я тебя съем! Съем!..
Подойдя, Матийцев с минуту стоял и глядел. Улыбнулся было, но смешно не было. Спросил только:
– Ты что, Божок?
Осветил своей лампочкой его, лошадь, вагон. И Зорька была вся в поту, грязи и крови, и Божок был весь в угле, поту, грязи и крови, а забурившийся, может быть, в сороковой раз, вагон пьяно торчал боком над рельсами.
В конюшне Зорька была статная, красивая лошадка, буланая, с тонкой умной мордой, и теперь ее стало жалко.
– Ты что?.. Ты ее не ешь… Давай помогу.
И, отставив лампочку, Матийцев взялся было за вагон, но Божок не подвинулся к нему; он сказал, отдуваясь, мрачно:
– Мне кажется, я ее убью.
– Ты что, устал с ней?
– Ее осталось только убить.
Матийцев попробовал было поднять вагон, но тут же увидел, что не может: нужно было знать сноровку коногонов, подымавших как-то «на лимонадку», – спиной.
– Ну-ка, берись, Божок.
Но Божок стоял, как медведь, исподлобья глядя на пышущую морду лошади, носившей боками. Лица его ясно не было видно – так, тени одни, – неприятные тени.
– Берись, говорю!
Но Божок качнул головою:
– Я уж сто разов за него бралси… «Берись»!
– Ты что это?
– «Что»! Ничего, «что»… Вот и становь сам.
– Ты что это, а, болван? – повысил голос Матийцев. – Ты видишь, с кем говоришь?
– Ее осталось только убить.
– Станови вагон, я говорю! Не рассуждать!
– Завизжал… Становь сам… У тебя силы-то как у вола…
И вот теперь, едва ли не в первый раз в жизни, Матийцеву захотелось изо всей силы наотмашь ударить человека – Божка. Это был всего один момент, но такой острый: непременно ударить и разбить ему зубы в кровь. А потом вдруг вспомнил Матийцев, что будет завтра, в 11 часов вечера; мгновенно вспомнил, и мгновенно отбросились от него Божок, Зорька, вагон и штрек. Еще не разжал стиснутых зубов, а уж начал улыбаться, как улыбаются мудрые и лишенные ума.
– Сегодня в конторе расчет получишь, – с усилием сказал он. – Уходи наверх – слышишь?!
И пошел от Божка, чтобы найти кого-нибудь, кто бы взял Зорьку и отвез вагон.
– Ишь… «расчет!».. Цуцик паршивый!.. – рыкнул ему вслед Божок, а Матийцев изумленно остановился было, но подумал: «Не нужно уж мне… Ведь не нужно… Иду, распоряжаюсь… к черту! Зачем это? Не нужно!.. Чем может оскорбить меня это животное? – ничем ведь, ничем!.. Теперь ничем!…» И тут же: «Отчего же так хочется выбить ему зубы медвежьи?…» Опять хотелось до боли, и рука туго сжималась, дрожа крупно в локте.
И чем дальше он уходил от Божка, тем меньше мог себя сдерживать. Не хотел, но повторялось все время в мозгу: «Цуцик паршивый… цуцик паршивый…» И тут же: «Это меня? Меня?.. Как он смел, подлец?!»
Чуть только померещился вдали кто-то, Матийцев уже крикнул ему:
– Эй, ты! Кто там? Поди сюда!
Подошел артельщик Кравчук, шлепая по лужам.
Чуть узнав его, крикнул Матийцев:
– Убери Божка отсюда вон, к черту!
– Божка? Это – коногона?
– Вон его отсюда, к черту! Понял?
– Понял.
Но у Кравчука было свое: он и сам искал Матийцева, чтобы сказать ему:
– Александр Петрович, – я вам хотел изложить, – невозможно по десять рублей… Сосчитайте хоть сами; что же мне – своих докладать?.. За-ра-ботаешь от жилетки рукава!..
– После, после!.. В конторе скажешь. Гони его в шею! Возьми лошадь!.. Совсем вон, к расчету!
А в это время из бокового пролаза вынырнул Автоном Иваныч. Как всегда, веселый какой-то пьяной рудничной веселостью, подошел и сказал:
– Литерба-литербе!.. Здравствуйте еще раз. Кого к расчету, Александр Петрович?
Матийцев почувствовал, что он ему нестерпимо противен.
– Вот что… Автоном Иваныч… Вы сегодня же его долой… Божка. – Он остановился, чтобы объяснить, почему долой, и добавил: – Я с вечерним в Ростов, а вы тут уж сами… и наряд на завтра, и, главное, это чудовище вон!
– В Ро-сто-ов! – невинно протянул Автоном Иваныч. – Раз-влечься? – О Божке будто и не слыхал.
И, едва сдерживая себя, прикусив губы, Матийцев продолжал о Божке:
– Избил эту новую лошадь, Зорьку, до полусмерти… тоже коногон… И еще в пререкания со мною, чудовище этакое!
От ярко представленного оскорбления дышал он тяжело и смотрел на Автонома Иваныча злобно, а в правом локте все дрожало крупной дрожью, почти дергало, и сердце нехорошо билось.
Автоном Иваныч качнул головой.
– Ишь, скотина! Он не пьян ли?.. Выкинем вон, когда так… – Подумал и добавил: – А если простите его, может, и лучше будет: ведь он – дурак. Просто, мы его оштрафуем хорошенько. А работник, не говорите – коногон! И уж сколько лет он у нас… Мой вам совет, если хотите меня послушаться.
– На черта мне ваши советы?! Вон его, и больше ничего, слышите? Советы!.. И, пожалуйста, без советов! Осел!.. Вы – осел!
– Позвольте… вы… как это?..
– Вы слышали? Ну вот… И все. Осел!
Матийцев как будто теперь понял только, как давно и как сильно раздражал его этот черноволосый человек. Он ждал, не скажет ли тот еще чего, чтобы окончательно прорваться, и весь дрожал, но Автоном Иваныч, зачем-то осветив его, вдруг повернулся и пошел своей бодрой походкой к тому штреку, в котором остался Божок. Под качающейся лампочкой отчетливы были треугольные грязные брызги из-под его сапог. Матийцев некоторое время стоял, следя за перебоями сердца и этими брызгами, потом повернул к выходу – дальше идти не мог.
Придя домой, Матийцев почему-то тщательно выбрился: клочковатая бородка, насмешившая Лилю, не нужна уж была теперь даже для шахты. Без нее лицо стало совсем юным, и Матийцев, отвыкший от него за год службы, долго рассматривал себя в зеркало.
Неистовое желание жить и спокойное желание умереть – это в сущности одно и то же, и Матийцеву казалось, что он понимает это вот теперь, когда собирается зачем-то в Ростов, надевает форменную тужурку, чистится щеткой.
По телефону Безотчетову позвонил, одевшись, чтобы сказать: «Уезжаю в Ростов вечерним; завтра вернусь», – и услышал знакомый горловой голос:
– А-а, как кстати! Знаете, у меня про-осьба… Маша, вот Александр Петрович, оказывается, едет в Ростов: он и завезет Мирзоянцу… Знаете, голубчик, посылать по почте и неудобно и долго, и главное, расписку мне нужно, – срочный платеж, – а вы ему передадите и получите…
– А где там этот Мирзоянц?
– Пошлю сейчас вам деньги, – пятьсот сорок, – и записку и адрес… Подождите. Вам еще два часа, есть время… Маша, займи Александра Петровича!.. Я – сейчас.
И Марья Павловна, молодящаяся дама, подошла к телефону и сказала томно:
– Здрассте… Вы – кутнуть едете?
– Н-нет… Совсем нет.
– О-о, «нет»! Знаем мы «нет»!.. Вот еще проиграете деньги в каком-нибудь клубе… Смотри-те! Погрозила вам пальцем.
Матийцев представил по этому голосу ее всю: невыросший, узенький подбородок, под ним складочки; высокий шиньон; лоб весь в синих венах, шелушащуюся кожу на вялых щеках и глаза, которые заискивающе спрашивали всех: «Я не очень постарела?.. Я вам нравлюсь?» Душилась еще какими-то вызывающими духами, а у самой были уж взрослые сыновья, студенты.
– Гм-хм… – опять в телефон вечное покашливание Безотчетова, до того заразительное, что Матийцев тоже сделал: хм-гм…
– Дождитесь, голубчик. Знаете, – это в счет уплаты за землю: я там купил участок в рассрочку… Только это – секрет, гм-хм…
Матийцеву нужно было что-то ответить, так же шутливо, но он ничего не придумал; опять только кашлянул по-безотчетовски и вдруг, неизвестно зачем, спросил:
– А если я застрелюсь в Ростове?.. Или, например, в поезде? Не боитесь?
– Хм… пустяки! Инженера не стреляются… Очень обяжете… Главное, – жди расписки, а тут вы завтра же и привезете. И прекрасно, что так устроилось, – и расчудесно-чудесно… Ну, снаряжайтесь, не буду мешать… Сейчас посылаю к вам… До свиданья… ггы-хм…
– Успехов и удач! Счастливый путь! – крикнула около Марья Павловна тоном, по ее мнению, лукавым и намекающим.
Отходя от телефона, Матийцев прежде всего сложил в уме восемьсот и пятьсот сорок – непроизвольно, неизвестно зачем, как неизвестно зачем делал он многое за последние дни. И когда ходил по своим трем комнатам четкой, несвободной, деревянной, за последнее время только и появившейся походкой, все неотвязно вертелось: «Через час, значит, еду. Денег у меня будет тысяча триста сорок рублей».
А когда пришел от Безотчетова запыхавшийся писарек из конторы и принес пакет с косою женской припиской под адресом: «Только не проиграйте в карты. М. Б.», Матийцев улыбнулся и, глядя прямо в потное писарьково лицо, сказал весело: «Непременно проиграю»; потом постучал пальцем по твердому воротничку писарька и добавил: «Какой у вас, приятель, гнусный галстук… И совсем не модный: теперь уж никто не носит таких». Потом пришла мысль: «Не обсчитался ли как-нибудь впопыхах Безотчетов, не положил ли меньше?», и при писарьке он вскрыл пакет, пересчитал деньги и запечатал их снова в свой конверт.
Кучер Матийцева, Матвей Телепнев, имевший седую уж бороду, а лицо, как у парня, совсем свежее и без морщин, правил бодро, не так, как другие, важные и тупые кучера. Но теперь раздражали Матийцева бестолковая его суетня и покрикиванье на лошадь: «Но-о, идет она!.. Но-о, миляш!..» Миляш был старый мерин, и имя его было почему-то странное: «Живописец». Из-под копыт грязные комья швыряло в лицо, – все приходилось жмуриться и прятаться за Матвееву спину. Небо было серое, косяком в нем вечерние галки летели; жаворонки-посмётушки вспархивали с дороги. Сурепица желто бросалась в глаза, когда объезжали химический завод полем, над которым в горьком дыму катились нудные вагончики. Когда огибали крайние домишки поселка, двухлетка-девочка в зеленом, по-бабьи повязанном платочке и розовой рубашонке копалась в лужице на самой дороге. Матвей крякнул и взял влево от нее, а она тоже побежала влево на тоненьких белых слабых ножонках. Едва успел остановить лошадь Матвей. Бежала к девочке от калитки растрепанногрудая рыжая баба. Матвей погрозил ей кнутом и крикнул:
– Тты-ы, тварь! Загубишь когда-сь детину!
А Матийцев скучно поглядел и на бабу, и на девочку, и на Матвееву справедливую спину, – на все одинаково.
Проехала стороной по улице свадьба в несколько бричек: мокрые лошади в лентах, пьяные бабы в лентах, сиплая гармоника, простуженная песня (ох, какая противная!) – должно быть, из деревни какой-нибудь верст за десять прикатили покрасоваться, и Матвей все оборачивался на них, пока их было видно.
– Ишь, – сказал он, когда они скрылись, – кого-сь пропили.
– Ну? – спросил Матийцев.
– Свадьба, говорю, – гуляют.
– Ну?
– Как у нас в Орловской губернии, так и здесь, стало быть… закон один.
– Ну-у?
Матвей усиленно задергал вожжами.
– Но-о, миляш!
И уж больше до самой станции не поворачивал головы к Матийцеву.
Только, когда возле станции попалась девица-подросток в белой шапочке и красной юбке, на хлюпающем по лужицам велосипеде, он буркнул в ее сторону, но про себя:
– А что бы сказать ей, что непристойно женскому полу так… Аж даже и смотреть срамно.
На станции как будто продолжалась еще «Наклонная Елена»: паровоз, маневрируя, пыхтел и свистел, угольным дымом пахло, угольные склады растянулись вдоль пути, рельсы были навалены под навесом, несколько человек шахтеров-татар, направляясь домой, сгрудились на платформе со своими мешищами… Но в зале первого класса были как бы новые люди: чисто одетые, собирающиеся куда-то уехать… уехать так же, как собирался он.
В одном углу разговаривали оживленно двое, по виду конторщики.
– …Тенор, два альта, первую скрипку, – вот и все, – говорил один, с победоносными усиками и в шляпе пирогом, другому, с усами плохими и с краской в лице, но тоже, должно быть, музыканту.
– Двух альтов не соберешь, – отвечал другой.
– Как не соберешь… А Мишка Криворучка?
– Только Мишка.
– А этот… что ты говоришь?! Этот, глаза лупоглазые… черт его знает…
– Сивограч?.. Да он в Кривой Рог уехал.
– Ишь, черт!.. Ну, тенор, один альт, первая скрипка, вторая скрипка?
– Это можно.
– Ну и ни черта! С одним альтом.
– Да и с одним альтом ничего.
– А конечно ж… Вот черт!.. Уехал!.. Давно?
– С месяц.
– Ну, и с одним альтом сойдет… Ничего.
Подумал немного, поглядел беспокойно.
– В Кривой Рог? Далеко уехал, черт его… А другого альта совсем нет?.. Одним словом, – никак нельзя?
– Н-нет!.. У нас нигде нет.
– Гм… Ни черта! – махнул рукой и ударил себя по ляжке. – И с одним ничего.
– Разумеется, что ж…
– Тенор, первая скрипка, вторая скрипка, альт… А модные танцы знают?.. Па д'эспань? Шакон?..
«Опять где-то свадьба, – подумал насмешливо Матийцев: представил Лилину свадьбу. – У нее-то уж наверное будет какой-нибудь полковой оркестр… и танцы несколько более модные…»
А в другом углу тоже поджидали поезда подполковник с огромной головой и путаной бородой, в черных очках, скрывающих косоглазие, и пожилая высокая дама, у которой ярко и страшно блестел изо рта золотой зуб.
Что-то рассказывал оживленно подполковник:
– И вот на границе у этой моей спутницы, – вообразите! – находят… как это… Ах, боже мой!.. – защелкал пальцами, – вот из вишен варят…
– Варенье, что ли?
– Варенье! Вот именно: варенье!.. Пять банок, не особенно больших – средних… да. Извольте, говорят, заплатить штраф шесть-де-сят восемь рублей! За пять банок… этого… а?
– Да она бы их отдала им просто…
– Вот! Она: «Возьмите их, пожалуйста, себе, когда так… мне они не нужны»… – «Нельзя, – нам они, сударыня, тоже не нужны, а извольте-ка заплатить штраф за обман… шестьдесят восемь рубликов!..» Заплатила.
– Заплатила?
– Заплатила!
Дама сверкала, улыбаясь, своим золотым зубом, а Матийцев смотрел на нее с испугом: «Вот и у Лили лет через пять появится вдруг такой же зуб… какой ужас… Появится, и любуйся им целую жизнь… Какой ужас!»
Но еще ужаснее показалась Матийцеву другая дама с двумя небольшими детьми: плосколобая, с маленькой головкой, такая некрасивая, что было страшно как-то, что у нее вдруг дети.
«Как ты смеешь иметь детей? Ты не смеешь иметь детей!» – так назойливо и четко думал Матийцев, точно шептал, остановясь перед ней и упорно брезгливо глядя прямо в ее маленькие глазки и тяжелую нижнюю челюсть. Дама наливала в чашки молоко из бутылки, как всякая мать, дети болтали ногами и гнусавили, как всякие дети, но Матийцев, отходя от них и возвращаясь и опять брезгливо следя, назойливо думал: «Как ты смеешь иметь детей? Ты не смеешь иметь детей!..» И сердце у него явно болело, то толчками, то сплошь. А на перроне, куда вышел освежиться Матийцев, просторный круглолицый малый говорил бабе в теплом платке, что он едет «на ярмарок менять коня лутчева на коня худчева», и баба говорила: «Ты и вправду не вздумай…» Рядом же с ними кто-то спокойный, с лицом подрядчика из калужских плотников, полускивая жареные семечки, рассказывал другому такому же: «Повздорили, – а парнишка был при силе, – как вдарит его в легкое место под сердце, – у того изо рта пена клубком, – пять минут жил…» А другой, тоже пуская семечки, соглашался: «Это бывает…» Голодного вида щенная сука на трех ногах, пегая, с просящей мордой, приковыляла к ним, подрядчик болтнул в ее сторону ногой; она пробралась к просторному малому; малый зыкнул на нее: «Пшла, черт!» Из кучки шахтеров-татар еще издали кто-то бросил в нее чуркой.
И небо над станцией было все в вечерней заре, такой желчной, растревоженной, сырой, чрезвычайно неуютной, как будто ему и в высоте – нестерпимо и ближе к земле – чадно. От него лица у всех повосковели, лохматые осокори, взъерошенные ветром, имели вид тоскующий и несколько с горя пьяный, и грачи в них омерзительно неприятно орали, кружась около гнезд, непричесанно торчащих во все стороны, собранных кое-как, без любви к делу и месту, лишь бы поскорее нанести яиц, навысидеть грачат и разлететься.
– Вы, наверно уж, занимаетесь магнетизмом?
– Почему? – спросил Матийцев, удивясь.
– У вас такие блестящие глаза… Ну, конечно же, вы магнетизер, – вы мне сказали: «Я займу верхнее место», – а я вам сказал: «Пожалуйста», – а сам всю дорогу об этом думал: «Войдет если кто в наше купе, я ему уступлю нижнее, а сам займу верхнее, потому что там спокойнее и можно уснуть…» Но вы на меня посмотрели блестящими глазами, и я все свое забыл, а ваше исполнил. Значит, ваша воля сильнее моей.
– Конечно, сильнее, – сказал Матийцев.
Тот, кто говорил с ним, был низкого роста и коренастый, лет сорока, рябоватый, белобрысый, с красной лысиной на темени, с лицом вообще простонародным, но неспокойным, и глаза у него тоже блестели, и на белках были красные жилки; может быть, он тоже не спал перед этим несколько ночей.
– Вы сказали: «Конечно», – значит, я не ошибся!.. Вот видите, как я знаю людей… У вас подушки нет, – положите вот валик; садитесь, посидите пока. Да, замечательно!.. У простых, обыкновенных людей не бывает таких глаз… проницательных…
Кто-то третий в купе спал или готовился спать, обернувшись к ним спиною; на верхнем месте, напротив, лежала чья-то разобранная постель, свечка в фонаре светила тускло, и сосед Матийцева, точно притянутый, смотрел совсем близко ему в глаза. «Что он такой странный?» – думал Матийцев.
– Вот я у вас и попрошу совета, а если вы не дадите, то, значит, никто не даст. История моя такого рода. Я, видите ли, дорожный машинист, еду по служебному билету, – и еду я тоже в Ростов просить начальство насчет перевода. Я, заметьте, семейный человек, даже лучше сказать, многосемейный: семь душ детей, два последних – близнецы, а соперник мой – он одинокий брюнет, глаза с поволокой, а волосы хоть и жидкие, все-таки хорошие, кудрявые, только с начальством он никак не может ладить… А мне втемяшилось в голову: город, в котором он служил (не буду его называть, чтобы не путать лишнего), – вот, значит, город этот лучше моего, есть полная гимназия, чтобы детей учить, продукты дешевле… Прошу перевода. Перевели нас – один на место другого. И что ж вы думаете? – Конечно, красивым людям все удается… Ему удалось, а мне нет… Ему открылись добавочные штаты – понимаете – больше жалованья (а зачем ему? – ведь холостой), – а я на то же жалованье в большой город. Плата в гимназию здесь сто рублей, а у нас было пятьдесят – при семи человеках это что значит? Продукты не дешевле, а даже, напротив, дороже… И только перевели нас – в тот же год полная гимназия и у нас открылась!.. Что вышло-то! Вот еду хлопотать, чтобы опять переместили взаимно один на место другого… а?
И, понизив голос так, что за стуком поезда еле было слышно, совсем приблизив к нему круглую голову, положив осторожно руку на его колено и впившись глазами в его глаза, он спросил:
– Удастся мне это?
– Не знаю, – ответил Матийцев.
– Ка-ак?.. Вы посмотрите на меня внимательно, – тут он вскочил, отдернул получше занавесочку фонаря и стал перед Матийцевым, опустив покорно руки. – Не забудьте того, что у меня шанс: он одинокий, гордый поэтому, с начальством ладить не умеет, я же…
– Удастся, – сказал твердо Матийцев, не улыбнувшись даже.
– Вот!.. – Машинист облегченно вздохнул и стал вдруг трясти его руки. – Вы меня возродили!.. Как увидел я давеча ваши блестящие глаза, думаю: вот! Это – встреча! Воскрес духом… Конечно, удастся! Начальство меня знает: службы – пятнадцать лет… Ведь они должны ценить это, хоть я и невысокого положения человек… А тому, сопернику моему, совершенно безразлично… спасибо вам… Вы для меня много сделали. Это факт.
И Матийцеву странно было ощущать его осторожные пальцы, благодарно гладящие зачем-то его колено, и почему-то стыдно было немного, что колено у него худое, с выдающимися мослаками (колено, которое завтра умрет). А машинист, ерзая беспокойно и поднося к его глазам свои, завел скачущий, беспорядочный, захолустный разговор о предчувствиях и снах, о воспоминаниях из какой-то прошлой жизни, которая будто бы должна быть у всех, о чудесных случайностях, обо всем том, чего нет ни в каких точных науках, но во что так хочется верить человеку, особенно если сидит он много лет в маленьком городишке, получает маленькое жалованье и считает себя обиженным судьбой.
Пришел тот, чья постель была наверху, – его как следует не разглядел Матийцев, – не торопясь разделся, хотел было почитать при свете газету, пошуршал, пошуршал ею, вздохнул, что нет электричества, и улегся спать.
И уже несколько станций проехали, а машинист все решал какие-то свои вопросы, поминутно обращаясь к Матийцеву. Иногда Матийцев вставлял скупые слова – так неотступен был машинист, а иногда ловил себя на том, что его занимает даже эта беседа, как занимает иногда взрослого беседа с детьми. Только то, что он уже не только гладил, а обхватил даже его колени, совсем не понравилось Матийцеву.
– Что это вы за меня так ухватились? – сказал он наконец. – Так человек за человека хватается в последние минуты только, когда, например, тонет.
– Я и тону!.. Вы что же думаете? Я, конечно, тону, потому я за вас и ухватился… Это мне бог вас послал!.. – подхватил машинист, но руку с колена все-таки снял и обеими уже руками затыкал в воздух еще оживленнее.
– Ведь бог не почил от дел своих в седьмой день, – это неправильно… Он не почил, и изменения происходят постоянно, мы их только не замечаем… Не так ли?
– Мудрец древний сказал на эту тему: нельзя искупаться дважды в одной и той же реке, – скучно вставил Матийцев.
– В одной и той же реке действительно нельзя, в реке вода текущая, – подхватил машинист, – а в пруде можно, в пруде сколько угодно, – там вода стоит… А вот что лучше скажите, что я слыхал недавно… Как простой человек стрелочник рассказывал, так по его и я буду… Будто царь Соломон заказал перстень золотых дел мастеру с вырезной надписью – изречением таким мудрым, чтобы смотреть на него – ведь перстень всегда при себе, на руке, и вот… в радости не очень радоваться, а в горе не очень скорбеть… Перстень, конечно, не особенно большой, что на нем вырежешь? Золотой мастер думал, думал и вот вырезал три буквы: сы, ны, мы… Как стрелочник рассказывал, так и я вам по его… Что же это за буквы? Соломон спросил мастера этого. Тот объясняет: «Вот это мое изречение и есть: „Се на свете минается“. Замечаете? – смысл в этом анекдоте такой же, как в вашей „реке“… Мудрецов, вышло, двое, а сказали одно и то же… Значит, смысл вообще один. Или я по необразованности своей сделал такой вывод?»
А Матийцев, думая о своем, сказал:
– Древние начинали понимать предел сил только к концу своей жизни, теперь раньше старятся и раньше это понимают.
– Верно!.. Вот верно! – машинист задвигал руками. – Я как-то племяннику своему Вите (он сын чиновника, – сестра моя замужем за чиновником казначейства) говорю: «Ты, Витька, уж большой… Тебе сколько лет?» – «Пять», говорит. «Ого, брат, тебе еще чертову пропасть лет осталось на свете жить!» – «Ну, говорит, какую пропасть!.. Лет сорок или пятьдесят проживу да помру». – «Что-о?..» Знаете, он меня испугал даже!.. Ведь клопенок: пять лет всего. «Да ты, говорю, может, двести лет проживешь, – почем ты знаешь?» – «Ну-у, говорит, двести лет это только в старину люди жили, – теперь не живут». Испугал меня; смотрю на него, что же это? – пять лет всего на свете жил, а уж конец своей жизни видит? «Да я, кричу, в твои годы думал, что смерти никакой и нет, чертенок ты этакий, а ты что тут?» Да и на сестру свою накинулся потом: как смеешь его к мыслям таким приучать?.. Не так ли? Не правда ли?.. Прямо я бы изувечить за это мог!
– Двести лет жить, это очень много, и это чрезвычайно скучно… и это – совершенно лишнее, – сказал Матийцев.
И так как машинист только отшатнулся и глаза открыл и расставил руки, но ничего не возразил, не понимая, то Матийцев объяснил:
– В физике есть такой закон: каждое тело в воде весит меньше ровно настолько…
– Знаю!.. По улице бежал голый и кричал: «Нашел!..» Грек Архимед!
– Ну вот… Образно говоря: все, что попадает в человеческий мозг, становится легче именно настолько, сколько весит вытесненный им мозг… Земной шар, например, изучен достаточно, и насколько он изучен, настолько же он и усох… и так во всем… Что же вы будете с двумястами лет делать?
Машинист пригляделся к нему недоверчиво, приблизил глаза, чмыхнул, покрутил головою и очень оживленно заговорил:
– По этому поводу, чтобы вам ответить, я вам расскажу один факт… В том городе, видите ли, где я жил и куда опять хочу перевестись, – он стоит при море, – образовалась слобода «Нахаловка»: так прозвали их за нахальство, а нахальство вот в чем. – Он опять забывчиво положил руку на колено Матийцева. – Вопрос местный: морская отмель – узенькая полоска – чья она?.. Конечно, ей владелец общество. Но захватить ее надо – голытьбе, разумеется? Несомненно. Как это сделали? Вот как – я вам объясню. Поставит он самую скверную, из глины, печку с трубой и начнет потихоньку дымить… День дымит, два дымит – домашний очаг готов. А в таких случаях, если вам это неизвестно, самое главное – домашний очаг: давность с него считается. Потом начнет его обтыкивать с четырех сторон камышом: замечаете? – стены! Так это иногда два-три года тянется – все обтыкивает. Посмотрит на голяка другой голяк, – и себе такое мастерит… А тот уже смело крышу вывел – у того уже давность… Вот так она и получилась – слобода «Нахаловка». Дай же с моря урагана хорошего – и пропала «Нахаловка», потому что все на курьих ножках и удобств никаких.
Тут машинист остановился и добавил значительно:
– А приличное место на земле – оно по-ря-доч-ных денег стоит!.. Но многосемейному человеку надо его иметь. Это и есть моя заветная мечта!.. Но вы, может быть, спать хотите, а я вам мешаю?
– Нет, ничего… спать не хочу, – усмехнулся Матийцев. – Я себя отучил от этого… Нужно убедить себя, что только что спал, – и все.
– Хорошо, у кого сильная воля!.. Эх, я вам страшно завидую! – горячо отозвался машинист. – А я слаб – я не могу так… Только что же это, – я вам рассказать о «Нахаловке» рассказал, а к чему это – не объяснил. Вот я к чему, вслушайтесь, прошу вас… Впрочем, вы, как умный человек, может, и сами поняли, к чему я это?.. Ведь по-вашему выходит, что земной шар весь свой вес потерял, а по-моему выходит почему-то: слобода «Нахаловка»! Но, конечно, вы… с вами я не в состоянии спорить, – вы из меня можете сколько хотите веревок навить. Только я знаю, что ребята мои – уж столько они рубах и штанов рвут и столько раз в день носы себе квасят – все еще земной шар изучают!.. – И вдруг понизил голос: – А вы верите или нет в переселение душ?
– На что вам еще и переселение душ? – изумился Матийцев.
Глядя на круглую голову машиниста, он представил вдруг нелепую возможность, что есть душа и что она неистребима никак и остается на земле после смерти… И вот она, его душа, упрямо воплощается в какого-нибудь Божка и опускается в шахту целую жизнь копать уголь, лязгать вагонными цепями и мучить лошадей…
А машинист подхватил живо:
– На что?.. А вдруг, представьте, сейчас крушение (а на этом перегоне уже было однажды крушение), и вот вы-то останетесь целы и невредимы (красивым людям все удается), а я – убит. Значит, я на земле со счета долой, а как же дети? Их ведь у меня семь человек, и все мелкие… Нет, я списаться со счета не хочу, я их вывести в люди должен… не так ли? Ведь поймите же – у них совершенно ничего – ни копейки одной ни в каком банке!.. Ничего!.. Мной одним они живы… Если бы мог кто-нибудь им меня заменить – но ведь не может… Кто может им меня заменить?.. Никто!.. Поэтому я непременно воплощусь!
– Нет, эта затея совсем дурацкая, – резко сказал Матийцев.
– Гм… Я с вами согласен, конечно, что дурацкая, но… что же я могу другое сделать?..
– Право, не знаю.
– Вот, вы не знаете, и я не знаю, и никто не знает. Вы мне скажете: общество. А что же общество из них сделает, если даже допустим? Пастухов?!. А, может, при мне из них Архимеды выйдут?
Машинист бился перед ним и жужжал, как муха в паутине. Он не только надоел Матийцеву: для него по-молодому захотелось что-то придумать – просто как бы задачу решить, посоветовать действительно что-нибудь такое, чтобы могло укрепить его на земле вместе с его потомством.
Так, незаметно для самого себя, Матийцев разговорился, а машинист, вставляя замечания, ликовал:
– Видите как! Вы мне речь, и я вам свое слово, – так мы и плетем плетку… Значит, я уже развился до того, что могу вас понимать – не так ли? Хоть и говорить как следует не умею, а понимать могу.
Но вот остановились на одной небольшой станции, и машинист сказал отчетливо:
– Станция «Душак»,
Начальник станции – ишак,
Помощник – верблюд.
Поезд стоит пять минут…
Стих сложен про эту станцию давно, и теперь ишака уже нет в живых: отравился… Фамилия его была Сердюков, пузом вперед ходил, из себя чрезвычайно красный – краснее своей фуражки… Заграбастал пять тысяч казенных денег – поехал в Москву в карты играть… Говорят, сначала был в выигрыше огромном, а потом случился казус: все там оставил… Приехал сюда и отравился… Вот вам и ишак.
Матийцев ничего не сказал, только внимательно оглядел станцию из окна, представил пузатого, красного, краснее фуражки, и стыдно стало как-то, что сам он сидит и рассуждает о том, что совершенно не нужно уж ему; зачем же это?
– Вот мы столько времени говорили о разных вопросах, а вы не устали, – продолжал между тем машинист. – Первого человека такого вижу, – честное слово!.. Вот что значит, – я угадал вас с одного вашего взгляда блестящего!.. А вы не рисуете ли? Да? Не так ли? Хотел бы я вашего совета послушать относительно одного моего малыша: рисует, представьте, восьми лет мальчик, и очень хорошо, и лицо человеческое, например, в профиль я ему еще могу показать, а фас – кончено! Тут камень преткновения!.. С чего нужно начинать фас, скажите: можно с волос, можно с бровей и глаз, можно с носа, нос – это самое трудное, но с чего правильней?
– А не будет ли уж нам, собственно говоря… – сказал морщась, Матийцев.
– Ага!.. Та-ак! А не «собственно говоря»?..
И вдруг Матийцев увидел, что машинист смотрит на него торжествующе и саркастически, что перед ним все время был в сущности саркастический человек, так как у саркастических русских людей глаза именно вот такие зеленовато-светлые, в морщинках. Большей частью эти люди сухопары, но если у них не болит печень и легкие и сердце в порядке, то они вот именно таковы: плотны, бодры, с лысинкой на темени, с рябинами или веснушками на щеках, и все время тычут руками.
А машинист говорил язвительно:
– Я вам сказал: «Значит, ваша воля сильнее моей», а вы мне сказали на это: «Конечно!» Теперь же на проверку выходит, что моя сила сильнее вашей – не так ли? Я не устал, а вы вот устали… Ну, ложитесь поспать на свое верхнее место, только теперь до Ростова один час езды, и, пожалуй, не стоит…
– Так что же это вы меня перехитрили, значит? – «Верхнее место я тебе отдам, а уж спать не дам, шалишь!.. Буду вот все время разговоры говорить…» Так, что ли?.. Угадал? – улыбаясь, сказал Матийцев. И с чувством большой взрослости, законченности, маститости, точно уже седая с желтизной борода у него выросла, добавил ласково: – Ах, вы, петушок, петушок!
В это время в темной степи блеснули огоньки какой-то станции, и Матийцев вышел посмотреть, да так и остался на площадке до самого Ростова. И когда он думал о машинисте, показалось, что он им обижен, и обида эта была не в нем самом, а в том, что он рассказал о начальнике станции. Пузатый, красный, а вот предупредил же его… и сотни тысяч предупредили его в этом, и завтра в одиннадцать часов вечера в разных углах земли упразднит себя так же, как он, Матийцев, быть может, тысяча человек, так что, и одиноко умирая, он не в одиночестве умрет.
Когда поезд подходил к Ростову, Матийцев увидел, как машинист, уже одетый, приоткрыл дверь на площадку и сказал:
– Сейчас Ростов!.. – Постоял немного и исчез; а на вокзале, проходя мимо него, успел все-таки в толчее и суматохе, приподымая прощально кепку, сказать таинственно, блеснув глазом: – Я понял, с кем я имею дело.
«Что же он такое понял?» – подумал Матийцев, но машинист затерялся в толпе и больше не попадался.
В коммерческом клубе, куда с вокзала приехал Матийцев, в небольшом саду так понравилось даже это (насколько могло теперь что-нибудь нравиться Матийцеву): вмешаться одиноко в принаряженную публику и вместе со всеми, не торопясь, размеренно ходить по аллеям между цветами: так непохоже это было на грязные вонючие копи. Аллеи были усыпаны желтой ракушкой, электрические шары сияли ровно, трепещущие вуали трогательно окрыляли дам, даже пожилых и тучных. Перед большой эстрадой для оркестра подымались высокие розовые гладиолусы и еще какие-то миловидные цветы с сильным запахом, а вверху над эстрадой, как всегда, сверкала разными огоньками лира.
В оркестре было все, как в порядочных оркестрах: и капельмейстер во фраке, с длинными темными волосами, когда-нибудь, может быть, и густыми, но теперь совсем уже не похожими на нимб, и много скрипок, и много альтов (Матийцев искренне пожалел того бедного любителя альтов, который встретился ему на станции), и виолончелист был почему-то загримирован под Тютчева и при игре умышленно устало наклонял то вправо, то влево голову, а господа с флейтами и кларнетами были все, как на подбор, очень изящные, молодые, упитанные, видимо уверенные в себе люди; и даже одна девица была в оркестре – скрипачка в розовой шляпке, и к ней, чаще, чем к другим, наклонялся весь влюбленный в звуки капельмейстер, а у нее смычок казался бесконечным от длинной тонкой белой руки и потому всемогущим.
И не столько сознанием, сколько сердцем Матийцев ощущал в этом какой-то тупой угол, из которого никогда уж и никуда не выйдет человек. Он, Матийцев, завтра умрет, а люди – так вот и будут они и через пятьсот лет: сад в городе, ровно горящие фонари, цветы, пересаженные из теплиц (цветы непременно), оркестр, высокий или низенький капельмейстер, который особенно будет горячиться, когда дойдет до «Тореадора» или другой («Тореадора» тогда уж, конечно, забудут), еще более бравурной штучки, во все стороны будет совать руками, приседать, изгибаться, волноваться ужасно, и будет дрожать и вспархивать тощий хохолок над его лысиной. А виолончелист загримируется тогда под другого из гениев, более близкого к его эпохе, но так же будет то направо, то налево плавно склонять голову, и у первой скрипки, девицы (впрочем, тогда все первые скрипки будут, должно быть, девицы), бесконечным и белым будет казаться смычок от длинной, узкой, белой руки. И в рядах публики кто-нибудь молодой и неумелый будет шептать что-то под вуаль своей соседке, а та улыбнется про себя одной улыбкой, ему в лицо – другою и в лицо кому-то совсем незнакомому, случайно поглядевшему на нее сбоку, – третьей, самой загадочной.
Публику из сада скоро разогнал внезапно брызнувший дождь, и, выходя вместе с другими, Матийцев вспомнил, что выбрал этот клуб только затем, чтобы поиграть здесь в карты. Однако, привычно нерешительный и никогда не игравший, он и теперь долго стоял у входа в клуб и думал, не лучше ли пойти погулять по улицам (дождь проходил уже), найти тихую гостиницу, взять номер окнами во двор, попытаться заснуть, но случайно мимо прошло двое офицеров, и один спросил у другого: «О скольких зарядах?» Вопрос был чисто военный, казалось бы никакого отношения к Матийцеву не имеющий, но, даже не расслышав ответа на него, он тут же отворил дверь.
Нужно было записаться у швейцара, и в графе «Кто рекомендует?» Матийцев добросовестно начал искать какую-нибудь знакомую фамилию, например Мирзоянца, но не нашел. Понравилась фамилия Альтшуллер: представился добрый старый немец, которому отчего бы не поручиться за инженера Матийцева.
Сюда через открытые окна доносилась музыка из сада, и, когда подымался в игорный зал Матийцев, в саду играли знакомый ему вальс Вальдтейфеля. Из этих двух длинных фамилий – Альтшуллер и Вальдтейфель – слепилось почему-то в представлении Матийцева веселое кружево, похожее на цифру 8.
В комнате узкой и длинной, с совершенно голыми стенами, в углу, ближе к лестнице, по которой то и дело скользили, позванивая посудой, официанты, за круглым большим тяжелым столом сидело человек восемь, а человек пять стояло за стульями, и, конечно, все курили и были в дыму. В дверь из этой комнаты видна была другая с тремя такими же столами: там было много народу, много шума, а накурили там до густоты тумана. Там были «серебряные» столы, и туда даже не зашел Матийцев, но за золотым столом в этой комнате он долго стоял, цепко всматриваясь в лица.
Прямо против него сидел очень толстый, молодой, но лысоватый, по-поросячьи розовый, с белыми ресницами и бритым лицом; глаза были сильно навыкат, а нижняя губа как ступень. Глядел он на всех почти кротко, часто вздыхал; оборачиваясь назад, где у него стоял столик, пил коньяк и закусывал лимоном. Был в белой куртке с костяными пуговицами, крупными, как пятаки, и бело-розовое широкое пятно это в синем дыму ярче всех бросилось в глаза Матийцеву. А рядом с этим справа выявился и другой, армянин должно быть, с высоким и прямым узким корпусом, квадратной головою, усаженной черным блестящим волосом, и с бледным, как свиток, растянутым лицом. Нос у него был очень длинный и даже на конце ущемлен, как будто стремился когда-то вырасти еще длиннее. Этот весь ушел в себя, точно творил какую-то «умную» молитву, и даже глаз почти не подымал: все глядел только вниз на свой угол стола. Зато против него сидел пожилой, изможденный, весь в серых завитках, и без того маленький, а тут еще прижавшийся к ребру стола кадыком, точно нестерпимо сильно болел у него живот, а ведь встать из-за стола никак невозможно. И когда кто-нибудь становился сзади за его стулом, он складывал умоляюще руки и шипел:
– Ах, не стойте вы, пожалуйста, над душой!.. Ну чего вы подошли?.. Ну что вы стали?.. Вот как вы подошли, так и… Отойдите же, я вас прошу! – и все отшвыривал от себя сзади стулья, чтобы кто не сел.
Волновался и еще один, с преувеличенно славянскими, пухлыми, длинными великолепными русыми усами и наивным стеклянным взглядом, но этот все больше норовил громко ударить по столу кулаком и сказать, откачнувшись и посмотрев на всех: «Вот черт! А?» И когда выигрывал много кто-нибудь другой и когда проигрывал он сам, одинаково: «Вот черт! А?»
Был еще серенький гладенький судейский в золотых очках. Этот все считал деньги в своем столике и имел озабоченный потный вид, как суслик у норки в жаркий день. Глаза из-под очков весьма недоверчиво бегали но соседям, и по тому, что справа, с крашеными усиками и совершенно голой головою, и по тому, что слева, с головой, как у ястреба, весьма прихотливо поседевшей мелкими, как гривенники, пятнами, с лицом маркера и с дамскими башмачками из голубой эмали на серебряных запонках манжет.
А восьмой из игравших был почему-то менее заметен, чем другие, хотя вид имел более состоятельный и менее напряженный, был похож на заводчика или крупного коммерсанта, все время мечтательно курил, как будто только затем и пришел сюда – покурить в приятной компании, а играл только потому, что за этим столом все играют. Был он умеренно плотен, не стар, имел холеные руки, и пахло от него духами.
Но и те, кто стоял сзади за чужой игрой, занимали Матийцева: один тем, что все неотрывно нюхал, подавши кверху кулаком, свою рыжую бороду; другой тем, что все вертел в руке золотой и боялся и все стремился поставить мазу, а третий сановного вида старик с благожелательным большим лицом, заметив на себе взгляд Матийцева, сам подошел к нему и спросил:
– Вы понимаете игру?
– Нет, не совсем понимаю… Хотя сяду сейчас, если откроется место, – сказал Матийцев.
И место открылось скоро: поднялся как раз этот восьмой. Он дал понять, что ему чрезвычайно некогда, и, медленно торопясь, ушел, а когда служитель с наглым, насмешливо-бездельным, городским лицом, нумерованный 23-м, крикнул в серебряный зал: «За золотым столом место!..», Матийцев поспешно занял свободный стул, старик же с сановным видом сейчас же устроился за его спиною. Пожилой, в серых завитках человек пришелся Матийцеву левым соседом. Справа как раз сидел толстяк в белом, который упер в него глаза, до того выпуклые, что Матийцеву не верилось даже, что они способны закрываться плотно, когда он спит.
В своем ящике Матийцев нашел мелок, пепермент, штук пять окурков и пустую спичечную коробку, а положил туда свои восемьсот рублей, из которых отсчитал старательно пятьсот сорок и отодвинул к сторонке. Как он с ними поступит, пока еще не знал.
Все время чувствуя себя уже почти не здешним и уж совершенно чужим этому странному столу, Матийцев сперва издалека улыбался всем, вслушивался в то, что говорили, и, мало понимая, делал что-то, что делали другие: то нужно было совать на круг пятирублевку, то сидеть и ничего не совать, но минут через десять он уже осмотрелся, с одного взгляда мог сосчитать очки двух карт, отрываемых с машинки теми, кто закладывал банк. Начала появляться смелость и решительность, когда понял он самое важное, что каждый тут отвечает только за себя (это всегда делало смелым Матийцева), и, когда толстяк заложил в банк пятьдесят рублей (больше здесь никто не закладывал) и пришлось в первый раз понтировать Матийцеву, он пошел на весь банк и проиграл, а потом добродушно оглядел толстяка и сказал, улыбаясь:
– Ну, конечно, где же мне вас одолеть!
Толстяк только покосился на него, не мигнув белыми ресницами, облизнул нижнюю губу и отвернулся пить абрикотин.
Это обидело Матийцева. Теперь играл он. Он вынул сторублевую бумажку и положил на круг.
К человеку в серых завитках, в это время доставшему деньги, подошел сзади какой-то нескладный, с узкой головой и широким лицом, и склонился над ним дружески.
– Рипа!.. Прими пятерку мазу.
– Ах, отстань, пожалуйста, – фыркнул Рипа и почему-то тут же поглядел на Матийцева так, что Матийцев не выдержал и крикнул:
– Что вы глядите на меня… ненавидящими глазами?
– Я-я? На вас глаза-ами?.. – Рипа вздернул изумленно плечом, снова фыркнул, выпятив губы, оглядел быстро всех, ища сочувствия, отодвинулся от Матийцева и сказал, как будто ничего не было: – Дайте карту, пожалуйста!.. Мои – двадцать пять.
– Нет-с, постойте!
Должно быть, подумали все, что начнется скандал, потому что задвигали стульями, но Матийцев просто вынул еще сторублевку, еще и еще – все, что он отложил в сторону в своем ящике, набросал это беспорядочно на стол и сказал успокоенно:
– В банке пятьсот сорок рублей.
Это была крупная ставка для таких мелких игроков (серьезные же приходили сюда позже, после двенадцати), да и для серьезных в этом клубе было бы крупно, поэтому все пригляделись к Матийцеву очень внимательно, даже человек под номером 23.
А Матийцев выдерживал все эти взгляды, чуть сощурясь, и думал: «А что? Любопытно?.. К тому же у меня ведь блестящие глаза».
Сановный старик участливо зашептал ему в ухо:
– Что вы делаете? Зачем это? Опомнитесь!
– Ничего… Понтируете? – спросил Рипу Матийцев.
– Я уж сказал вам: мои двадцать пять! – повторил Рипа, фыркнув.
Крупная ставка как-то озадачила всех; протянули деньги другие – кто пять, кто десять, только толстяк положил столько же, сколько Рипа, и сказал своим глуховатым, изнутри идущим голосом:
– Нужно будет взять у вас карточку au rebours[5].
Все в Матийцеве было против Рипы, но когда он оторвал карты ему и себе, он увидел, что выиграл Рипа. Только когда Рипа взял свой выигрыш, он так откровенно хрустнул пальцами, что Матийцев подумал весело: «Не может себе простить, что не рискнул крупнее… И целый вечер не простит, ах, Рипа!.. А сейчас рискнет и проиграет». И был очень рад, когда Рипа осмелился поставить снова двадцать пять и действительно проиграл вместе с пестроголовым маркером, понтировавшим сторублевкой. Маркер сделал вид равнодушный, как хорошо дрессированный легаш, который знает, как вести себя у стола, но желчный судейский, видимо, волновался, ставя в свою очередь двести. Ему везло перед тем, и деньги у него были; в то, что ему повезет и теперь, поверили и другие и сразу удвоили ставку, и приободрился как-то весь стол. Но в Матийцеве появилась откуда-то жесткая уверенность, что судейский ему не страшен со своими золотыми очками и желчным сереньким лицом. Он даже и карт, которые кинул ему, не посмотрел как следует. И судейский действительно проиграл. И, чтобы скрыть смущение, он ненужно подозвал официанта и спросил бутылку содовой воды.
– Вам нужно снять деньги, – шепнул сзади сановный старик. – Имеете право… А то разберут.
– Ничего, – отозвался Матийцев.
– Ничего, пока вам везет!
– Ишь… А ведь мне все-таки везет, значит?! – вслух изумился Матийцев и забывчиво улыбнулся, оглядев того самого с голым черепом и накрашенными усами.
Или ящик у того был почти пуст, или не решался, только он долго возился, вылавливая и выбрасывая на стол мелкие кредитки, и, уже уверенный в том, что выиграет и теперь, раз ему везет, Матийцев весело всматривался в его пожившие руки, щегольской галстук, беспокойные глаза.
– Новеньким всегда везет, – разрешил себе заметить толстяк и добавил: – Нужно будеть взять у вас карточку au rebours.
– Что ж, берите, – предложил Матийцев.
– Нет, не сейчас… погодя.
– Набираетесь силы?.. Вас все равно не одолеешь, – проговорил, как прежде, Матийцев, но теперь толстяк не отвернулся к абрикотину, а только облизнул свою губу-шлепанец и повел бычачьими глазами.
Тот, с голым черепом, проиграл (Матийцев принял это как должное), и лицо у него стало вдруг усталым, задумчивым, томным. Потом он начал крутить усы поочередно, то правый, то левый, очень долго и старательно, как молодой корнет. Потом таинственно зашептал что-то своему соседу, судейскому, на что судейский, насупясь, буркнул ему: «Нет, оставьте, я не могу», – кашлянул и заметно проглотил, а ногою под столом привычно зашаркал, как будто бы плюнул на пол.
Поглядев на него, Матийцев бросил официанту:
– Человек! Дайте и мне содовой воды.
Владелец роскошных усов, до которого докатился банк Матийцева, сделался весьма оживлен. Он глядел на соседей своим стеклянным взглядом – на каждого порознь и на всех вообще, – все как будто стараясь прочесть где-то, как ему поступить. Комкал в руках две бумажки: сторублевку и пятьдесят, и выдвигал вперед то одну, то другую. И на Матийцева долго глядел, не отрываясь, как будто хотел сказать: «Да посоветуйте же, черт возьми!.. Будет вам и теперь везти или нет?..»
– Понтируете? – любуясь им, спросил Матийцев, положив руку на машинку.
Славянин усиленно заработал руками.
– Сто!.. То есть пятьдесят!.. Нет, сто, – пусть!..
Задвигал низко остриженной головой и нахмурил брови.
Матийцев давал ему карты медленно – двойку и тройку, а себе положил семерку и даму.
Славянин поглядел на него бешено, стукнул кулаком и крикнул:
– Вот черт! А? – и, неизвестно зачем, развернул оставшуюся бумажку, сделал вид, что на нее плюнул, и спрятал ее в свой ящик.
– Он весь стол обобрал! – весь вздернувшись, вознегодовал Рипа.
– Не «он», а «они», – сказал Матийцев, – и не «обобрал», а «обыграли».
– Ну, хорошо, хорошо! – поднял Рипа руки, как богомол, и сделал губами неопределенный звук.
Старик дотронулся сзади до плеча Матийцева, кивнул на кучу денег на столе и сказал, открывая его ящик:
– Советую.
– Ничего… еще только двое, – улыбнулся ему Матийцев. – Уж пытать счастье, так пытать, – как полагаете?
– Ну, сейчас я попрошу у вас карточку au rebours, – сказал толстяк.
Губу-шлепанец он вытер салфеткой, лысину спереди – пестрым платком, руки положил на стол очень широко и прочно и, так приготовясь, ждал.
А Матийцеву все-таки не верилось, что толстяк пойдет на весь банк; что-то уж очень много казалось в банке денег – целая гора всяких бумажек и золотых, и гора какая-то неприступная: уж сколько с нее сорвались и упали. И привык уже он ощущать себя баловнем и богачом. И, глядя на игрока, который должен был понтировать сейчас и копался в своем столе, отчего нос его казался еще длиннее, Матийцев насмешливо думал: «Лет через пятьсот такие носы непременно вымрут… зачем они?»
Но армянин, покопавшись у себя в ящике и подобравши деньги, начал шарить в карманах. Руки у него казались – одни пальцы, и пальцы, как удилища, и сколь глубоко ни были у него запрятаны деньги, он отовсюду их доставал. Из одного кармана выудил замшевый кошелек и, высоко держа руки от стола и работая только концами пальцев, положил перед собою пучок бумажек, развернул и разгладил; из другого – вязаный кошелек с золотом, высыпал золото, сложил столбиком, подсчитал; из бокового кармана – бумажник с одним только билетом в пятьсот рублей – все это делал он в молчании и опустив глаза, точно творил «умную» молитву, и по мере того, как он это делал, стол оживал все больше и больше. Все лица заулыбались, и все заговорили, а он все молчал и считал. Наконец, он спросил Матийцева:
– Вы не снимаете денег?
– Нет, конечно, – ответил Матийцев.
– Сколько же стоит в банке?
– Ого! – сказал славянин, раздувая усы.
– Д-да! – сказал толстяк. – Видно, дал я зевка с оребуром, – и, видя, что Матийцев долго будет считать свои деньги, отвернулся к столику с коньяком и зажевал лимон.
В банке оказалось около тысячи пятисот.
– У меня здесь тысяча триста пятьдесят, – сказал длинноносый, потупясь, – не хватает ста двадцати…
– Ну и ставьте на стол! – подхватил пестроголовый.
– Нет, я на все, я на все, – заспешил армянин. – Я скажу тогда по телефону, и мне сюда принесут деньги… Вы верите?
– Сто двадцать стол разберет, – сказал, подымаясь, Рипа.
– Нет, я на все, – упрямился армянин.
– Да хорошо, я верю – о чем толковать? – и Матийцев, только теперь начавший испытывать то, что называется азартом, радостно представив, что через минуту у него будет три тысячи, посмотрел в упор на армянина, оторвал первую карту – валета – и щелкнул ею по столу, как заядлый игрок. Он чувствовал, что за ним теперь следят все, что сзади него столпились все зрители, какие были в комнате, и оттого там банное тепло, сопенье, переминанье ног, что тут как будто совсем и не в деньгах дело, а в борьбе счастья со счастьем, удачи его, Матийцева, с удачей этого носатого, который побледнел теперь еще больше и совсем вытянулся в старинный свиток: теперь он тоже не опускал уже глаз, а глядел выжидающе (глаза у него оказались желтыми, как у многих птиц). Вторая карта его была девятка. На длинном лице покраснели довольно скулы. А славянин уже заранее сказал свое: «Вот черт!»
Матийцев почувствовал, что что-то случилось уже не в его пользу, и себе оторвал карты нетерпеливо быстро одну за другой семерка, десятка.
– Мое! – сказал он довольно, увидя так много очков, и не понял сразу, почему же ахнул сзади горестно сановный старик и еще кто-то, и армянин длинными-длинными пальцами загребает со стола все его деньги к себе, а толстяк говорит: «Вот и без телефона обошлось».
– Позвольте… у меня семерка и десятка, – удивленно проговорил Матийцев.
А Рипа подхватил злорадно:
– Вы правил игры не знаете!.. Девятка – это-таки и есть девятка, а ваша десятка – бак… – ничего!.. Ноль!
Сановный старик сзади все горестно вздыхал:
– Ну как же можно было, как же можно!
Славянин уже ударил кулаком, толстяк уже выпил абрикотину, счастливец, чтобы не задерживать игры, уже ссыпал деньги в свой ящик, как мусор в яму, а Матийцев все еще не освоился с тем, что так неожиданно случилось. Точно упал: и стыдно, и больно. Но вдруг мелькнула нелепая мысль, и, наклонясь к толстяку, он спросил:
– Это не Мирзоянц?
– Нет, – это Аносов, – ответил толстяк.
Дальше уж как-то незачем было и сидеть. Как будто было сделано именно то, что решено было раньше сделать, и теперь Матийцев как-то поблек, увял. В голове все время шумело, как от вина, лица около примелькались и надоели. Иногда бывали мелкие выигрыши, но и они не давали ощущения игры, не было волнения, вызова, ожидания девятки на вскрышке. Часто он путал от невнимания и извинялся, конфузясь. Наконец, он сунул последние из восьмисот деньги – пятьдесят рублей – куда-то, кому-то проиграл, но так как поставить можно было только сорок, то ему дали золотой сдачи. Этого он и не заметил, и только когда он встал и сказал: «Ну вот я и чист», Аносов двумя пальцами, как журавлиным клювом, захватил монету и через голову протянул ему, а толстяк пояснил:
– Вы забыли вашу сдачу… – На то же, что он сказал, никто уж не обратил никакого внимания, такой это был все сдержанный, самоуглубленный, деловой народ – никто даже и не посмотрел на него внимательно, когда он уходил из комнаты. И наглолицый человек, отмеченный номером 23, так же, как прежде, выкрикнул в серебряный зал:
– За золотым столом место! Кто желающий?
Задержавшись на момент в дверях, Матийцев увидел, что на его место усаживался сановный старик и щеточкой вытирал уже заботливо зеленое сукно; а спускаясь по лестнице вниз, Матийцев думал не о том уже, как это случилось неожиданно, что он проиграл деньги, а о том, что он окончил одно дело и теперь осталось другое: передать пакет Безотчетова Мирзоянцу. То, что было перед глазами, по-прежнему становилось безразлично, ненужно. Стол, из-за которого он поднялся, правда, сидел еще в нем со всеми восемью игроками и теми, кто наблюдал, только он обособился, стал виднее и как будто приобрел какую-то твердость вечности. Он уйдет, как ушел, а они, восемь, не встанут: не могут встать – и никуда не уйдут: это их земная казнь – вечная. Денег у них у всех четыре тысячи (так представилось), и когда кто-нибудь проигрывается почти в пух, он тут же начинает выигрывать снова, и так конца этому нет, глупейшая вечность, а там, куда он уйдет, дует милый и свежий ветер, и открывается вечно какая-то всеобъемлющая мысль.
Когда Матийцев выходил из клуба, около подъезда садились на извозчика двое, оба в широких клеенчатых картузах, добротные, бритые, должно быть немцы-колонисты, и один сказал извозчику:
– В городской сад…
Некоторое время постоял в нерешительности Матийцев, разглядывал ночную улицу и думал о ней без всякой злобы: «Вечная, черт тебя дери!» Но когда извозчики, вдруг сорвавшись, наперебой подкатили к нему, он тут же решил, куда ехать:
– В городской сад…
Понравилось, что еще можно поехать в какой-то сад, где есть цветы, большие деревья, музыка, где можно поужинать, наконец, в последний раз так, как ужинают в городах, а не так, как хочется Дарьюшке, – заказать по карточке, выпить стакан холодного пива, отдохнуть. Те семь-восемь человек, которых он бросил в игорном зале, они плотно засели в нем, во все стороны растопыря локти, все еще продолжая отрывать карты, загребая деньги, оглядываться свирепо назад, глотать абрикотин… но уж хотелось их вытряхнуть из себя – послушать музыку, выпить холодного пива, отдохнуть.
В саду при входе стояла крутая арка, а около нее двое околоточных беседовали мирно, и, пока проходил мимо Матийцев, он услышал, как один из них, более молодой, спрашивал другого, потяжелее: «Вань, а ты любишь скачки?.. Занятно, если погода хорошая…» А другой отвечал мрачным вопросом: «А когда она бывает хорошая?..», чем заставил улыбнуться Матийцева.
Дальше, в глубине, направо, был летний театр, налево – ресторан, весело освещенный, а в промежутке между ними по широкой площадке гуляла публика. Деревья здесь были высокие – акации и ясени, но цветов не заметил Матийцев, и фонари были не так ярки, как в клубном саду, и в ресторане играли только черные румыны в белых расшитых балахонах.
Через толпу к ресторану Матийцев проходил медленно, потому что приходилось идти всем наперерез. Тут какой-то тонкий и длинный, как жердь, кавалерийский офицер стоял боком посреди толпы, держал палаш между ног и, раскачиваясь пьяно, давно небритый, с туманом в глазах, но спокойно и как будто обдуманно, все старался задеть локтями кого-нибудь из толстых пышногрудых евреек с кудряшками, выпущенными из-под белых шляпок, и какая-то девица в зеленом, обтянутом, держа в руке желтые перчатки, столкнулась было с ним и понеслась дальше на сильных ногах, и две простые бабы, чистенько одетые в белое с розовой отделкой и в кисейных платочках, вальковатые, похожие на прочных кормилиц, тоже прогуливались здесь и на ходу бездумно занимались семечками.
Около ресторана, в котором ужинал Матийцев, то и дело появлялись страшно веселые три девицы в белом, низенькие и до чего смешливые, – все хохотали… а однажды совсем близко промелькнула опять зеленая с желтыми перчатками, точно спасалась от пожилого военного врача, который спешил по ее следам… И у буфетчика, и у шмыгающих официантов, и у румын, когда они не были заняты, и у тех, кто сидел за столиками, – у всех были нагие глаза. «Природа не дает человеку подобных глаз: это – лично его изобретение, – думал Матийцев. – Мы копаем уголь, чтобы… официанты как угорелые мечутся, чтобы… румыны играют, чтобы… девицы, наконец, гуляют, чтобы… – все это вместе составляет человеческую культуру…» И еще думалось: «Нужно написать Вере, что каждый порядочный человек, в молодости по крайней мере, должен серьезно подумать о самоубийстве, а кто никогда об этом не думал, тот безусловный подлец».
Когда снова пошел по саду Матийцев, как раз кончилось представление в театре и вышла публика. На несколько минут толпа стала густой, говорливой, потом схлынули театралы, а те, кто остались, сразу стали и проще и откровенней. Девицы красиво улыбались, поводя глазами; одна из грудастых увлекла уже длинного ротмистра с палашом; пожилой военный врач настиг уже свою зеленую и шел под руку с нею; над тремя смешливыми низенькими в белом уже свешивались близко сзади добрые тяжелые головы тех самых немцев в клеенчатых картузах; и две кормилицы с семечками шагали вперевалку по-прежнему бездумно, вполне уверенные в том, что и они дождутся, что им даже и глазами работать не нужно – зачем?
Это было похоже на вакхический танец, и к тому же румыны что-то очень задушевное играли, какой-то вальс, построенный на южных солнечно-вечерних мотивах. И то, что для всякого человека, сколь бы ни был он одинок, есть все же вполне доступный другой человек – уличная женщина, это казалось так мудро, точно не был это презренный пережиток людской, а придумала его сама заботливая природа.
Но становилось уже поздно – двенадцать часов, и только этим объяснил Матийцев, что одна девица в лиловом и с красным отворотом шляпки, встретившись с ним, вопросительно ему улыбнулась. Они встретились на свету фонаря, и сильно напудренное лицо показалось Матийцеву страдальчески-белым, а явно подведенные глаза измученно-веселыми – это отметило ее. И, второй раз встретившись с нею, он пригляделся к ней, а она улыбнулась открытей, и оба оглянулись друг на друга, расходясь, и он запомнил длинный овал лица и подчеркнутую красивость ее походки с легким перебором бедер и плеч. Она даже задержалась было на месте, но это почему-то оскорбило его, как бы равняло его со всеми здесь, а он был единственный. Думал о гостинице, отходя, о тихом-тихом, тишайшем номере с окнами на сонный двор, – и вдруг среди сдержанного рокота садовых разговоров истерически громкий женский вскрик:
– Что ты сказал?.. Что ты сказал, мерзавец?.. Ты как смел меня так назва-ать?!. – И на глазах у обернувшегося Матийцева эта самая девица в лиловой накидке и красной шляпке толстым кожаным ридикюлем наотмашь ударила расфранченного какого-то безусого приказчика с круглым лицом. Толпа около них образовалась мгновенно; просто остановились и повернулись к ним все, кто гулял в саду: ведь это как бы одна общая семья была. Столпились – и вот уже на цыпочки должен был подняться Матийцев, чтобы разглядеть совершенно искаженное лицо и глаза, как у зверя, те самые глаза, что так ласково улыбнулись ему всего за полминуты перед этим.
– Фу, гадость какая! – сказал, поморщась, Матийцев и в это искаженное лицо глядел брезгливо.
Теперь она была противна: пудра ли с нее осыпалась, – все лицо почернело, обскуластело, подешевело, постарело… От затылков, носов и заломленных шляп кругом стало душно. Появились те самые двое околоточных и, расталкивая публику, вежливо говорили:
– Господа, пожалуйста!.. Продолжайте свою прогулку. Не толпись!
– Назвал! Подумаешь, штука: на-звал! – горячился около мальчик лет тринадцати. – Не назвать, вас всех перебить надо: вы людей губите!
«Вон он как сразу такой вопрос решил, а я в нем путаюсь!.. Нет, я не современен…», – подумал Матийцев и отошел в сторону, куда едва доносился визгливый голос, все время повторявший:
– Как же он смел меня так назвать, негодяй?
Но когда все успокоилось и когда она села на скамью одна, и рядом с нею и справа и слева зияла только зеленая пустота садовой скамейки, Матийцев, приглядевшись и зачем-то поправив фуражку, круто и бесстыдно повернул к ней и сел рядом.
– Ну, как вы? – неопределенно сказал он, и стало неловко.
Но женщина поняла:
– Ничего… что ж он… Всякий нахал смеет мне говорить это, да?
– Вы хорошо сделали… Мне нравится.
– Не нравится?
– Нет, именно нравится… Хорошо, что за себя заступились. – И, взяв у нее тяжелый ридикюль, взвесил его на руке: – Вот этим самым…
– Пожалуйста, пойдемте отсюда… Хотите? – шепнула она. – Мне здесь так неприятно: все смотрят… Проводите меня только на улицу, а там я сама…
– Пойдемте. Вставайте, – поднялся Матийцев.
– Есть много садов и без этого, где прилично и публика чище… Я больше сюда никогда не пойду… Вы не видали, куда этот мальчишка-негодяй ушел?.. Как он смел мне это сказать, когда я веду себя интеллигентно, никого не трогаю… не пьяная?!
В воротах сада прошли под большим фонарем по густому слою ослепленных и упавших вниз, а здесь раздавленных толпою, черных небольших жуков. Она остановилась поглядеть: что это? – и сказала с непритворной жалостью:
– Ах, бедные мои!
Это понравилось Матийцеву, и, неизвестно зачем, он сказал ей:
– Вот стоит только упасть, и тебя раздавят так же.
– Вам стыдно со мной идти? – вдруг спросила она.
– Нет, что вы… – Догадавшись, он взял ее под руку. Рука была худенькая, жесткая, с острым локтем – та самая рука, которая вела себя так храбро.
В ярко освещенной кофейне, куда они зашли, почему-то приятно было Матийцеву, что она наливала ему из кофейника в стакан сама, точно подруга, что она старательно выбрала ему самую вкусную плюшку. Но он сел спиною к улице, по которой звонко шла публика, расходившаяся из сада, и она заметила это: посмотрела на него страшно тоскливо и спросила тихо (а глаза у нее, оказалось, не были подведены, они были сами по себе большие):
– Вам стыдно со мной здесь сидеть – да?
– Кого же мне стыдиться? – Матийцев почувствовал, что покраснел, и, смешавшись, добавил: – Я ведь даже и нездешний, я приезжий из рудника… Из Голопеевки.
– Вы там служите?.. На должности?..
– Да, я инженер… То есть теперь уж больше не инженер… – вспомнил и докончил по-детски: – теперь я так… – и в первый раз улыбнулся ей.
В номере гостиницы, не очень просторном, но чистом, с высоким потолком и свежей скатертью на столе, окна выходили не на двор, а на улицу.
Женщина раздевалась медленно, итак все было ново следившему за ней Матийцеву: и сложная шнуровка ее ботинок, лакированных, модных должно быть, на очень высоких, немного сбитых каблуках, стыдливое кружево рубашки, и красные продольные вдавлины на боках от корсета.

Теперь – без платья, без ботинок и без огромной наколки на голове – она стала совсем тоненькой, маленькой, скромно, по-девичьи причесанной, только глаза большие и белые щеки оставались те же.
Иногда глядеть на нее было как-то неловко, и он отводил глаза к окну, за которым нельзя было ничего рассмотреть.
– Почему это так много жилок на плече? – спросил, смутно жалея, Матийцев.
– Жилок?.. Не знаю почему… Мраморная…
(Чуть заметно вместо «почему» вышло у нее «поцему»).
И, как бы немного дичась его, она говорила:
– Почему-то я черная… Мать меня всегда, бывало, звала: цыганская потеряшка… «Цыганская ты моя потеряшечка!» Цыгане из задка потеряли…
А потом, точно привыкла к нему, сказала уж шутливо:
– Я и гадать умею: жу-жу-жу, жу-жу-жу, – папиросы Бижу…
Ключицы у нее выдавались, и под ними нежно темнели легкие впадинки. В этих, по-вечернему неясных, линиях и пятнах было что-то схожее с виденным раньше и так любимым у Лили, и, заметив его взгляд, неотрывно ушедший в эти именно скрипично-певуче-изогнутые кости, она поежилась всем телом и спросила:
– Я вам не нравлюсь?.. Вы любите полных?..
– Нет, я всех люблю… всяких… – Матийцев смешался и, прижимаясь благодарно к ее плечу, шептал: – Ты теплая… и ты живая… и ты милая… – целовал ее руку правую, тоже с синими жилками, слабую и легкую, говоря: – Вот эта самая!.. – и голову с простым пробором посередине, и бледную длинную щеку… Все казалось ему, девственнику, так неслыханно волнующим, точно припал к истокам всякого земного бытия.
Когда он спросил, как ее зовут, так испугался вдруг, зачем спросил: что, если зовут тоже Лилей? – Но ее звали Полей, и он повторял благодарно:
– Поля… Хорошее имя: Поля…
– Вы что так нежно обращаетесь, как будто странный?
– Как? Я – странный? – живо отозвался Матийцев. – Что глаза у меня блестят?
– Дда-а… и вообще… Вы кто сами?
– Я, видишь ли… – он взял ее доверчиво за руку и посмотрел в глаза: – Завтра… нет уж, даже сегодня, а не завтра… буду совсем никто… понимаешь?.. Падаль!
И, представив, что глаза у него теперь как-то особенно блестят и, может быть, пугают ее, Матийцев сощурился и наблюдал за нею, но она не поняла ничего; она остановилась только на слове «сегодня» и спросила:
– А какой теперь час? Теперь уж поздно, должно быть?.. У вас есть часы?..
Внимательно взяла в руки его часы, всегда валявшиеся у него просто в боковом кармане, и спросила:
– Почему же ваши часы не на цепочке?
И так мило, совсем по-детски выходило у нее вместо «ч» – «ц» и обратно: чепоцка, цасы… не грубо, а чуть-чуть, намеком: скользящие звуки, похожие на «ч» и на «ц».
– Господи, поцти цас, – как поздно! – и заговорила о своем: – У меня есть художник знакомый, очень, очень на вас похожий, – только он выше… У него в квартире по всем, по всем стенам картины: все женщины голые… Зачем это?.. Безобразие какое!.. Он и меня уговаривал, чтобы я тоже так, – ну, конечно же, я отказалась, как можно!.. Я женщина строгая, и у меня дети – двое малюток… Я их кормлю.
И с большою тоской в голосе и со слезами, проступившими на глаза, докончила неожиданно:
– Как же он смел, подлец, меня так назвать?.. А?.. Ведь он меня не знает?.. А квартальный мое имя и фамилию записал и составит теперь протокол… Что, если мне желтый билет дадут?
Матийцев глядел в ее влажные глаза, гладил руку и видел, как дорога она ему, эта женщина… последняя в его жизни… Эта мысль его удивила: вот кто у него последняя, кому он может что-то сказать затаенное, кого он может ласкать, кем он сам будет обласкан… час назад ее не было, – теперь есть.
Он так и говорил ей, обнимая:
– Сегодня вечером я буду падаль, и ты у меня последняя… Вот странность!.. – а чтобы ее успокоить, добавлял: – Нет, желтого билета тебе не дадут, что ты выдумала? Не дадут, конечно: зачем?
Кто она была, эта последняя женщина его, не хотелось об этом думать и спрашивать не хотелось… Хотелось только рассказать ей самое важное:
– Вот… Что мне осталось еще сегодня?.. Отдать деньги какому-то Мирзоянцу, пятьсот рублей… (Он пощупал пакет в боковом кармане – цел ли? – не нащупал как следует, вынул его, посмотрел и положил снова в карман…) Написать два письма… или три… и все… И только всего… И как хорошо это, что так мало!.. – Потом вспомнил: – А ты знаешь, я ведь сейчас проигрался в клубе! Да, да!.. Восемьсот рублей!.. Оглянуться не дали, не больше как в полчаса обчистили какие-то гуси и спасибо не сказали…
Он улыбался почти весело, говоря это, но когда заметил, как она глядит на него, смутился, подошел к небольшому зеркалу, висевшему над комодом, поправил волосы, галстук, провел по лицу рукой…
– Действительно, – сказал он, – глаза у меня почему-то блестят, и вид странный, но это ничего: это от бессонницы – ты не бойся.
Прежде Лиля тут же где-то стояла бы как призрак, если бы с ним случилось такое, как теперь, но это оказалось сильнее памяти о Лиле. Все было таким особенным и дорогим теперь в этой незнакомой женщине с теплыми, скромными, стыдящимися, домашними большими глазами, и хотелось прикасаться к ней нежно-нежно, бережно-бережно, чтобы ничем не показать ей, что он просто ей заплатит, когда она соберется уходить; и все время чувствовалась к ней какая-то благодарность, которую не выразить нельзя, а высказать почему-то стыдно, и выйдет не то. И с нею, чужой и близкой, не вспоминалось уже о тех двух или трех письмах, которые нужно писать сегодня вечером… Вот в чем была странность.
Он думал, что не заснет до рассвета, но уснул сразу и крепко: сказалось долгое недосыпание и внезапный покой.
…Вот какой сон он видел.
Зеленый сочный луг весь в росе вечерней, на нем тропинки, и поперек тропинки прямо на его пути улеглась огромная красно-пегая корова, до того огромная, что даже противно было. Он ударил ее палкой – она не поднялась, только кожа лопнула на месте удара. Потом он ударил ее еще, и опять лопнула кожа, и сколько он ни бил ее – все кожа лопалась и обвисала жирными лохмами. Наконец, когда он освирепело ударил ее по глазам, поднялась корова, и вся похудевшая вдруг – кости да кожа лохмами, вся в крови, и глаза в крови, повернулась к нему и глянула, как человек. От страха он попятился и побежал, но со всего луга поднялись точь-в-точь такие же коровы, глаза в крови и кожа лохмотьями – и когда он понял, что некуда уйти, что они ждут его, что он погиб, то от холодного ужаса проснулся и по привычке к одиночеству не скоро догадался, кто же это, весь в белом, стоит смутно посреди комнаты?.. Через момент вспомнил, где он и кто это, только не мог понять, зачем она там и что делает? Слабый свет шел из коридора через окошечко вверху дверей, и, присмотревшись, он увидел, что Поля возится тихо около стула, на который он бросил свою тужурку.
– Ты что, Поля?
Она отшатнулась и не сразу ответила:
– Папиросы… Где у вас папиросы?
– Я не курю, Поля.
– Ах, вот как!.. Не курите?.. А у меня все вышли, и так смертельно курить захотелось!.. Ну, я воды выпью – ничего.
Напившись, легла снова и была такая нежная и, лаская его, все говорила:
– Какой вы красивый!
После этого новый сон Матийцева был особенно глубок и крепок. Только перед тем, как проснуться ему, что-то померещилось легкое и плывучее, а потом почему-то насильно стали ввязываться в это легкое, неосязаемое бессвязные, навязчивые строки:
Плочено – не плочено,
Краса не обмолочена, –
Не от-вер-нешься!..
Как будто стоял кто-то вроде старого николаевского солдата над ним у изголовья и все долдонил довольно браво, но одно только это, и он с ним как будто спорил, что это бессмыслица. Но строчки все поворачивались сами по себе, тяжело, как мельничные колеса на напоре, и неосязаемое вытеснили, заслонили, а сами остались: каждое слово отдельно, шершавое, ни к чему:
Плочено – не плочено,
Краса не обмолочена…
«Краса, краса!.. Какая краса?» – спорил во сне Матийцев. А другой отвечал: «Краса – красная». И навязывал еще такие же глупые строки:
Крестися – не крестись,
Молися – не молись, –
Не о-то-бьешься!..
А потом тут же подхватывал с подтопом очень быстро:
Плочено – не плочено,
Краса не обмолочена, –
Не от-вер-нешься!..
«Позволь! Ведь все это дикая чушь!» – кричал он во сне кому-то, а кто-то этот отвечал: «Мало бы что чушь!», – разевал широченный рот до ушей черт знает зачем и неотступно вертел перед ним слова, как пестрые кубари топорной работы.
И когда, окончательно осерчав на этого николаевского, или кто он там был, открыл глаза Матийцев, он увидел свой номер весь в дневном свету. Вспомнил про Полю, но ее не было, и не было ее шляпки с красным отворотом, ни лиловой накидки, ни ридикюля.
Было ясно, что она ушла от него к своим малюткам, которых кормит, и с чувством нежной благодарности к ней Матийцев подумал, что она, должно быть, придет еще, или, гордая, не захотела, чтобы он унизил ее предложением платы за ночь, и нарочно тихо ушла, не простясь, когда он спал.
И еще о чем-то очень красивом грезилось, когда он лежал теперь с закрытыми глазами. Представлялись какие-то неясные истоки бытия, к которым он припал, чтобы ожить, и что привело его к ним мудрое темное чувство, гораздо более мудрое, чем светлый разум, и теперь он хотел определить это темное чувство, чтобы разум поклонился ему, а разум отказывался его искать. Была блаженная утренняя молодая лень во всем теле, которой давно уже не испытывал Матийцев. Припоминались вдавлины от корсета на теле Поли, башмаки со сложной шнуровкой, плечо – все в синих слабых жилках, запах пудры и каких-то духов, и все это хотелось пережить еще и еще и, главное, осознать. Вспоминались и сны и пробуждения, но образ женщины в белом посреди ночного, слабо освещенного номера выдвинула память внезапно, точно выстрелила им около ушей, – смутный образ женщины, искавшей папирос в его тужурке, – и внезапно же представился толстый пакет Безотчетова, который нужно было передать Мирзоянцу. Несколько длинных тревожных мгновений, – и, окончательно проснувшись, он бросился к тужурке; пакета не было ни в боковом кармане, ни в других карманах – нигде.
Это вышло так как-то гадко и нелепо, что долго не верилось. Он все искал пакета там, где очутиться никак он не мог. Это была как бы и не простая кража, так же возможная здесь, как проигрыш в игорном зале, но злостная подлость того, в кого поверилось.
Он позвонил, спросил коридорного, когда ушла Поля. Оказалось, ушла еще в восемь часов, а теперь шел уже первый. Коридорный этот был толстоносый малый с узкими глазками и прыщавым лицом. Вид у него был явно недовольный. Он сказал:
– Удивительно, барин, как будто у нас нет девиц приличных. Было бы просто зайти и сказать мне, я бы вам достал замечательную из модной мастерской, а то…
– Ступай вон! – перебил изумленный Матийцев.
Долго не мог он понять только одного: на что надеялась она, когда крала деньги? Но потом ясно стало: она убедилась почему-то в том, что он, Матийцев, денег этих искать не будет, что ему все равно: что отдать их кому-то, что проиграть, что хотя бы это, последнее, – если бы даже их украли… И наконец, разве он не сказал ей, что сегодня вечером умрет? В это поверилось; только было за нее, за Полю, как-то неловко: зачем она это сделала? За себя неловко не было, только за нее. Оценила свою ночь несравненно дороже, чем думал он. Может быть, так и нужно. К тому же у нее двое малюток, которых она кормит. Злости против нее почему-то не было: только недоумение, оторопелость, похожая на злость, и неясный стыд за себя. А что было странно, так это то, что денег безотчетовских совсем не было жалко.
И когда он открыл окно с какою-то уже нелепою мыслью увидеть ее (вдруг она идет по улице напротив?), он увидел несколько сизых голубей на мокром балконе, дремлющего на козлах извозчика внизу, татарина с мешком, трех гимназистов-брюнетов, мальчишку из лавочки с соленым осетром на голове и толстую грудастую няньку с двумя девочками в белых капорах. Отвалив назад голову и выпятив мягкий живот, нянька показала вперед куцым пальцем и пробасила с рязанской оттяжкой:
– Де-этки, де-этки, п-сма-атрите, ка-кой ко-озлик!
Посмотрел вперед и Матийцев и увидел прислугу в пестрой шали, волочившую на цепочке лохматого белого тихого толстого пуделька… А другого козлика никакого нигде не было видно.
На улице, когда он шел к вокзалу и увидел бравого околоточного на посту, он подумал было: «Не заявить ли? Если рассказать, кто она, ее найдут…» И он подошел, но, поглядев в его твердое жирное лицо в подусниках, решил, что не стоит: «Денег все равно не найдут, может быть и ее не найдут: уехала уж куда-нибудь вместе с малютками, которых кормит… во всяком случае это очень длинно… Да и бог с ней!..» Но так как столкнулся уже с околоточным лицом к лицу, нужно было что-то сказать ему; вспомнил вчерашних двух и спросил учтиво:
– Скажите, как можно пройти на скачки?
Околоточный оглядел его всего с одного маху и ответил:
– Сегодня нет скачек.
– Гм… вот как… А вы любите ездить на скачки?
Околоточный поправил шнур на груди и спросил густо:
– А вам это, собственно, зачем?
– Уж и поговорить нельзя, – насмешливо обиделся Матийцев.
И, чтобы показать этому с твердым лицом, что он не без дела подошел к нему, он сказал:
– Видите ли… меня обокрали сегодня ночью… Украли порядочно денег – пятьсот рублей…
Но так как остановилась востроносая горничная, шедшая с булками, и двое мальчишек с очень любопытными синими глазами, и еще готовились остановиться, то он перебил себя:
– Впрочем, это неважно… – махнул рукой и, быстро шагая, направился прямо на вокзал: он знал, что поезд, идущий на Голопеевку, отправляется в два с чем-то, и он поспеет.
«Фу, в какой грязи выкупался, в какой гадости!» – все время болезненно морщась, думал Матийцев, вспоминая ночь.
Он смотрел в окно вагона, за которым парил дождь, и припоминал, не все целиком, а толчками, и что ни вспомнит – отчего же все какая-то дичь и чушь, точно это даже и не он, Матийцев, всегда бережливый к себе, а кто-то другой за него решал, говорил, действовал?
Сон в номере подкрепил его, но навалилось снова все прошлое, то, что уже отлилось в тяжесть, и теперь еще новое – эта ночь. Появилась брезгливость к самому себе, ко всему в себе без исключения, и неизвестно было: что же сказать Безотчетову? «Хоть и казню себя сегодня, все же… нехорошо…» Начальник станции, проигравший казенные деньги, отравившись, может быть и оправдал себя, но он, Матийцев, видел, что что-то останется неоправданным после его смерти, что сегодня он уже менее свободен, чем был вчера.
Поезд тарахтел по рельсам не так, как в сухую погоду, а гуще и глуше, с перебоями, с толчками и с фырканьем. На одной маленькой станции из палисадника выскочил прямо перед окном, у которого стоял Матийцев, какой-то грязный пьяный мужик без шапки, в растерзанной рубахе, и закричал раздирающе:
– А вот и я, Максим Петров!.. Я – вот о-он!
На другой, тоже маленькой, где ждали встречного поезда и под колесами шныряли пушистые утята, ленивый откормленный кондуктор осведомился у ленивого же обросшего сторожа с бляхой:
– Как же это: утенки ходят, а утки нет?
И сторож ответил, значительно подумав:
– Индейка вывела.
А на третьей, на которой поезд попал под ливень, мгновенно затопивший рельсы, и минут двадцать дожидался, когда он кончится, из двери вокзала строгий старик какой-то, похожий на прасола, в синем картузе и суконной поддевке, все посылал куда-то к поезду молодого парня, и парень, накрываясь рогожей, все порывался было выбежать на перрон, но, окаченный, как из пожарной трубы, отшатывался назад и, наконец, закричал сердито:
– Папаша, рассудить надо!.. Куда же пойду я по такому дожжу, как эдиоп!
А в дверях над ним хохотали.
Это и многое другое еще отмечалось сознанием потому только, что само непрошенно лезло в глаза, но когда он ехал вчера, мелочи почему-то занимали его, теперь было только противно с ними; теперь думалось только о том, чтобы писарек Безотчетова не вздумал прокатиться на станцию вместе с Матвеем на Живописце; с ним было бы трудно говорить.
Но Матвей даже не выехал почему-то, пришлось взять извозчика и долго трястись на линейке по раскисшей от целодневного дождя дороге. На рудник приехали только в сумерки, и когда увидел Матийцев вечное пламя коксовых печей, услышал вечные гудки и почувствовал вечный запах гари, показалось, будто и не уезжал никуда, и по-вчерашнему засверлило тонко над левым ухом, и явно заболело сердце – не толчками, а все сразу, сплошь.
На дворе дожидавшийся его Матвей объяснил, что у Живописца опухла нога, – побоялся ее растревожить ездой – и просил осмотреть. Матийцев ничего не сказал ему. Десятник Гуменюк дожидался его с какой-то просьбой о перемене квартиры, во что никак не мог вслушаться Матийцев, но обещал все сделать, чтобы он поскорее ушел. Двое татар в тюбетейках и один парень в праздничной куртке из Манчестера нашли какие-то конторские ошибки в своих книжках и все совали ему эти книжки и тараторили наперебой; им скучно сказал:
– Ну, хорошо… Ну, после… Завтра!.. Ну, подите повесьтесь, если завтра нельзя.
А подойдя к дверям своего домика, увидел раскинутые ноги в огромных грязных сапогах, а потом и всего, видимо страшно пьяного коногона Божка.
При нем, хватаясь за наличники и ставни окна, Божок поднялся и, прислонясь спиной к стене, хрипнул:
– Панич!..
Потом принялся стаскивать картуз, долго стаскивал – стащил и добавил, шлепая непослушными губами:
– Господин… инженер!..
Должно быть, он явился проситься снова на работу, но не осилил хмеля, уснул, ожидая, у самых дверей и теперь не пришел еще в себя, но для Матийцева вместе с ним как бы вся «Наклонная Елена» пришла, поднявшись со всеми забурившимися вагонами, зашкивившимися канатами на уклонах, с гнилым креплением, обвалами, помпами, вентиляцией, неизмывной грязью и неизбывным каторжным трудом, и то, что было вчера в темном штреке, вспомнилось страшно ярко, и, схвативши внезапно Божка за рукав куртки, он толкнул его как-то всем телом, как толкают из всей силы набухшую тугую дверь, и пьяные ноги не удержали Божка: он грохнулся тяжело на спину в грязь и несколько времени лежал так, озадаченный; но когда вошел уже в двери Матийцев, он увидел, что Божок встал, встал проворнее, чем первый раз, и более уверенно, чем когда снимал, напялил фуражку, а когда отыскал мутными глазами в окне его, Матийцева, медленно погрозил ему пальцем и еще головой даже прикивнул, отходя за ворота.
Шахтерская вдова Дарьюшка была тоже навеселе ради воскресенья, и вся серая, гнетущая обстановка низеньких комнат особенно сильно бросилась теперь в глаза. На кухне развелось, хоть и настоящей теплой погоды еще не было, столько мух, что даже из комнат слышно было их сытое жужжанье перед сном.
Дарьюшка, весело вешая на кухне его заляпанное пальто, сказала, что Безотчетов только что спрашивал по телефону, приехал ли он.
– Доложила, что нет еще: их нету…
– Так и говори, если будет еще спрашивать.
– А ну, конечно ж… Что зря беспокоить уставши… Сейчас самовар подам.
Была жива еще у Матийцева старая надежда получить нечаянно как-нибудь письмо от Лили; и теперь спросил:
– Письма не было… с почты?
– Нету, забыли про нас, – весело ответила Дарьюшка, а Матийцев сказал:
– И хорошо… Это хорошо, что забыли.
Перед чаем он долго мылся весь; отмывал и оттирал с тела вчерашнюю ночь и сегодняшнее утро. У него был большой флакон одеколону, он весь его вылил на себя. Белье надел лучшее, позаботился о тех, кто будет осматривать, обмывать, может быть вскрывать, любопытствуя, его тело; и при этом думал:
«Очевидно, я делаю это из самолюбия; значит, самолюбие мое, хоть я и умираю, бдительно живет и как будто готовится пожить еще денек после моей смерти».
За чаем он выпил стакан вина, но вино было местного армянского разлива и потому кислое, вынул было коробку с печеньем, но к ней противно было прикоснуться – до того засидели мухи.
Хотелось что-то подарить Дарьюшке наперед за те хлопоты, которые предстоят ей и за которые ей никто не заплатит: за бессонную ночь, за причитанье и оханье, за беготню и слезы (может быть, поплачет немного). Нащупал в жилете оставшийся от игры золотой и сказал ласково:
– Вот, Дарьюшка, купишь завтра что-нибудь к чаю… булок, меду, кажется, мало, и вообще… а на обед, что придумаешь, то и ладно…
Надеялся на то, что после его смерти не будет же она покупать ему булок и меду; пожалел, что больше никаких денег не осталось и еще нечего дать. Потом сосредоточенно начал разыскивать и рвать все письма, какие у него завалялись.
В девять часов опять позвонил Безотчетов, и Матийцев, услышав, как Дарьюшка, делая скорбный голос, отчетливо солгала: «А их все нету, все нету… Да-а… Нонче-то приедут ли, неизвестно… Хорошо, барин, я тогда позвоню…» – возбужденно крикнул ей вдруг для самого себя неожиданно: «Пожалуйста, пошли его к черту!.. И трубку повесь!»
В пустоте низких комнат (чужих уже совсем, точно с квартиры съезжал) то странное чувство, которое он испытывал и раньше, как будто не у него, Матийцева, украли 540 рублей, а он сам, до этих пор щепетильно честный, украл их у Безотчетова, все как-то росло теперь, хоть он и не хотел этого. Была даже мысль написать Вере, чтобы она как-нибудь по частям уплатила за него долг после его смерти. Но чем больше думал, тем меньше понимал в этом, и потом никак уже не мог отыскать, чьи же, собственно, эти деньги – 540 рублей? Безотчетова ли, или темных шахтеров, которых он штрафовал безбожно, получая за экономность премии, или принадлежат они неведомым бельгийцам, или многознаемому голодному русскому мужику, или по праву присвоены они проституткой Полей, у которой двое малюток, которых надо кормить (а хоть бы и не было малюток, все равно). Получалась какая-то бессмыслица, расплылось прочное понятие: собственность, возникало множество лиц, которые вчера и сегодня промелькнули перед Матийцевым, и все теперь говорили: деньги эти – наши… мои!
Машинист был особенно неотступен; тыча руками, он убеждал горячо: «Деньги эти мои! У меня семь душ, вы представляете? – и все мелкие… двое последних – близнецы! Помру я, – что они будут делать? Куда пойдут?..» Даже околоточный в подусниках, и тот заявил густо: «Это – мои. Платят мне сущие гроши, а торчу я на улице каждый день, во всякую погоду, как эдиоп!..» (Представив себе ясно это составное слово, не «эфиоп» и не «идиот», а что-то среднее, Матийцев улыбнулся длинно.)
Наконец, он понял, что это не он думает о деньгах Безотчетова, что это как-то вместе с гнусными звонками телефона Безотчетов вошел в него и думал сам о себе и беспокоился о своем Мирзоянце, а он, Матийцев, тут ни при чем, и что же для него какие-то Безотчетовы, облезлые инженеры с блеющим голосом, если сейчас перед ним огромная откроется надмирная тишина, и пустота, и холод, и никаких этих «Вертикальных» и «Наклонных Елен» оттуда уже никак не будет видно? «Ревите себе вечными гудками своими, торчите трубами и домнами, вас не будет видно…» Вспомнилось стадо коров во сне, и сон показался вещим, и как во сне он ушел от коров в бодрость, в явь, просто – проснулся, так и из жизни он уйдет в праматерь-ничто, в пустоту… «Ах, родимые, родимые, – говорил он кому-то насмешливо, – вы меня к стеночке приперли, к стеночке, вдумали раздавить какою-то своей тошной чепухой, а в стеночке есть все-таки щель, не замечаете? Маленькая… Вот обернусь сейчас маленьким, как мышь, и уйду…» И такое странное удовольствие было в этом, что Матийцев даже руки потер. Опять полностью появилось то, что он испытывал уже раньше здесь же, по ночам: важность в душе, холодность, отчужденность, безличность и мир.
Когда Дарьюшка убрала уж самовар, вымыла какую-то посуду на кухне и улеглась, так что в комнатах стало совсем пустынно и тихо, Матийцев приоткрыл окно, выходившее на рудник (только невысокий деревянный забор отделял домик от рудника), присмотрелся к огням, прислушался к гудкам и рабочему пыхтенью машин, вдохнул запах гари и, так и бросив окно полуприкрытым, сел писать письма.
Безотчетову он написал длинное письмо. Он писал, что деньги его он потерял и весьма сожалеет об этом, – «может быть, и не потерял, а кто-нибудь вытащил в толпе на вокзале или в вагоне, – что, конечно, совершенно безразлично…» Он хотел закончить на этом, но подумал, что как-нибудь обнаружится вдруг, что он в клубе играл и проигрался, и Безотчетов может подумать, что он перед смертью солгал, тогда он добавил: «Ради бога, не думайте, что я проиграл ваши деньги; я действительно играл в клубе, но проиграл свои 800, а не ваши 540…» Потом мелькнула трусливая мысль, что Безотчетов и всякий, кто будет читать это письмо, может подумать об этом жалком проигрыше, что он-то и послужил причиной самоубийства. Понадобилось выяснить подробно, когда и почему он решил застрелиться. Так растянулось это письмо. Но сестре Вере написал он уже совсем мало, только о тупике, в который он зашел и из которого единственный выход – смерть. А чтобы не подумала она, что смертью своей он хочет прикрыть какое-нибудь преступление, он добавил: «Ничего преступного я не сделал». Письмо к матери содержало всего четыре слова: «Милая мама, прости меня!» И к этим словам он, сколько ни думал, ничего не мог добавить. А на отдельном листочке он написал еще, – что пишут с огромным достоинством почти все самоубийцы: «В смерти моей никого не винить».
Теперь почему-то свободнее стало, как бывало всегда, когда он что-нибудь заканчивал, какую-нибудь срочную работу, – и по привычке, приобретенной в последнее время, он рассеянно прошелся по комнате, снова подошел к окну. Из окна в теми только огни были видны, но за рудником, на высоком горизонте, где стоял металлургический завод, весь окутанный тревожно озаренным дымом, точно в пожаре, как раз теперь из домны выпускали шлаки, и ярка была огненная река, по откосу свергающаяся вниз, как извержение вулкана. От этой огненной реки, красиво потухающей в темноте, опять проклятым трудом повеяло, никому решительно не нужным из тех, кто там трудится, и на минуту досадливо жаль стало их всех там, безыменных: зачем они это?
Недалеко был проход на рудник – ворота с будкой для сторожа, – и с той стороны услышал Матийцев чей-то чрезвычайно дикий голос – пел выразительно:
Я красавица-девица,
А ты парень слободской…
А ты, парень слободской,
Проведи ночку со мной…
Сторож, видно, закричал вслед певуну:
– Эй, черт, красавица! Куда попер?.. Нельзя в пьяном виде!
А сиплый дикий голос, откачиваемый ветром, уносился дальше, жалуясь темноте, трубам, дыму:
Я… ждала тебя всю ночь, –
Свечка горела,
Сердечко болело…
Слова были нежные, девичьи, а голос – нелепый, пьяный, точно нарочно хотел показать певун, что жалкая чушь – эти слова, что не может быть на земле таких слов.
Голос пропал в темноте, но слова девичьи расплылись здесь, в комнате, и от них стало жаль себя – малодушно жаль стало того, что не дожито.
Появилась стыдливая мысль написать письмо Лиле, но для того даже, чтобы начать это письмо, не нашлось никаких слов. Зато о ней хотелось думать теперь. Теперь было уж будто кончено все. Не звонил Безотчетов, уснула Дарьюшка, наступила знакомая (потому что представлялась раньше) последняя, ото всего отошедшая ночь, половина одиннадцатого, и уж посмотрелся долго в зеркало Матийцев и сказал самому себе: «Ну, Саша?..», и медленно улыбнулся себе, а револьвер – покойную, мудро слаженную вещицу – положил рядом на стол. Чтобы не обезобразить лица, которое вчера и сегодня, в вагоне и в номере, назвали красивым, выстрелить он решил в сердце; притом же это было дальше от сознания, хотя и так же смертельно, как в висок. Вот что – непонятно, почему, несколько запутанно и сложно, похожее на сон, но не сон, потому что он только сидел за столом с закрытыми глазами и даже слышал все гудки за окном и фуканье паровозов – представилось ему теперь.
Хотелось увидеть самое дорогое, что он знал в этой жизни, – Лилю, такою, какой она представлялась ему издали: строгой и сдержанной, как будто все время носила в себе хрупкий и звучный монастырь с тонкими, очень тонкими стенами, сводами, куполами. И Лиля пришла. Теперь, с нарочно для этого закрытыми глазами, он ее так отчетливо, так близко увидел – кивнула ему головой, коротко, как всегда, и совсем не показалось странным, что храм, который она невидно носила в себе, вдруг появился, – точно она распахнулась, опала, разостлалась около, как снег, а он стал сельской церковью на горе, и потому, что день был солнечный, ярко загорелись кресты и главы, и снег был яркий, резавший весело глаза, а сосновый лес на горизонте был чисто-синий: золотое – точками, белое – кругом и чисто-синее – полоской вдали. Странно было то, что Матийцев тут же сразу решил, что это Всесвятское, хотя что это такое Всесвятское – село ли это, или другое что – не мог бы объяснить… (а гудки за окном он слышал и отчетливо помнил, что все он сделал, что нужно, и письма написал, и теперь половина одиннадцатого – значит, времени у него еще – полчаса). Было Всесвятское, и почему-то он шел рядом с другим, похожим на отставного военного, шел по очень хорошей, очень гладкой, как городская панель, дороге и чувствовал, что церковь на горе осталась сзади и что сзади за ним кто-то тоже идет, многие, и впереди, видно было, тоже многие шли – растянулось шествие по очень-очень далеко видной прямой дороге.
– Это мы ведь с поезда? – спросил он соседа: присмотрелся, чтобы разглядеть чин по погону, но не разглядел погон.
– Конечно, – сказал военный.
– Где же наши вещи, полковник?
(Чин он придумал наугад, по возрасту).
– Вещи наши доставят отдельно, – сказал полковник.
«Может быть, он генерал», – подумал Матийцев и спросил заботливо:
– А их не перепутают, генерал?
– Нет, здесь не путают, – сказал генерал…
– Но не правда ли, странно, что мы с поезда идем пешком? – спросил Матийцев.
– Да. Здесь не ездят, – сказал сосед.
– А почему тут нет синего леса на горизонте?
– Здесь нет горизонта…
Потом генерал повернул к нему лицо совсем не военное и проговорил:
– А вот гостиница.
Действительно, великолепное строгое здание стояло, все матово-белое, карнизы черные.
– Вот как! – удивился Матийцев. – Это не мрамор ли?
– Вероятно.
– А почему же она одна в пустой степи?
– А вон и другие.
Действительно, повсюду стояли здания, такие же белые с черным и строгие. Все, несомненно, уходили вдаль, и всех бесконечно было видно. Но чего-то не хватало в них или между ними. Матийцев долго думал, пока догадался: деревьев.
– Почему же нет деревьев? – обернулся он к военному.
Однако военного уж не было – рядом с ним стоял небольшой скромный мальчик, и он показал на каменные белые глыбы здесь и там:
– Вот деревья.
«Это, должно быть, только для защиты деревьев, – догадался Матийцев. – Под мрамором – деревья».
– Ведь это мрамор?
– Может быть, – сказал мальчик скромно.
– Здесь, должно быть, страшно холодно? – спросил Матийцев, увидевши кругом чистый, кристаллами, снег.
– Нет. Видите, тут купаются?
И Матийцев увидел неширокую речку, – скорее ручей. На снегу берега стояла изумительной красоты голая девушка, приготовясь купаться, и несколько таких же сидело и стояло дальше.
– Это мы в России? – изумленный, спросил Матийцев.
– Это называется Всесвятское, – ответил просто мальчик.
– Как же можно купаться в такой реке?
– О, она глубокая.
– Нет… снег, холод!.. Я об этом.
– Нет, здесь тепло.
– Здесь холодно… снег! – упрямо повторил Матийцев и почувствовал, что ему холодно, что это, должно быть, из открытого окна дует.
– Нет, здесь тепло, – повторил ставший с ним рядом голый, сильно сложенный юноша, – здесь жарко.
И Матийцев почувствовал, что действительно жарко. Но когда юноша погрузил в воду стройную, как у девушки на том берегу, ногу, то от этой голой ноги в ледяной, как казалось, воде опять стало холодно нестерпимо: пронизало холодом.
– Нет, – сказал Матийцев с тоскою. – Тут нет церкви на горе, нет леса на горизонте, нет даже и горизонта… Как это? Это, должно быть, не Россия… Нужно на поезд и уехать. Найти свои вещи – и на поезд… Это, наверное, не Россия.
…Почему-то обыкновенный, запачканный углем около носа кочегар попался на дороге.
– А-а, голубчик! – обрадовался Матийцев. – Когда отсюда поезд?
– А вам куда отсюда? – спросил кочегар.
– Все равно куда… Пойдет ведь поезд?
– Пойти пойдет, только поздно.
– Как поздно? Когда именно? – Но кочегар уже уходил медленно, уходил быстрее… ушел. Оглянулся Матийцев, чтобы взять извозчика, но вспомнил, что их тут нет. И люди кругом показались очень странными уже потому, что никто не улыбался. Пошел, стараясь идти к вокзалу, вдруг попался носильщик с медной бляхой, как будто очень знакомый, – ну да, его носильщик, черный бородач.
– А-а, приятель! – радостно крикнул Матийцев, но носильщик вдруг быстро повернулся к нему спиной. Он зашел с лица, а носильщик тут же, четко каблуками стукнув, повернулся спиной. И еще раз так и еще…
А кто-то подошел и спросил его, Матийцева:
– Вы не понимаете?
– Нет, я не понимаю, – сказал Матийцев и подумал, что нужно поглядеть на часы. Поглядел – было без двадцати одиннадцать; он взял револьвер, посмотрел на себя в зеркало и тут же почувствовал, что почему-то необходимо повернуться назад, а повернувшись, увидел, как из окна с подоконника в комнату свесился большой грязный шахтерский сапог, а над ним, изогнувшись, глядело знакомое какое-то недавнее лицо, до того странное теперь, до того страшное, до того непонятное, что Матийцев в удивлении выронил на пол револьвер, и только когда он стукнул глухо, догадался, что сквозь незакрытое окно в комнату тяжело лезет Божок.
«Ты зачем, Божок?» – хотел он спросить, а звуков не вышло; Божок же вытянул в окно и другую ногу и встал в комнате весь – сутулый в шее, согнутый в коленях, с жесткой желтой щетиной на выпяченном подбородке… Матийцев заметил, что ничего не было у него в руках, что пришел он к нему так, как бродил по руднику или по улице между казарм, грязный, с глазами мутными, щеками черными, как чугун; но ведь этим рукам ничего и не было нужно: они гвозди вбивают в дуб.
Шевеля головой, как бы с тем, чтобы как следует нашарить его мутными глазами, Божок сказал хрипуче:
– Ага, цуцик паршивый!.. – как вчера в шахте: у него ведь слов было мало, и все еще плохо представлявший, действительность это или сон, Матийцев сразу понял, что Божок явился, чтобы его убить, что смерть не белая, не желанная, не своя, а вот она смерть – черная, грязная, уродливая, страшная… чужая… Было несколько мгновений, наполненных мутным сопеньем Божка и немой ясностью Матийцева, и к револьверу, валявшемуся на полу, не нагнулся Матийцев – револьвер этот был себе смерть, а не Божку, – но зато Божок почему-то потянулся прежде всего к револьверу, а в это время быстро схвативший венский стул Матийцев ударил его по голове и шее сиденьем так, что подломилась ножка.
После не могли догадаться, как это удалось ему, худощавому и слабому, так долго бороться с огромным коногоном, но это был удачный удар, от которого несколько ослабел, а главное – опешил Божок и окреп Матийцев.
Когда-то, еще студентом, он усердно занимался гимнастикой, и, как ненужное знание, лежала в нем добытая тогда сообразительность тела – теперь она вспыхнула. И еще раз удалось по рукам ударить Божка, когда он подымался, так что выпал поднятый им револьвер. Ослепленно освирепелый Божок кинулся на хрупкого инженера, чтобы сразу смять, но Матийцев отбросился за этажерку с книгами и толкнул ее в сторону Божка. Затопленный книгами и упавший на этажерку, так что все сломанное захрустело под ним, Божок бормотнул, снова опешив: «Ишь сволочь паршивый!», а Матийцев успел крикнуть в окно: «Эй, ре-ежут! Э-эй…» К окну же и подвинулся он – может быть, удастся выпрыгнуть задом (двери обе он притворил плотно, а одну даже запер, только забыл теперь, какую именно, и обеих боялся). Не сводил глаз с Божка, Божок тоже неожиданно быстро вскочив, стоял перед ним, вытянув голову и растопыря руки… Было жутко, что никто не шел… Кто-то должен был сорваться откуда-то, прибежать, запыхавшись, и спасти… Глядел на огромного Божка, боясь пропустить хоть одно движение, а сам коротко вскрикивал: «Эй!.. эй!.. эй!..» Старался вспомнить какое-то слово, которое надо кричать, и не мог, но его выкрикнула в соседнее окно Дарьюшка, разбуженная стуком, и Матийцеву показалось, что он уже спасен, когда услышал это пронзительное «Карау-ул!»
Божок пододвинулся к нему медленно, приподняв руки, чтобы схватить стул. У Матийцева холодная судорога готова была начаться. Но вот рванул Божок, и только сломанная ножка осталась в руке Матийцева. Он знал, что так и будет, и хотел было воспользоваться этим мигом, чтобы подброситься на подоконник и выпрыгнуть, а Божок, сопя, в окне уже поймал его жесткой лапой за колено и сдернул на пол… Он навалился на него, дыша тяжело, и бормотал, довольно кряхтя: «Ага, сволочь паршивый!..», и, должно быть, ткнул в лицо, потому что вдруг стало солоно во рту, и верхний клык вонзился в нижнюю губу, – рот забряк сразу, нельзя было разжать.
Матийцев забился всем телом сразу, как грудные дети, но Божок вырвал у него деревяшку, наклонившись и замерев на секунду, стукнул его по голове. Был момент страшной боли, во время которого Матийцев подумал отчетливо: «Вот когда конец… все!» – и потом перестал сознавать.
А в это время, привлеченные криками Дарьюшки, лезли уже в окно шахтеры из проходившей мимо смены и, свистя, подбегали сторожа.
Когда очнулся Матийцев утром, он не сразу вспомнил, что с ним случилось: мелькнула догадка, что, должно быть, клеть упала – оборвался канат, а что сейчас было утро, он это узнал по привычному синему с желтыми отсветами кружочку на стене (в ставне окна над его диваном был выпавший сучок), и по гудку, и потому, что Дарьюшка встала. Потом от сильнейшей боли потерял сознание еще часа на два, а очнулся снова от новой боли и оттого, что голова его была в чьих-то мягких руках: это забинтовывал ее рудничный врач Кораблев, а ему помогала фельдшерица Ксения Ивановна, и первое, что увидел Матийцев, когда открыл глаза, был ярко блеснувший золотой зуб, кутний, нижний, в ее влажном рту, и первое чувство, которое он осознал, была благодарная умиленность: точно снова детство, раннее детство – болен и над ним мать. И Кораблев вполголоса говорил в это время Ксении Ивановне: «Положительно, чудо: кость цела!..» И Матийцев подумал: «Значит, я сильно расшибся, если…» И вдруг вспомнил: стыд… Почему-то стыд этот был синий… И странно было: стыд – стыд, стыд синий, а в чем же, собственно, этот стыд?.. По-детски хитря, прикрыв глаза дрожащими веками, он усиленно зашевелил медленную мысль: какой стыд? И представил, наконец, ясно синие конверты, в которые он вкладывал письма, на своем столе в кабинете; в кабинете, может быть, теперь тоже чужие люди, как и в спальне, и кто-нибудь читает письма – это стыд и есть… И все хотелось сказать Дарьюшке, чтобы спрятала письма, которые теперь не нужны, но при чужих сказать было нельзя. В мягких руках Кораблева легче было голове, особенно, когда он чуть приподымал ее, чтобы пропустить бинт, и в один из таких моментов, мысль отчетливо сплела догадку: «Я стрелялся, но остался жив, даже кость какая-то цела…»
Стыд остался и после догадки, и больше от этого стыда, чем от боли, простонал, не открывая глаз, Матийцев, когда неловко дотронулся до раны кто-то, закалывая бинт.
– А? Больно?.. Ничего, ничего, мы сейчас… – зашептала виновато Ксения Ивановна, а Кораблев добавил громко и по-докторски шутливым сытым баском:
– Пустяки, совсем пустяки… Гораздо могло быть хуже! Счастлив ваш бог.
«Почему говорят так нелепо: счастлив ваш бог?» – смутно думал Матийцев, все стараясь представить, как он стрелял в себя, и почему в голову, а не в сердце. Обрывки какие-то все показывались и прятались, а никак нельзя было ухватить ничего и вытащить целиком. Почему-то мерещилась этажерка с книгами, и как будто это, было важное и нужное, но что же могло быть важного в этажерке?
И только, когда, собравшись уходить, наставлял Дарьюшку Кораблев, что не нужно отворять окна в спальне, чтобы не беспокоил шум, Матийцев представил вдруг окно – в нем огромный шахтерский грязный сапог, и над ним грязную от угля – только белки блестели – склоненную личину Божка, и в несколько терпких мгновений все вспомнил и оглядел комнату разрешенно, ища всех глазами: и доктора, и Ксению Ивановну, и Дарьюшку, – улыбаясь глазами сквозь туманящую боль и мясистому лицу не старого еще Кораблева при лысине спереди и в золотых очках, и фельдшерицыну золотому зубу, который поблескивал и теперь (что-то она приказывала Дарьюшке; она вся была располагающая, добрая, мягкая, тихая), и Дарьюшке, наконец, у которой тоже, казалось, было что-то золотое, кроме золотого сердца, не вспоминалось ясно, что именно, но уверенно почему-то представлялось: было золотое.
Так оглядевши всех, Матийцев растроганно сказал: «Спасибо вам!..» Это и было первое, что он сказал, очнувшись.
В обед зашел к нему Безотчетов. Он чувствовал, видимо, себя несколько неловко около своего младшего помощника, с которым случилось несчастье на одной из его «Елен», и вся белая от марли, ваты и бинтов голова как будто смущала его, но к его приходу Матийцев уже настолько оправился, что мог говорить, хотя и с перерывами и с трудом подыскивая слова. И когда он дал ему понять, что с ним произошло, – конечно, только то, что касалось Божка, – он, улыбнувшись, добавил ему:
– А знаете, одно к одному… ведь у меня ваши деньги украли.
Он знал уже от Дарьюшки, что письма, которые он писал ночью, – синий стыд его, – запрятала она в папку, по привычке приводя утром все в порядок. У нее был уже навсегда заведенный порядок: все бумаги, которые разбросаны бывали на столе, прятать в папку, а которые на полу, – в печь, – это не всегда было кстати, но теперь пригодилось.
– Как? Божок? – удивился Безотчетов. – Или их двое было?.. Значит, вы не нашли Мирзоянца?
– Нет, у меня их в Ростове, а не Божок… Где-то в Ростове… Я вам их, конечно, верну… Пятьсот сорок.
Безотчетов подозрительно посмотрел было на него, но тут же поспешил сказать:
– Ну что же, бывает… Это пустяки. Вы заявили полиции?
– Заявлял, – вспомнил околоточного и улыбнулся тому, что даже не лжет, Матийцев.
– Ну вот… Может быть, и найдут.
– Безразлично, – найдут или нет… А Мирзоянц… Мирзоянцу пошлите: ведь у вас срочный платеж.
– Пустяки…
Безотчетов постучал пальцами и нашел нужным сказать еще несколько слов о Божке. – Но какой же негодяй, – а!
– Знаете ли, напрасно… – поморщился от боли и еще от чего-то Матийцев. – Он не столько негодяй, сколько… спьяну… Его и судить не стоит.
– Нет-с! Это великодушие лишнее… – Безотчетов посмотрел было на него строго, но отвел глаза. – Оставьте такой случай безнаказанным, и тогда…
– О, это – редкий случай, – живо подхватил Матийцев. – Этот случай – редчайший!
– Не скажите!.. На моей памяти это – четвертое нападение на инженера… даже пятое.
И он хотел было рассказать, как, где и когда были нападения на инженеров, но, видя, что сильно утомился Матийцев, простился с ним, а через час Марья Павловна заехала посмотреть раненого и привезла коробку конфет.
С Автономом Иванычем увиделся Матийцев вечером, после наряда. Блестя своими, при лампе очень яркими, глазами, сначала было шумно, а потом шепотом, но выразительным, он рассказывал, как в шахте его жалели, и это растрогало Матийцева, но потом всплыло из памяти, что ведь он его обидел тогда, вот этого, с бравым лицом, с такими густо и прямо и длинно стоящими черными волосами, точно просмоленная дратва, а не волосы. Он извинился конфузливо, что совершенно смутило Автонома Иваныча. Красный, он промямлил что-то, но тут же нашелся:
– Да вы ведь и правы оказались: оно уж тогда вон куда метило, это чудище! Вы-то догадывались, а я нет.
– Оно в кордегардии пока, чудище? – спросил Матийцев.
– Пока здесь… До следователя, что ли, или… вообще, урядник им ведает.
– Голубчик, знаете ли что?.. Нельзя ли устроить, чтобы его сюда, – просительно улыбнулся Матийцев.
– Что вы?.. Мало вам? – удивился было штейгер, но, видя, что Матийцев имеет какую-то цель, добавил: – Устраивать тут и нечего: сказать просто уряднику, и приведут.
– Скажите, голубчик.
Автоном Иваныч обещал.
Положительно, это была какая-то неприкрытая радость для Матийцева, точно свиданье с любимой, когда на другой день по топоту многих ног в прихожей и коридоре он догадался, что привели Божка. С ним пришел и урядник – побоялся ли он отпустить коногона с двумя казаками из рудничной стражи или хотел послушать, о чем будет говорить с ним инженер, но он вошел первый в спальню Матийцева, толстый, с простовато-хитрым черноусым лицом, остановился в дверях и доложил по-строевому:
– Ваше благородие, арестованного доставил.
– Сюда его, конечно, – заторопился Матийцев, – а вы…
– Конвой с ним будет.
– Нет, именно не нужно. Пусть один он… а вы… ну, посидите там где-нибудь… это недолго.
Урядник понятливо кивнул головой, и Божка ввели и притворили за ним дверь, но уходящих от двери ног не слыхал Матийцев.
Божок стоял молча у порога прямо против изучающих, чрезмерно внимательных глаз Матийцева, и смотрел на него по-своему, по-прежнему, глубоко исподлобья. Теперь это был как будто несколько не тот Божок: всегда он был черный и грязный или почище, но пьяный, теперь же одет он был в ту же праздничную куртку из полосатого рыжего Манчестера, как и в воскресенье, шестого мая, но был трезв, поэтому лицо у него посветлело, осмыслилось, и явная правда была в том, что говорили о нем шахтеры: «Рожей не очень удался, зато фигу-ра!..» Теперь, отвыкая от низкого штрека, он выпрямился за эти 2–3 дня, и уж не так сгибались ноги в коленях и спина: показался громаден. Без картуза его тоже никогда не видел Матийцев, теперь, оказалось, у него были светлые волосы, способные к причесу на косой пробор, а около глаз, тоже светлых, появились жалостливые бабьи складки, может быть от вида бессильно лежавшего тела и забинтованной, как в чалме, головы… И что особенно бросилось в глаза Матийцеву, как будто новое в нем, чего он не замечал так ясно раньше, – это руки его, тяжело висевшие по бокам, огромные, как рачьи клешни, – каждая ладонь вдвое больше лица.
– Ну, – сказал, наконец, Матийцев, пропустив наружу и опять поспешно убрав невольную улыбку. – Ты что?.. Как?..
– Простите, господин инженер, – бормотнул Божок.
От какой-то невнятной еще радости, как-то ни с чем не сообразной, но уже владевшей всем его существом, Матийцев невольно закрыл глаза и так, тяжело дыша, лежал несколько длинных мгновений, пока не сказал шутливо:
– Это ты меня здорово ляпнул!
Божок переступил с ноги на ногу, вздохнул, помял в руке картуз – синий, с надорванным козырьком, – какой и тогда ночью был на нем, и промолчал, а Матийцев уперся глазами в его руки, – руки, которые ночью поднялись на него, поймали за колено, сдернули с окна на пол… ну и руки ж были! Большие пальцы оттопырились вершка на два, кажется, и в кулак не могли они сжаться как следует – так много было между ними и остальной ладонью упругого, жесткого, чугунного мяса.
И улыбнулся этим рукам Матийцев.
– Ишь, лапищи! – и вдруг нахмурился. – Ты что, убить меня прилез тогда, а, Божок?
– Вот истинный крест – с места не сойти!.. – Божок замотал лапищей перед лицом, глаза от явного испуга стали чуть шире и темнее, и челюсть дрогнула. Потом вдруг, остановясь, точно неопровержимая мысль осенила: – Барин! Какая же бы мне от этого польза, если бы я?.. – сказал и даже присел в коленях и рот открыл.
– Пользы-то, конечно, пользы никакой… Ты на меня зол был, поэтому, может быть…
– Да я ж выпивши был, истинный крест!.. Хiба же я шо помню?
– Ну, однако ж, окно-то мое ты нашел?
– Да это я на светло пошел… По всех казармах спать полягалы, гляжу, – светло горит…
– Постой-ка, а «Матаню» какую-то это не ты ли пел? – ясно припомнил вдруг его, именно его дикий голос Матийцев.
– «Матаню»?
– Да… «Свечка горела, сердечко болело…»
Нахмурив и собрав складкими низкий недоуменный лоб, Божок усиленно вспоминал, и по тому, какие тревожные глаза у него были, Матийцев почувствовал, что это он и пел и хорошо помнит это, только не знает, как сказать теперь, – что будет лучше: пел или не пел?
– Свечка горела, сердечко болело! – улыбнулся ему прямо в глаза Матийцев.
– Может, это действительно я, – бормотнул разрешенно Божок. – Как я тогда на рудник шел, а сторож меня воротил, через то, что я пел…
– Ты, значит, поешь иногда, когда выпивши?
Матийцев думал, что Божок теперь конфузливо улыбнется и скажет что-нибудь согласное, но Божок молчал, так же страдальчески нахмурив лоб, пропотевший над редкими бровями и переносьем.
– Какой ты губернии, Божок? – вдруг спросил Матийцев.
– Я?.. Черниговской… Из Васильковки…
– Ишь… Значит, мы с тобой почти что земляки: у меня дед черниговский был…
И, подавшись было к нему плечом, чтобы спросить то, что хотелось больше всего спросить, Матийцев застонал от залившей всю голову ослепительной боли: потревожил рану. Стиснувши зубы и закрыв глаза и пальцами впившись в матрац, чтобы не закричать во весь голос, – так с минуту лежал Матийцев, – когда же открыл глаза, застланные слезой, то увидел, что Божок смотрит на него с жалостью почти женской, вытянул вперед голову черепашью и поднял брови. И боль болью, но умиленность какая-то от одного этого взгляда Божка вошла уже прочно в Матийцева.
– Вот как ты меня… как Зорьку… – с усилием сказал он. – Может, я теперь уж и не встану… – помолчал немного, подождал, не скажет ли что Божок, и добавил: – Ну, а не подоспей люди, был бы мне каюк… Ты бы меня добил, как щенка, – так?
Спросил неуверенно, как будто просто из любопытства, но когда спросил уж, увидел, что это – самый важный для него вопрос и есть: добил бы или не добил его Божок, если бы не случайно проходившая смена? Если даже и не убить его, а только попугать (ведь терять ему, уволенному, все равно нечего уж было), если только нечаянно, спьяну, на свет в открытом окошке зашел в щель между домиком и забором Божок, то при силе его древней как он мог удержаться, чтобы не примять его до конца?
А Божок бормотнул в ответ:
– Я себя на испуг взял, господин инженер.
– Что «на испуг»?.. Испугался?
– Так точно… Я после этого сразу в себя пришел…
– После чего?
– Через то, как ударил… Я после этого прямо сомлел от страху: что же это я так неудобно сделал: инженера убил!
Пот на его лбу стал холодный на вид, и глаза потускнели.
– Так ты, значит, думал, что уж совсем убил?
– Думал, совсем.
– Потому-то ты и не добил меня: незачем уж было, – усмехнулся горько Матийцев, помолчал немного и добавил: – Ну, а теперь-то, теперь-то рад, что не убил?
Божок ничего не ответил, – он только благодарно и не исподлобья уж, а просто, вровень, смотрел ему в глаза, и Матийцев почувствовал, что больше спрашивать об этом не нужно.
– Ну, ладно, помиримся, – сказал он шутливо. – Ни на ком.
Он подумал было подать ему руку для пожатия, как делают борцы в цирке, но этого уж не мог, только в огромные лапищи, которым, казалось, всякая работа на земле просто милая шутка, вгляделся еще пристальней: все они были, как в халдейских письменах, в синих от угля шрамах с тылу и в желтых сплошных, должно быть, как копыто, твердых мозолях с ладони… И вдруг капризно захотелось, чтобы при нем он здесь делал то же, что, говорили, делывал он в казарме: вдавил бы гвоздь в сосновую коробку двери.
– Можешь?
Божок несколько недоуменно повел плечом, поглядел на стены кругом, заметил гвоздь дюйма в четыре, вбитый для полотенца, вытащил пальцами, как клещами, пристукнул его кулаком, и привычно, почти не открывая ладони, вдавил в дверную коробку, сквозь наличник.
– Вот как! – удивился Матийцев. – Значит, у меня крепкая голова, если даже и ты черепа не пробил!.. Должно быть, ты неловко ударил… вскользь…
В этот момент урядник, все время слушавший, должно быть, в замочную скважину, любопытствуя, тихо приотворил дверь и выставил голову.
– Да-да-а… – продолжал, не замечая его, Матийцев. – Выходит, что если я после тебя уцелел, то это тоже не малое чудо… а?
Когда же заметил урядника и за ним красный лампас казака, спросил:
– Что, уж идти ему?.. Пожалуй, пусть идет…
Чувствовал уж сильнейшую усталость, клонящую в сон, и шум в голове.
– Если еще он вам, ваше благородие, требуется… – разрешающий жест сделал урядник. – Я только от стука беспокоился.
– Ничего… Может идти… Я там скажу, где нужно, Божок, – ты это знай: и про тебя… и про себя вообще, что могу, – все сделаю… Прощай теперь… Может быть, удастся взять тебя на поруки…
Божок бормотнул, неловко поклонившись, и повернулся, и солнечный луч в дверях насквозь прошел через его горящие, немного завороченные наружу, круглые уши и обхватил растопыренные толстые и длинные пальцы, и так и донес их до других дверей, в прихожую, где закрыл их широкий урядник, выходивший последним.
Дня через три Матийцев получил тревожное письмо от матери: она что-то почувствовала и об этом писала.
Она была добрая и не старая еще – лет сорока пяти, – но уж горячо начала верить во все таинственное, что плохо или совсем не поддается разуму и что так любят находить в жизни все женщины пожилых лет. Иногда она писала ему так: «Саша, сейчас вот, в половине восьмого вечера, мы с Верой сказали себе: „Будем в течение пяти минут думать о нашем Саше“… И мы закрыли глаза и думали о тебе до без 25 минут восемь. Дошли ли в это время до тебя наши флюиды? Непременно припомни и непременно напиши».
Жила она на небольшую, но достаточную пенсию и давала уроки по языкам, пожалуй больше из-за того, чтобы не бездельничать, чем от нужды.
Сюда она приезжала в первый месяц его службы, но показалось ей здесь очень скучно, и очень неуютно, и очень грязно, и больше для того, чтобы не обидеть его, уезжая, сослалась на то, что Вера – девица совсем неопытная и слишком доверчивая и нельзя в таком городе, как Петербург, оставить ее без призора одну. Кроме того, мечта всех матерей пристроить дочь замуж, конечно, владела и ею. И Матийцев понимал это и согласился на ее отъезд.
Теперь то, что она беспокоилась о нем, он объяснял проще: не столько предчувствиями, сколько долгим его молчанием и вообще обстановкой его жизни – частыми несчастьями в копях. И когда оправился он настолько, что мог уже ходить по комнатам и подписывать ордера рабочим, он написал ей вместо тех четырех слов, которые одни только явились ему 6 мая, необычно для него длинное письмо.
В письме этом он мало писал о том, что с ним произошло, но зато много говорил о будущем. У него появился какой-то неожиданный подъем, странная какая-то уверенность в том, что будущим он вполне владеет, и отсюда ясность и спокойная твердость слова.
Но почувствовать себя хозяином будущего не значит ли возмужать? И даже когда он писал о какой-то «поэзии труда, грубо-грубейшего земного труда», в которую он поверил теперь, то и это в его письме не казалось пустой молодой фразой: было видно, что он что-то нашел прочное, и, пожалуй, у него уж действительно больше не «забурится вагон».
И, по совету его, мать, чуть всплакнув и несколько раз пожав плечами, занесла в свою тетрадку с сокровенным (флюидами, приметами, снами) несколько странную на первый взгляд фамилию человека, которому будто бы ее мальчик был обязан чрезвычайно многим, чуть ли не всем: «Божок».
1913 г.
Часть II
Суд
Прошло дней десять после того, как вполне оправился от контузии головы инженер Матийцев. Был воскресный день, свободный от работ в шахте, и вот утром ему принесли письмо, полученное на его имя в конторе. Конверт был очень знакомого вида: плотный, глянцевитый, узкий, запечатанный сургучной печатью серого цвета.
Письмо было от Лили, но не из Москвы, где занятия на курсах должны еще были идти, а из Воронежа, где был дом ее родителей. Как всегда раньше, так и теперь вид Лилина письма был радостен Матийцеву, и он, чтобы не повредить письма, осторожно ножницами отрезал от конверта сбоку самую узенькую полоску.
Вытащенное столь же осторожно, двумя пальцами, письмо сначала обдало его знакомыми духами, потом запестрело перед глазами ровными строчками крупных букв: у Лили был совершенно мужской почерк, чем-то напоминавший ее походку, особенно в тот самый памятный, первый день их знакомства в Москве, на картинной выставке, когда она шла от него потом высокая, прямая, в широкополой шляпе, четко печатая шаги на асфальтовом тротуаре, перед длинным рядом извозчиков и бросала в их сторону коротко и энергично:
– Пречистенка, – двугривенный!.. Пречистенка, – двугривенный!..
А он изумленно и зачарованно глядел, стоя на месте, ей вслед…
Когда перестали прыгать перед глазами строки на плотной, чуть желтоватой, с водяными знаками бумаге, он начал медленно, точно жалея расставаться с каждым словом, читать письмо, начатое, как это было ею принято, без всякого обращения словом «Здравствуйте!».
Обычно письма Лили были довольно коротки, – это же заняло все четыре странички почтового листка.
«Я только что пришла из концерта, данного у нас, в Воронеже, представьте, кем? – Самим Шаляпиным! Как Вам это понравится?.. Чрезвычайно смешно было видеть в первом ряду – кого бы Вы думали?.. Дьяконов воронежских церквей с протодьяконом о. Вавилою во главе. Этот о. Вавила в сажень ростом, и голос у него труба иерихонская. Впрочем, и все дьякона наши – мастера петь; они – басы и пришли не просто так себе, на концерт, как я грешная, а прямо как будто какая-то экзаменационная комиссия: „Мы, дескать, этому прославленному Шаляпину пропишем ижицу! Мы его выведем на свежую воду! По-слу-шаем, каков он таков этот самый Шаляпин!..“ Пришли они не с пустыми руками, а у каждого сверток был нот: экзаменовать так экзаменовать, чтобы денежки зря не пропали! В театры ходить, как Вы сами знаете, духовным лицам запрещено, а в концерты можно, – вот они и привалили целой толпой. Я же сидела непосредственно за ними, наблюдала их с очень большим интересом и буквально давилась от хохота!»
Матийцев представил воронежских дьяконов, мастеров пения, упитанных и басистых, бородатых и гривастых, успевших уже, конечно, «пропустить по маленькой», прежде чем пойти в концерт, а сзади их Лилю, которая, он знал это, могла действительно иногда хохотать до самозабвения, – улыбнулся затяжной улыбкой и принялся читать дальше.
«Экзамен Шаляпину со стороны дьяконов начался с оценки самой внешности его, когда поднялся занавес и начал раскланиваться он на все стороны под сумасшедшие аплодисменты. Дьякона переглянулись, перемигнулись и один другому на ухо: „Ничего! Видимость есть!“ И начали они лупить в ладоши без милосердия: всех перекрыли! Куда же другим было с такими состязаться, когда у них не ладоши, а подносы! Петь Шаляпин начал с „Блохи“ и эффект произвел поразительный. „Жил-был король когда-то, при нем жила блоха. Ха-ха-ха, – блоха!..“ Дьякона сразу решили, что так хохотать, как хохотал Шаляпин, может только черт, и сразу прониклись к нему уважением. Они так ревели „браво“, что чуть было в зале стены не рухнули… Потом Шаляпин пел: „Как король шел на войну в чужедальнюю страну…“ Эффект не меньший. А как хватил „Чуют правду!“, так наши дьякона сомлели от восторга и рты разинули… На вызовы Шаляпин выходил с аккомпаниатором, но вот тому, должно быть, надоело это, – он не пошел, а Шаляпин тоже остановился на середине сцены, обернулся к нему и приглашает его рукою выйти вместе. Что же тут дьякона наши? Вдруг как рявкнет сам протодьякон о. Вавила: „Черт с ним совсем! Федя! Иди сам!“ – и подхватили прочие; „Федя! Ну его к черту!.. Браво, Фе-едя-я!..“ – вообще дорвались до полного восторга. Кое-кто из них даже с места соскочил и шасть, – гривы и рукава по ветру, – прямо за кулисы со своими нотами, уговаривать Шаляпина спеть что-нибудь из их репертуара. Ну, одним словом, дали ему понять, что концерт он дает собственно для них, дьяконов, а мы все – прочая публика, то есть битком набитый зал, существуем только в виде дьяконского придатка. И Шаляпин это понял и, когда пел дальше, держал уже их ноты в руке, хотя и не смотрел в них. И как же он угодил этим дьяконам! Те и ногами притопывали, и за головы хватались, и даже подтягивать начали! Конечно, мы, прочая публика, были от этого не в накладе; концерт очень затянулся, благодаря дьяконским нотам, а кроме того, мы могли наблюдать, как дьякона, переглядываясь и перемигиваясь, решили единогласно заманить к себе Шаляпина на всю ночь на попойку, и чуть только был объявлен конец концерта, ринулись за кулисы все гурьбой. Мы стояли, не уходили, ждали, чем у них окончится, но оказалось, что Шаляпин благополучно спасся, стремительно выскочил на улицу, сел на извозчика и исчез. Так вот что такое слава, а Вы?.. Но все-таки я к Вам благосклонна, и Вы не теряйте надежды. „Надежды юношей питают, отраду старцам подают“, – сказал Пушкин».
Больше ничего не было в письме, – только подпись ее, обычная: одна буква «Э», что означало «Элизабет». Он вспомнил, что Лиля, усердно или нет, занималась английским языком и даже пристыдила его однажды за то, что он не знал, откуда взялось в обиходе русской речи слово «хулиган». Ему казалось, что «хулиган» – то же, что «хулитель», она же объяснила ему, что это – испорченное английское слово «хулиген».
Относительно же ее цитаты из «Пушкина» он припомнил ясно, что это – двустишие Ломоносова, намеренно, конечно, искаженное ею: не «надежды» у Ломоносова, а «науки». Но на что именно нужно было ему надеяться, этого он не понял: не то на славу, вроде славы Шаляпина, не то на продолжение того, что она по-царски назвала «благосклонностью»… «Неизменно к вам (имярек) благосклонный Александр (или Николай, или Павел)». Так имели обыкновение подписывать «всемилостивейшие рескрипты» и «высочайшие благоволения» русские императоры.
Слово «благосклонна» в письме Лили его коробило, но он охотно готов был простить его как шутку.
Она всегда предпочитала шуточный оборот серьезному, – он заметил это за нею еще в Москве. Даже серьезнейшее его предложение ей она тут же обернула в шутку.
Выслушав его тогда с высоко поднятыми бровями, она немедленно рассмеялась, и очень естественно у нее это вышло. Потом, может быть только затем, чтобы смягчить резкость отказа, она спросила:
– Помните, был такой старый романс:
Нравится мне твоя поза унылая,
Робко опущенный взгляд.
Я бы любил тебя, но, моя милая,
Барышни замуж хотят!
И дальше как это? Да, вот:
Глазки твои возбуждают желания,
Взгляда их только и жду…
Всюду пойду: на край света, в изгнание,
Но… под венец не пойду!
Это в романсе говорит мужчина, а вы представьте, что, наоборот, барышня говорит так мужчине, – только и всего. Есть, значит, бывают иногда, встречаются на свете, даже и в Москве такие барышни: не хотят замуж, хоть ты их убей, повесь, а потом застрели или утопи, как тебе бог на душу положит!..
И тут же, точно по какому-то капризу, пришла Матийцеву мысль, правда, очень странная: «А что, если эти слова „не теряйте надежды“ значат ни больше ни меньше, как…» Он даже додумать до конца постеснялся, до того тут же нелепой стала казаться ему внезапно пришедшая мысль… Просто, думалось ему назойливо, она была в большом возбуждении, придя домой после концерта Шаляпина: пение, как и музыка, вообще сильно действует на женщин. Возбуждение это надо было ей немедленно вылить на листок почтовой бумаги, а слово «Здравствуйте», поставленное вначале письма, ни к чему ее не обязывало: письмо могло писаться кому угодно, так себе, вообще, в пространство. И только в самом конце, быть может, она подумала, – кому же, собственно, она пишет, и, вспомнив о нем, добавила несколько строк ни к селу ни к городу… Да и о нем ли, действительно, вспомнила? Может быть, о ком-нибудь другом, а его адрес на конверте поставила просто по рассеянности или потому, что не могла припомнить чьего-нибудь другого адреса, и вот подвернулась ей под руку – Голопеевка, шахта «Наклонная Елена»…
Однако эти обидные для него лично (да и для Лили) мысли держались в нем недолго: чувство радости быстро их одолело, а радость струилась от письма вместе с духами, название которых он слышал от Лили, но не удержал в памяти: пытался теперь вспомнить это французское название – и не мог.
Кроме той постоянной работы, в которую он втягивался после происшествия с ним в памятный вечер, окрещенный им про себя «предсмертным», в нем самом теперь шла хотя и подспудная, но крупная и новая для него работа: представлялось совершенно необходимым осмыслить все то, что его окружало, и найти в нем свое определенное, точное, безошибочное место. А для этого приходилось теперь не только гораздо внимательнее приглядываться ко всему кругом, но и читать об этом то, что или не попадалось на глаза или от чего просто отмахивался раньше.
Голопеевка не стояла особняком со своими двумя шахтами и металлургическим заводом: она была только небольшой частицей огромного угольного бассейна, и вот теперь, – только после «предсмертного» вечера, – мысли Матийцева оторвались от Голопеевки и своего места в ней и ринулись – он это ощущал отчетливо – в ширь.
Он как будто сразу сломал какую-то преграду, стоявшую перед ним, открытие сделал. Может быть, несколько поздно для своих лет сделал это открытие, но зато оно вместилось в него прочно и навсегда. То, что открылось ему, было очень серьезно, очень важно, – основа жизни не только даже одного Донецкого угольного бассейна, а и всех других подобных «бассейнов», всего русского государства в целом.
Но вот пришло письмо от Лили, как будто сама она вошла к нему, в его утлую квартирку, и как отхлынуло сразу его «открытие»!.. Оно не то чтобы ушло совсем, нет, но отодвинулось, – лучше сказать, озарилось ярким и радостным светом Лили. Там было огромное, и, между прочим, его тоже, а здесь хотя и небольшое как будто, по сравнению с тем, но зато всецело и исключительно его и ничье больше. С кем мог бы он поделиться своей этой радостью, да и зачем стал бы делиться ею?
Если и навертывалась иногда мысль, что как же это Лиля пишет ему, новому уже теперь, в таком же точно тоне, в каком писала раньше, то тут же он оправдывал ее тем, что не написал ей ни слова о своем «предсмертном» вечере, и как бы мог он написать ей об этом? Она не знала, что произошло с ним, и, решал он, хорошо, что не знала. Даже в ответе на это письмо он не намекнет ей об этом ничем: ведь это совсем не веселый концерт Шаляпина в Воронеже.
На сером сургуче, которым был запечатан конверт, очень отчетливо виднелись выдавленные печатью имя и отчество Лили – Елизавета Алексеевна, но в мыслях Матийцева она оставалась и теперь, как прежде, только Лилей, и мысли эти, взбудораженные донельзя, все время упирались в туманные слова: «Но все-таки я к Вам благосклонна, и Вы не теряйте надежды…» Что это значило, он не мог догадаться, – точнее, не решался понять это так, что она снизошла бы к нему со своих светлых высот…
Насчет же Шаляпина с его концертом он вспоминал то, что пришлось как-то год или полтора назад прочитать ему в одной петербургской газете. Описывалось весьма гневно, как Шаляпин не то чтобы давал концерт, а просто был у кого-то в гостях в одном из огромных столичных домов и пел там для хозяев и их гостей, когда вдруг подают ему записку: «Я умираю, но никогда в жизни не слышала Вас, а мне говорят, что Вы в настоящее время поете в одной из квартир нашего дома. Не принесете ли Вы радости умирающей женщине, – последней уже, быть может, радости в ее жизни, не зайдете ли к нам, не споете ли хотя бы одну какую-либо вещь из своего репертуара? Как бы была Вам благодарна я, умирающая!»
Писавшая это была дочь одного известного, умершего уже писателя и сама была писательницей, и Шаляпин знал это, и однако же он написал ей карандашом на ее же письме:
«Сударыня! Если я буду петь для всех умирающих, то через неделю я останусь без голоса». И подписался. А не больше, как через неделю, умиравшая, – она была больна раком, – действительно умерла. И в газету этот случай с Шаляпиным попал рядом с ее некрологом.
Газета писала тогда о Шаляпине уничтожающе, Матийцев же думал теперь о Лиле, что вот она, к счастью, вполне здоровая, получила полную возможность услышать Шаляпина, может быть и не в первый раз, а пишет ему не столько о впечатлениях своих от голоса и манеры петь знаменитого певца, а больше о воронежских дьяконах и протодьяконе Вавиле. Между тем самому ему никогда не приходилось слышать или видеть на сцене Шаляпина, и несчастным от этого он себя не чувствовал. Но теперь он замечал за собою, что ему была приятна удача Лили попасть на концерт «Феди», как его величали дьякона.
Ведь вот и его когда-то в Москве постигла удача зайти на выставку картин как раз в такое время, когда там была Лиля. От себя, с Пречистенки, она, конечно, приехала тоже на извозчике за двугривенный. Пусть это было и мало для какого-нибудь бородатого пожилого семейного мужичка-извозчика с его разбитой на все ноги клячонкой; пусть сама Лиля не вынесла ничего приятного для себя с выставки, где ни одна картина, как он знал, не произвела на нее заметного впечатления; зато он сам увидел ее там в первый раз и за это был благодарен и тому неведомому извозчику и его кляче с запалом…
Он уселся было уже за стол, чтобы написать ответное письмо Лиле, как услышал у себя в прихожей чей-то знакомый, громкий, уверенный голос, обращенный к Дарьюшке, и через две-три секунды увидел перед собою инженера Яблонского с шахты «Вертикальная Елена», как будто какою-то невидимой сеткой огражденного от угольной пыли, до того он был крупичато бел и в безукоризненно белой, даже накрахмаленной рубахе, что очень изумило Матийцева.
Между ним и Яблонским не было ни малейшей близости, хотя они и служили у одних хозяев. Они как-то сразу не сошлись характерами, и Матийцев не искал с ним сближения, а Яблонский тоже его чуждался. Поэтому Матийцев широко открытыми глазами смотрел на крупную фигуру своего старшего товарища, на его круглое лицо с пушистыми холеными соломенного цвета усами: каким ветром могло его занести к нему? И как бы для ответа на немой вопрос его глаз Яблонский сказал ненужно крикливо:
– Вот теперь я вижу, что вы живы-здоровы!.. Мое шанованье, пане!
Из-под усов блеснули крепкие ровные зубы, а серые наблюдавшие глаза заискрились веселостью; даже и теплая мягкая рука его явно стремилась показать, что она настроена вполне дружественно.
– А где же тот знаменитый стул, который?.. – тут же и весьма непоследовательно спросил Яблонский, оглядывая комнату.
– Какой стул? – Но, тут же догадавшись, о каком стуле спрашивает гость, Матийцев сказал: – Знаменитый стул этот, – точнее, его обломки, – увезен судебным следователем.
– А-а, будет лежать на столе вещественных доказательств, как и полагается, во время суда… Ну, положим пока это на другой стул, не столь знаменитый.
И Яблонский тут же освободил себя от довольно объемистого свертка, который держал в левой руке, добавив небрежно:
– Тут я захватил кое-что, идя к вам, а то вдруг у вас, думаю, не окажется, и придется беседовать нам всухую.
Яблонский был всего лет на пять старше Матийцева, но у него был уже вполне солидный вид зрелого человека, знающего себе цену и понимающего кое-что в жизни. Усевшись около стола и очень внимательно оглядев Матийцева, он как будто неподкупно искренне решил:
– Молодцом! Положительно, молодцом глядите!.. Чертовски вам повезло!.. Ведь такой случай, как с вами, его прямо бы заказать надо, – буквально так: заказать! Дать рублей двадцать – тридцать этому чудищу, коногону Божку, – я ведь его отлично знаю, он у меня на «Вертикальной» был, пока я его не прогнал; тогда он на «Наклонную» перешел, сокровище это!.. Что у вас, мускулы, что ли, имеются? – И Яблонский беззастенчиво охватил пальцами правую руку Матийцева выше локтя.
– Только для домашнего употребления, – скромно сказал Матийцев, мало что понимая и в этом визите Яблонского и в том, что им говорилось так шумно.
– Да-а, – мускулы самые средние, конечно, – протянул Яблонский, – но все-таки у вас было то преимущество, что Божок был перегружен сиволдаем… Так или иначе, счастливо отделались, счастливо, – с чем вас и поздравляю! – И Яблонский затем снова протянул ему руку и даже привстал при этом немного для пущей торжественности.
– Имейте в виду, что вы теперь на хорошей дороге, – это я даже и от нашего Безотчетова слышал и с ним совершенно согласен, – продолжал Яблонский столь же оживленно. – Как же, поймите: инженер, заведующий шахтой стал объектом покушения на убийство со стороны шахтера, что, разумеется, скоро будет разбираться в окружном суде, попадет, – это как дважды два верно, – в газеты, это – событие! Это создаст вам имя в самом скором времени, вы увидите!.. Это зна-ачительно подымет вас в глазах горнопромышленников! Вы блестящую карьеру себе этим сделаете, – помяните мое слово! И это, как хотите, надобно нам по-товарищески вспрыснуть, как говорится… У вас, кстати, штопор-то есть, чтобы бутылку откупорить?.. А если нет, то как же нам быть?
– Кажется, есть на кухне, – пробормотал неприятно пораженный словами Яблонского Матийцев и крикнул в сторону дверей: – Дарьюшка!
А Дарьюшка, должно быть, стояла за дверями, стремясь послушать, о чем говорить будет гость, потому что вошла со штопором.
– Вот, она свидетельница, – беря у нее штопор, весело говорил Яблонский, – что я к вам заходил на другой же день после этого… происшествия с вами!
– Были, были, как же! Заходили проведать, – торопливо подтвердила Дарьюшка.
– Вот!.. Был, но мне сказал доктор, что вас лучше всего не беспокоить, что было и понятно… А штопор ни к черту, э-э! Разве это штопор? Это только идея штопора и то топорная!.. Все же попробуем.
И Яблонский, точно он, а не Матийцев был здесь хозяином, начал выкладывать из свертка на стол ветчину, нарезанную тонкими ломтиками и завернутую в глянцевитую белую бумагу, коробку шпротов, плюшки и, наконец, торжественно поставил на середину стола бутылку белого вина, сказав при этом:
– Шато-икем, а? Настоящее французское, – не думайте, что здешнего разлива!.. В Харькове покупал!
Яблонский хозяйничал в чужой квартире так естественно, как ни за что не мог бы сам Матийцев, не имевший к этому никаких способностей. Недостаток свой в этом отношении Матийцев знал, но никогда он не ощущал его так резко, как теперь. Отчасти поэтому он только пожимал плечами на то, что говорил о нем же Яблонский. Да и что можно было сказать человеку, который упорно говорит о тебе, блондине, что ты – жгучий брюнет? Это можно принять за шутку, но зачем же возмущаться явной шуткой и на нее возражать? По меньшей мере странно.
Однако Яблонский, налив вина в принесенные Дарьюшкой стаканы, начал вдруг говорить вещи еще более странные.
– Знаете ли, мне что подумалось? Вот вы, – это, конечно, бесспорно, – составите себе имя и мало того, что получите место го-раз-до более выгодное, чем здесь имеете, а еще и при новых выборах в Государственную думу можете пройти по курии, например, мелких землевладельцев… Впрочем, я не знаю ведь точно, может быть, и крупных, а?
– То есть как «крупных»? – удивился Матийцев и улыбнулся. – Вы, кажется, думаете, что я – помещик?.. Но я, помнится, говорил вам, что нигде и никакой собственности не имею.
– Да, мне тоже что-то подобное помнится, – чокаясь с ним, подхватил Яблонский, – так вот давайте выпьем за будущего хотя бы, например, мелкого пока землевладельца в недалеком будущем!
– То есть за вас? Охотно! – с той же улыбкой сказал Матийцев, но Яблонский поморщился.
– Экий вы какой недогадливый! За вас, а совсем не за меня!
– Каким это манером?
– А вот каким, – я сейчас объясню вам.
Тут Яблонский выпил весь свой стакан, как воду, и, поглядев на свет на его дно, начал не спеша:
– Под Житомиром, недалеко от города, есть у меня усадьба, остаток родительского имения, – небольшая, всего-навсего семь десятин земли, и при усадьбе дом и, конечно, сад, – сливы, вишни, еще что-то… Дом вполне приличный, двухэтажный, вы не думайте, что рухлядь, что вот-вот развалится, – нет! Службы при доме, конечно, крыто все черепицей… Так вот…
Матийцев слушал его с большим удивлением. Он уже начинал догадываться, куда клонится это описание усадьбы под Житомиром, но все же думал, что вдруг обернется все как-нибудь по-другому. Однако не обернулось.
– Так вот, – закончил Яблонский, – вам остается только купить у меня эту мою усадьбу за шесть всего тысяч, – ерундовые деньги! – и будете вы мелкий землевладелец и получите право стать членом Государственной думы, и будет тогда в вашу кишеню, как говорят хохлы, ежедневно лезть золотая десятка!
Матийцев не мог удержаться от смеха при последних словах Яблонского, – с такою ужимкой они были сказаны.
– Послушайте, это все ведь вы шутите для пущей веселости! – весело сказал он.
– Какие же тут могут быть шутки? – даже как будто несколько обиделся Яблонский. – Решительно никаких шуток, а я вполне вам серьезно.
– Допустим, что серьезно, но, во-первых, откуда же у меня могут взяться шесть тысяч?
– Да ведь усадьба моя заложена, конечно, в земельном банке, так что вам доплатить мне придется пустяки, а долг мой банк перепишет просто на вас, – и только… и вот вы землевладелец.
– Хорошо, пусть даже и так, но зачем же мне все-таки становиться землевладельцем, хотя бы и мелким, в какой-то Житомирской губернии?
– Волынской, а не Житомирской, – строго поправил его Яблонский.
– Совершенно мне ни к чему это, – продолжал Матийцев, по-прежнему весело и не обратив внимания на поправку.
– Из усадьбы, – ведь она под большим городом, – продолжал Яблонский, – можно бы сделать дачное место: там все для этого данные: сад, купанье есть… А дачники – это уж доход… Поймите, что если бы дом, да и другие там постройки, если бы это стояло все в самом Житомире, то стоило бы не шесть тысяч, а верных десять, – вот что я вам скажу! Предприимчивый человек мог бы опериться на этом деле.
– Ну, а я какой же там предприимчивый, – отходчиво сказал Матийцев и даже безнадежно махнул рукой.
– Хорошо, допустим, что вы не можете купить, – начал вновь Яблонский, наливая вновь стаканы. – Но ведь у вас могут быть знакомые сколько-нибудь денежные, вы можете им предложить эту усадьбу, а?
– Совершенно нет у меня, к сожалению, ни одного такого знакомого, – для приличия несколько подумав, отозвался на это Матийцев, начиная уже понимать, что только за этим и явился к нему вдруг гость, какого он не ждал.
А гость, проявляя большой аппетит к принесенной им же ветчине и шпротам, продолжал говорить гораздо больше, чем хозяин, хотя тоном уже несколько опавшим:
– Не понимаю, как же это вы, да… Признаюсь, не понимаю. Ведь, в сущности, вы спаслись как-то чудесно, если можно так выразиться, от смертельной опасности, но вот вопрос: для чего же именно над вами проделано судьбой это спасение? У нас в семье было это поверье – или как хотите его зовите, хоть суеверье, – что если человеку угрожала смерть, – ну просто, скажем, около него стояла и уж косой на него замахнулась, а он все-таки уцелел, то это не зря: тут какие-то соображения у госпожи Судьбы насчет подобного человека, – для чего-то он еще должен годиться. А для чего же еще, как не для богатства? Значит, вместо смерти к вам Судьба богатство подсунула, только вы его пока не видите, пока еще слепы… Я пришел вам на это глаза открыть, а то в вас что-то, мне кажется, по-ря-дочная порция наивности студенческой сидит.
– Вы полагаете? – спросил, улыбаясь, Матийцев.
– Что там полагать, когда и так видно… С меня довольно давно уж соскочило, а у вас – непочатый еще угол.
– Так что вы себе линию жизни уже начертили? – с любопытством спросил Матийцев, наблюдая не без удовольствия, как он жует ветчину, шпроты и булку и как запивает это вином, которое он даже забыл похвалить, хотя оно было французское и куплено в Харькове, – вот до чего стал рассеян!
– О-о, я! Чтобы я еще шатался из стороны в сторону в мои годы! – самодовольно и уже подняв голос, отвечал Яблонский. – Не может быть об этом и речи! Для меня цель жизни ясна, как… как вот это стекло! – Тут он щелкнул пальцем по стакану. – К сорока годам у меня должно быть не меньше, как триста тысяч! – Тут он посмотрел на Матийцева победоносно и добавил: – Больше, – это другое дело, но меньше, это уж атанде, сказал Липранди!
– Триста тысяч? – повторил Матийцев изумленно, но Яблонский, почувствовав в тоне его голоса только неверие в него, в то, что может действительно быть в его руках к сорока годам жизни триста тысяч, заговорил уже с задором:
– Да, триста тысяч! А что же тут такого особенного, если я – горный инженер?
– Я тоже горный инженер…
– Но позвольте узнать, зачем же вы поступили в горный институт после гимназии, а не в университет, например?
– Да, конечно, зачем? Причины были больше романтические, чем такие практические, как у вас.
– Ро-ман-тические?.. Например?
– Например, что же именно… Тайны земных недр, – вот что меня, зеленого юнца, привлекало.
– А-а, – это что же, – с точки зрения их открытия, что ли? Как Александр Гумбольдт у нас на Урале алмазы открыл? Алмазы в четверть карата весом! И много ли он нажил на этом открытии?
– Не алмазы, конечно, мне представлялись, а хотя бы, скажем, залежи того же каменного угля… или нефти, – припоминая себя гимназистом восьмого класса, сказал Матийцев.
– Залежи угля, нефти? Гм… Предположим, что открыли какие бы там ни было и на чьей бы то ни было земле, но ведь не на своей же собственной, раз вы – не помещик! На государственной? В экспедицию на разведки вам захотелось? В какую-нибудь тьму тараканскую, где нога человеческая еще не была? Мерси покорно!.. И чтобы вас там между делом какой-нибудь бурый медведь начал грызть, а вы чтобы премию в тысячу рублей от казны получили за обнаружение залежей антрацита там, откуда его и вывезти невозможно?.. И что же с вами, однако, случилось в конце-то концов? В экспедицию вы не попали, а попали сюда на «Наклонную Елену», и не к бурому медведю, а к коногону Божку в лапы!
– Да, так именно и случилось, – согласился с ним Матийцев, уже не улыбаясь.
– И это, конечно, получилось гораздо умнее, чем экспедиция к черту на кулички, как почему-то говорится! – продолжал Яблонский, воодушевившись снова. – А то ведь все эти научные открытия так называемое человечество о-от-лично ценить умеет! Дока-зало это оно, когда Лавуазье голову оттяпало на гильотине!.. Декарт вот тоже сделал открытия в математике, а череп его с аукциона продали в Стокгольме в тысяча восемьсот двадцатом году.
– Как? Череп Декарта с аукциона? – усомнился было Матийцев, но Яблонский вскинулся:
– Что? Не знали этого? А об этом еще Шопенгауэр писал с философским спокойствием… Так вот и спрашивается: на кой же черт тянуть из себя жилы ради так называемой пользы человечеству?
– Так что вы полагаете, – усмехнулся Матийцев, – что гораздо лучше поставить вместо отвлеченного понятия «человечество» вполне конкретное: «бельгийская угольная компания»?
– Гораздо лучше! Гораздо лучше! – пылко подхватил Яблонский, как бы не заметив иронии. – И вот, на пользу бельгийской компании и на свою тоже, разумеется, поломайте-ка голову над тем, как удешевить себестоимость угля, – вот вам и будет научное открытие!
– Путь для этого только один, – серьезным тоном сказал Матийцев, а Яблонский так и прилип к нему глазами:
– Какой же, вы думаете? Какой именно?
– Машинами заменить шахтеров.
– Ма-ши-нами? Но-вое дело! – разочарованно протянул Яблонский. – То есть не только одних шахтеров, но и лошадей в придачу… Маленького не хватает: этих вот самых машин. Бензиновозы? Ввели их было, а что толку от них? Нет, нужно что-то другое, только это ведь не наша с вами, горных инженеров, специальность: технологи тут думать должны, а не горняки… Притом, конечно, с талантами к изобретательству, вроде Эдиссона… А с привилегиями на изобретения такая везде волокита, что черт с ними… У нас и технологи карьеры себе не сделают и капиталов не наживут… Да, наконец, кого же именно может, в конечном-то счете, интересовать удешевление добычи угля? Шахтовладельцев или их инженеров?
– Думаю, что и тех и других.
– Напрасно! Напрасно так думаете!.. Исключительно только хозяев шахты, а инженерам от этого ни теплее, ни холоднее… Отсюда вывод: всякий инженер должен стремиться только к одному, – стать шахтовладельцем, тут тебе альфа, тут тебе и омега… Вопрос только в том, как именно это сделать.
– Гм, действительно, как? – улыбнулся Матийцев. – Трудноватый как будто и для вас вопрос?
– «В каждом доме есть деньги, – говорил Кречинский, – надо только уметь их взять», – ответил Яблонский, и хвостик шпрота мелькнул и исчез под его пушистыми усами.
– Это вы не о выгодной ли женитьбе хотите сказать? – догадался Матийцев и почему-то вспомнил тут же письмо Лили.
– А что такое наша с вами служба в шахтах, как не продажа себя бельгийской компании?.. А выгодная, как вы сказали, женитьба что такое? Не та же ли продажа себя, только за гораздо более приличную цену?
– И какую же именно цену за себя вы считали бы приличной? – с большим любопытством спросил Матийцев, в голове которого завертелась строчка: «Надежды юношей питают» и следом за ней другая: «Вы не теряйте надежды…»
– Не так давно, представьте, – всего месяца полтора назад, – оживленно заговорил Яблонский, – подвернулась было партия… Только что окончила институт… Не то чтобы красива, но все-таки и не урод же, а уж наивна прямо до глупости… Так что с этой стороны и так и сяк, – вообще терпимо… Но-о, чуть только вопрос зашел о приданом, – мерси, не ожидал, – тридцать тысяч, только и всего!
– Что же, как будто не так уж мало, – заметил, наблюдая его с интересом, Матийцев.
– Как для кого, – развел руками Яблонский. – Тридцать тысяч? Что же это за деньги тридцать тысяч? Какую шахту можно купить за тридцать тысяч?.. А какой-то кислой девчонке со всей ее родней себя уже продал! Нет, – гиблое дело! Я отказался… А вообще-то, должен вам сказать, мне в высочайшей степени безразлично, кому именно себя продать, пусть даже старухе, только бы дала побольше.
– Хоть и ведьме киевской? – без улыбки уже спросил Матийцев.
– Хоть и самой настоящей ведьме с Лысой горы, решительно все равно, лишь бы в руках у меня был капитал! Вы слыхали, может быть, Фигнер-то, известный тенор, солист его величества, купил угольные копи в Ткварчели, в Грузии, и теперь уголь в казну поставляет. Да ведь на огромные суммы, – не кое-как! Большое дело у этого бывшего певца в руках. Вот это я понимаю! А Шаляпин…
– Что Шаляпин? – невольно перебил Матийцев, снова вспомнив Лилино письмо.
– Да мне говорили о нем, будто он тоже где-то на Кавказе землю купил и стали ему там бурить. Доломит будто бы нашли – тридцать четыре процента кремнезема, – что тоже не так уж плохо, только ему хочется, будто бы, непременно нефть у себя на земле найти. Вот к чему приходят артисты – певцы, посвятившие, как говорится, жизнь свою святому искусству. А мы с вами, раз мы инженеры, должны быть смолоду людьми дела, а не каких-то там мечтаний!.. Что такое время? Философское понятие? Вполне возможно, однако практичные люди говорят: время – деньги. А что такое дело? Тут и непрактичные люди ответят то же самое: деньги. А без денег денег, не сделаешь… Тысяч сто – это еще и так и сяк для начала, – вот моя крайняя цена, а не то чтобы какие-то тридцать… Так что если у вас есть на примете такая особа, – будь она для вас даже как рвотный порошок противна своею наружностью, я не откажусь ее осчастливить, черт бы ее драл! Зато у меня тоже мог бы быть ткварчельский уголь, а я бы уж дело поставил, как говорится, мое вам нижайшее почтение! У тенора Фигнера какой же может быть опыт в этом деле? Решительно никакого! Его всякий из нашего брата инженеров обернуть вокруг пальца может, а уж меня не обманут, дудки! Я всякому такому как следует хвост накручу! – И Яблонский, сжав кулаки, начал так энергично крутить ими, что чуть не свалил со стола свою бутылку, теперь уже почти пустую, причем выпил вино, за исключением одного лишь стакана, он сам.
Слушая и наблюдая Яблонского, Матийцев представил всего лишь одну минуту себя инженером на шахте, хозяином которой, в Ткварчели или в Донецком бассейне, был бы его теперешний гость, и ему у себя же в квартире стало не по себе.
Не то чтобы тут же выгнать захотелось ему слишком развернувшегося Яблонского, но он уже не пытался больше улыбаться; даже и губы сжал и осерьёзил глаза.
Голова Яблонского была несколько странной формы, вытянута спереди назад яйцом, так что даже и с первого взгляда всякому бросался в глаза его крутой, хозяйского типа затылок. Боковым пробором и начесом волос сбоку на темя Яблонский, видимо, силился округлить линию головы, но при его негустых уже волосах это ему плохо удавалось.
Смотрел он как-то вполглаза: тяжелы ли были у него верхние веки, или он просто приучил себя именно так смотреть, чтобы придать себе побольше важности. Лицо его нельзя было назвать ни красивым, ни умным, – оно было как-то подчеркнуто грубовато. Такое лицо могло быть у сорокалетнего толстяка, хотя толст Яблонский, при росте выше среднего, не был.
Внимательно разглядывая его, Матийцев как-то незаметно для себя ставил с ним рядом Лилю. Может быть, потому так у него вышло, что тот только что спрашивал, нет ли у него на примете богатой невесты. И до того вдруг ясно ему показалось, что Лиля была бы довольна, если бы ее мужем сделался Яблонский, что чуть было он не сказал: «Есть у меня на примете богатая невеста!..» Остановило его только то, что он совершенно не знал, какое приданое могут дать за Лилей. Для него она была хороша без всякого приданого, но только теперь вот именно он постиг житейскую истину, что красивая женщина тянется к богатству, нуждается в нем, как дорогой бриллиант в золотой изящной оправе. А какая же пара мог бы быть он, Матийцев, горный инженер, совершенно ничего, кроме жалованья, не имеющий, такой женщине, как Лиля?
Совсем другое дело Яблонский: он бешено, напролом стремится к богатству, а это значит, что непременно и станет богат… И, как бы в подтверждение его мыслям, Яблонский заговорил о себе:
– Я представлял вам возможность стать со временем членом Государственной думы, но вы… почему-то отказались. Это – ваше личное дело, конечно. Но зато я… я от членства в Союзе горнопромышленников Юга России не отказался бы, если бы имел свою шахту. И я бы постоянно выступал с речами и докладами на съездах горнопромышленников, а не был бы безгласным Пеньком Иванычем. Там же, – если вы не читали их протоколов, могу вам сказать, – только воду в ступе толкут, а светлой головы ни одной незаметно. Вот теперь все кричат об угольном кризисе: «Угольный кризис! Угольный кризис!» А что это за угольный кризис такой? Откуда мог у нас взяться угольный кризис? Я вам скажу, откуда. Очень дешево у нас ценят уголь – вот причина недостачи угля! Нет никакого смысла увеличивать его добычу, когда цена ему на месте шесть-семь копеек за пуд! Взвинтить цену на уголь надо общим решением съезда горнопромышленников, вот тогда и был бы смысл взвинтить добычу!.. «Постановили: пуд каменного угля на месте держать на высоте десяти копеек, антрацита – двенадцати. Постановление это строго соблюдать всем горнопромышленникам Юга России». Вот и все! И все убедились бы тогда, что исчез, как дым в небе, всякий этот там угольный кризис!
Как ни хотелось Матийцеву улыбнуться в ответ на это, он все-таки не разжимал туго сжатых губ, только старался не смотреть на Яблонского, и, очевидно, заметив такое его отношение к своей горячей тираде, Яблонский встал наконец и решил проститься, говоря:
– Я, кажется, утомил вас: вы еще слабы, конечно, – не совсем поправились… Ну, поправляйтесь, поправляйтесь, – а то ведь вам, пожалуй, скоро и повестку в суд пришлют.
– Вы думаете, что скоро? – спросил Матийцев вполне равнодушно.
– А что же им его затягивать, это дело, если оно совершенно ясное и ни в каком доследовании не нуждается? – пожал плечами Яблонский, но тут же добавил: – Неясно в нем разве только одно это: каким образом вы могли остаться в живых, но-о… это уж выяснится на суде.
После этих многозначительных слов он ушел наконец – широкоспинный, в новеньком костюме из легкого серого в клеточку трико, с золотыми запонками на манжетах и в галстуке бабочкой, который наверно бы, – так подумал Матийцев, – понравился Лиле.
Только после ухода его Матийцев мог снова взять в руки Лилино письмо, которое как раз перед его приходом положил на этажерку в своей спальне, плотно притворив туда дверь. Но он заметил, что запах духов от письма не утаился от Яблонского, что тот принюхивался к нему, раздувая ноздри широкого носа, как конь к запаху свежего лугового сена, и даже посматривал иногда подозрительно на дверь в спальню, нет ли женщины за этой дверью.
Но как ни странно было в этом признаться самому себе, Матийцев чувствовал теперь с тяжестью в душе, что нежданный гость его хотя и не проник в тайну письма от Лили, однако очарование, шедшее от него, свеял. И даже сама Лиля, близко подошедшая было к нему так недавно, теперь почему-то отошла в сторону, сделалась тусклой, заволоклась.
До прихода Яблонского он думал не то что описать в ответном письме Лиле, что с ним случилось, – он понимал, что ей этого не нужно писать, – а только бы несколькими словами намекнуть на перелом в его воззрении на жизнь; теперь же как-то само собой это желание его хоть чуть-чуть приблизиться к ней отпало. Ничего не случилось с ним; он остался прежним… И как всегда на ее шутливые коротенькие письма он старался отвечать тоже коротенькими и шутливыми, так и теперь, усевшись, наконец, писать ей, он смог придумать только несколько строк:
«Не понял я, сколько ни старался, на что я, „юноша“, должен, по-Вашему, надеяться. Если на то, что Шаляпин приедет давать концерт к нам, в Голопеевку, то ведь такого количества дьяконов, как в Воронеже, он не найдет у нас, и его, увы, пожалуй, даже не оценят. Скорее я уж буду надеяться на то, что он, многоденежный, купит где-нибудь поблизости от нас доходные угольные копи и пригласит меня к себе заведующим, положив мне, конечно, хотя бы в полтора раза больше жалованья, чем я получаю. На Кавказе, говорят, он на одном из своих участков нашел доломит, но доломит – пустяки, на нем не разбогатеешь».
Написав про доломит, он подумал, что незачем было писать об этом, что Лиля, конечно, не знает, что такое доломит и куда годится, но другого письма не хотелось ему писать.
Тем временем у Дарьюшки готов уже был обед, а после обеда Матийцев решил отнести свое письмо на почту в поселок, тем более что день был не очень жаркий и не ветреный, то есть не пыльный.
Хотя от рудника до поселка было минут двадцать ходу, но Матийцев как-то даже не заметил расстояния. Он, шагая, думал, как и у себя в квартире, о Лиле, Яблонском, Шаляпине. Они, эти трое, очень тесно сплелись почему-то в его мозгу.
Лиле, как и всем воронежским дьяконам, непреодолимо хотелось послушать «Блоху» в исполнении Шаляпина; Яблонскому хотелось доподлинно узнать, сколько и где участков земли купил не знающий куда девать свои шальные деньги знаменитый певец и чем именно богаты недра этих его участков, а до «Блохи» и до того, «Как король шел на войну», ему не было ровно никакого дела.
Дойдя до поселка и сдав на почте письмо, Матийцев остановился перед гостиницей с французским названием «Hotel Hermitage».
Неказистый вид был у этого отеля. Стены, оштукатуренные, должно быть, лет пять назад, теперь уже в недопустимой степени облупились, да и вывеска с пышными французскими словами потеряла уж даже и ту нарядность, какую имела года два тому, когда он впервые увидел ее еще студентом-практикантом.
Только теперь пришел в голову вопрос, почему армянин Кебабчиев заказал именно такую вывеску, и тут же явился ответ: да ведь угольные копи принадлежат бельгийской компании, а металлургический завод – французской, – как же было иначе назвать гостиницу в Голопеевке? Разумеется, только Hotel Hermitage, или же Hotel Paris.
От Эрмитажа Матийцева потянуло было в сторону слободки, где были две, горестные с виду, хатенки вдов двух забойщиков, погибших на «Наклонной Елене», но тут из пивной впереди его вышли двое пожилых и пьяных, бородатых и грязно одетых, несмотря на праздничный день. Не признать в них шахтеров из приезжих опытному глазу было нельзя: если не с «Наклонной Елены», то с «Вертикальной».
Держались они, впрочем, весьма наклонно, ставя при этом очень замысловато свои ноги в рыжих опорках; и один из них, ростом повыше, видно было, цепко ухватился за другого, чтобы как-нибудь нечаянно не упасть.
В то же время этот, более высокий, оказался и более речистым, и голосом хотя хриплым, но громким продолжал выкрикивать что-то, начатое, очевидно, еще в пивной:
– Он… мне… говорит: «Там!..» – «„Там“ – это что же такое?.. – вспрашиваю я его. – Где же это, стало быть, мне прикажешь искать „там“? Ты мне скажи по-человеческому, а не то чтобы „там“!»
Матийцев пошел, не ускоряя шагов, за пьяными, так как ему захотелось тоже узнать, что скрыто было под коротеньким словом «там», действительно очень неопределенным, но узнать этого не пришлось ему: разговор круто повернул в сторону от «там» другой пьяный.
– Ну, ты же спал ночью или нет? – спросил он.
– Спа-ал? Спа-ал, я, ты говоришь? – завопил вдруг высокий. – Клоп, и тот боле мово спит!
– Кло-оп? – усомнился который был пониже.
– Истинно тебе говорю: клоп! – подтвердил другой. – Он, клоп, тварюга эта, только по ночам из нашего брата кровь точит, а дне-ем… днем он себе поса-пывает в своей щелке, – стало быть, дрыхнет!.. Вот те и клоп! Я же этой ночью, ежель ты хотишь знать, и двух даже часов не спал!
– Это ж по какой… ты прит-чине?
Высокий задержался на шаг, ткнул в грудь другого и ответил торжественно.
– По той самой причине это я, что кошка на мне окотилась, – понял?
Однако тот не понял, не хотел даже поверить.
– Как это кошка могла такое? – замотал он головой. – Ну, ты брехать мастер… ты – мастер, конечно, только скажу тебе, не на такого напал!
– Не веришь, а?.. Во-от черт какой, – не верит!.. – изумился высокий. – А что же тут можно не верить, раз ежели мы вдевятером на одном полу спим, а?
– Вдевятером, – это не касается! – продолжал отрицательно мотать головой другой. – Вдевятером – это подходяще, а кошка?.. Кошку-то ты к чему приплел?
– Ка-ак же это к чему кошка? Наша ведь она кошка, не чужая какая забеглая: нашего двора она, понял? Чу-удное дело, – как это кошка могла!.. Так и могла, вот что!.. Я себе это сплю, ничего… Ну, однако, середь ночи проснулся… Проснулся это, гляжу – темь округ меня, а по груди своей лапаю, – склизкое, ей-богу, – и будто воняет… И вот… что же это такое быть может, думаю? Может, это кровь из меня хлещет? Между протчим, думаю, как же может это быть кровь вонючая?.. Ну, ты сам об этом подумай своей головой: разве кровь наша вонять может?.. Не может этого быть, а между протчим своих серняков у меня не было, так я другой рукой к товарищу своему залез в карман… Действительно, вытащил у него я коробку, зажег спичку, гляжу это теперь при свете, – свят, свят, свят! – а на мне – вот она – кошка сидит, и глаза у ей зеленые! А кто же это возле нее колышется – много их? Котя-та! А? Вон ведь вышло что, а ты мне говоришь: спа-ал!.. Ей, кошке, значит, время подошло, а где же ей свое дело сполнить? Весь пол как есть битком забит нами!.. Вот она и выбрала, на ком ей окотиться: на мне!
– Выходит, ты ей мягче всех показался, – решил другой шахтер. А так как оба они остановились при этом, то Матийцев обошел их и посмотрел им в лица. У того, который только слушал, трудно было разглядеть глаза, – очень он зарос бурым волосом, а тот, на котором окотилась кошка, показался ему похожим на старый, еще семидесятых годов, этюд Репина, с подписью: «Мужичок из робких». Такое же было худое лицо, такие же серые, светлые глаза, – светлые, несмотря на хмель.
Уходя от них и уж не вслушиваясь больше в то, о чем они говорили, Матийцев пытался представить картину, как в тесной хатенке, на земляном, конечно, полу, вповалку спят те самые шахтеры, от которых он, инженер, должен требовать четкой работы за целый длинный день там, под землею…
И ему неловко стало идти даже и впереди этих двух пьяненьких бородатых, не только сзади; он перешел на другую сторону улицы. А здесь, едва успел он пройти один квартал, ему попался на глаза мальчик лет девяти-десяти, в изорванной рубашонке, когда-то, должно быть, розовой, теперь почти белой, грязно-белой. Он сидел на земле около незастроенного участка и обломком кирпича колотил по гвоздю, стараясь пробить им дырку в старой и ржавой коробке от консервов. Несколько еще таких коробок он уже нанизал на проволоку, и было ясно, что он хочет прибавить к тем еще и эту.
Около него лежал мешок, в котором было что-то. Матийцев остановился, так как взгляд, брошенный на него мальчуганом, неприязненный, исподлобья и вбок, показался ему знакомым: где-то видел и не так давно.
– Ты что такое тут делаешь? – спросил Матийцев, пытаясь в то же время припомнить, что это за мальчуган.
– Что? Машину, – отрывисто ответил мальчуган, пряча теперь уже глаза.
– Машину? Какую же именно? – И, спрашивая так, вдруг вспомнил Матийцев, что это – старший из четырех ребят погибшего в забое Ивана Очкура, вдова которого разрезала себе живот шашкой рудничного жандарма.
– А в мешке у тебя что? – спросил он снова, так как мальчуган ничего ему не ответил.
– В мешке? – повторил строитель машины, немного как будто даже испугавшись того, что забыл о мешке.
– Кусочки, должно быть? – догадался Матийцев, так как слышал от другой вдовы, Сироткиной, что этим ребятам, раз мать их в больнице лежит, не миновать «в кусочки идти».
Мальчуган тем временем придвинул мешок с кусочками к себе поближе, и Матийцев понял, что он чувствует себя несколько виноватым перед младшими братьями и сестренкой, что отдался влечению строить машину, а про то, что надо идти дальше за кусочками, чтобы набрать их хотя бы полмешка, совсем забыл.
Мальчуган был черноволосый, скуластый, с выдавшимися лопатками, торчавшими сквозь прохудившуюся на спине рубаху…
– Что же ты будешь делать с машиной своей, когда ее сделаешь? – спросил Матийцев. – Продавать ее будешь?
– А то! – оживился мальчуган.
– И много ль за нее хочешь?
– Полтинник! – неожиданно для Матийцева очень решительным тоном сказал мальчуган.
– Гм… полтинник… А зовут тебя как?
– Федька.
– А читать ты, Федька, умеешь?
– Не.
– А как же ты машины хочешь делать, а читать не умеешь? Чтобы машины делать, грамотным надо быть.
Тут Матийцев достал из кошелька серебряный полтинник и, подавая его Федьке, добавил:
– На вот тебе за твою машину.
Большое впечатление произвел он этим на Федьку. Тот поднялся даже и протянул ему все свои коробки, нанизанные на проволоку, чем поставил в затруднение инженера: не взять их, – пожалуй, еще обидится, а взять их в руки было противно.
– Вот что, Федька, – нашелся он наконец: – Ты ведь все-таки машину свою еще не кончил, а когда кончишь, тогда я ее и возьму… И советую тебе кончать ее дома, а теперь, раз уж послали тебя «в кусочки», ты от этого не отлынивай, – нехорошо так. Послали «в кусочки», значит, это и нужно делать, а не машину. Так-то, братец Федька… ничего не поделаешь: делай, что тебе приказали. Возьми-ка мешок, а машину свою пока спрячь здесь, в бурьяне, авось никто ее не найдет.
– Как никто? А мальчишки? – усомнился Федька.
– Спрячь так, чтобы и мальчишки не нашли… Кстати, их и не видно нигде.
Федька оглянулся по сторонам, сунул в мешок полтинник и, очень возбужденный своей удачей, пошел проворно с мешком за спиной и с коробками в руке прятать свою «машину» в бурьян.
И только дождавшись, когда он вернулся с пустыря с одним мешком, Матийцев пошел дальше. Впрочем, он скоро повернул назад, к своему руднику: с него довольно было того, что он увидел. Незачем было идти в шахтерскую слободку, тем более что идти туда надо было с деньгами, а у него их не было: выплата долга Безотчетову поглощала теперь большую часть его жалованья.
Украденные у него в Ростове деньги Безотчетова, так и не попавшие к какому-то Мирзоянцу, стали теперь, как видел это Матийцев, стеной между ним и главным инженером. Разумеется, он мог и не верить, что у него их действительно украли, эти пятьсот сорок рублей, и, конечно, он уже не обратится к нему вторично с денежным поручением. Это угнетало Матийцева, но исправить отношения с Безотчетовым теперь уже было нельзя.
Чтобы отделаться от долга хотя бы наполовину сразу, Матийцеву пришлось обратиться даже и к матери, чего он долго не хотел делать. Он знал, что у матери в шкатулке хранится какой-то выигрышный билет, оставшийся от отца, и писал ей в Петербург, не может ли она его продать и прислать ему деньги. Мать тут же сделала это и прислала ему двести двадцать рублей, а при первой же получке жалованья Матийцев сам предложил своему начальнику вычитать у него ежемесячно по шестидесяти рублей до покрытия всего долга, причем сам же написал и долговое письмо.
В тот день казалось ему, что Безотчетов вполне примирен, но вскоре он заметил, что появилась у него какая-то новая сухость тона и даже обидная подозрительность взгляда, когда он с ним заговаривал; странно как-то было видеть, что он и не пытался этого скрыть.
Совершенно другими глазами стала глядеть на него и жена Безотчетова, хотя ее пришлось видеть ему после нападения Божка раза три, не больше: она почему-то не проявляла к нему прежнего участия, хотя он, как серьезно пострадавший, в этом участии иногда нуждался.
Эта пожилая, молодящаяся Марья Павловна, с завитушками реденьких сухих волос неопределимого цвета и с припудренным носиком, читавшая только переводные французские романы, так как все вообще русские казались ей страшно скучными, была, как это и раньше заметил за нею Матийцев, убеждена в том, что непогрешимо знает и жизнь и людей. На пакете с деньгами, присланными ее мужем через писарька из конторы, она написала косым, преувеличенно женским почерком: «Только не проиграйте в карты. М. Б.», и теперь как же можно было разуверить ее, что эти несчастные 540 рублей не были проиграны?
Когда Матийцев лежал с повязкой на голове, она только один раз зашла к нему вместе с мужем; Безотчетов был у него потом раза два один. «Я прежде думала о вас гораздо, гораздо лучше!» – так и читалось Матийцеву в ее глазах теперь. А что «глаза – зеркало души», – это слышал от нее самой несколько раз Матийцев; это усвоила она, конечно, из французских романов и очень прочно.
Из двух помощников ее мужа Яблонский был ей много понятнее и ближе по натуре, – это давно заметил Матийцев, и знал он, что в подыскивании Яблонскому подходящей, то есть денежной невесты она принимала весьма большое участие. И теперь, подходя к воротам рудника, Матийцев пытался представить, сколько раз приходилось слышать от нее Яблонскому, что глаза – зеркало души, и испытывать на себе длительные и короткие, прямые и косвенные взгляды ее когда-то, должно быть, серых с прозеленью, но теперь совершенно уже выцветших глаз.
И, думая почему-то именно о Марье Павловне, Матийцев был немало удивлен, когда увидел ее возле небольшого особнячка квартиры Безотчетова; она прогуливалась вместе со своей рыженькой собачкой, неизвестной породы, остриженной ввиду теплого времени подо льва, хотя и бесхвостой.
Матийцев подошел к ней потому, что не подойти было бы неудобно, и первое, что от нее услышал он, когда подошел, было:
– А мы уж пообедали!
– Я тоже пообедал, – поняв ее, сообщил ей Матийцев, – даже успел вот пройтись до почты и обратно.
– Да, гулять вам надо, гулять надо, – посоветовала Марья Павловна. – Надо запасаться здоровьем… Я в шахтах никогда не была, конечно, и только от мужа слышу, что воздух у вас там ужа-асный, ужасный…
– Ну еще бы, разумеется, на поверхности куда лучше воздух, – в тон ей подобрал слова Матийцев.
– А как теперь ваша голова? – вспомнила Марья Павловна.
– Ничего, благодарю вас, работает…
– А не болит по ночам?
– Нет, я ее по ночам не слышу, – сплю ведь.
– А крепко ли, как надо, спите, вот вопрос?
– По мере усталости обыкновенно спят люди… если на них не котятся кошки.
Последнее добавил Матийцев как-то неожиданно для себя и тут же пожалел было, что добавил, но Марья Павловна довольно весело рассмеялась:
– Вот видите, видите, что значит прогулялись! Вот вы уж и шутник стали!.. Это я непременно мужу передам, непременно!
– А он дома теперь? – быстро спросил Матийцев, так как ему неприятен был ее смех над тем, что совсем не было шуткой.
– Газету читает… в садике. А вы к нему поговорить?
– Вот именно: мне бы к нему по делу, – на несколько слов.
– Так что ж, заходите, а я еще погуляю.
И она позвала свою собачку, которой скучно стало слушать и хозяйку и ее кавалера, почему она и отбежала шагов за пятнадцать, а Матийцев, раскланявшись с Марьей Павловной, пошел к Безотчетову.
Садик при особнячке главного инженера был отгорожен от рудничного двора глухою кирпичною стенкой, и пройти в него можно было только через узенький коридорчик в прихожей. Своего начальника Матийцев застал лежащим в шезлонге с газетой в руках.
Безотчетов сделал вид, что обрадован его приходом: он заулыбался, что случалось с ним очень редко, и даже привстал немного, здороваясь с ним.
– Вот хорошо, что зашли, – заговорил он первый, по обыкновению своему, с подкашливанием и хрипотцою. – А тут вот, – тряхнул он газету, – как раз на нашу с вами тему пишут: угольный кризис!
– Где же именно? – счел нужным осведомиться Матийцев.
– А вы разве не читали? В северных губерниях, конечно, в промышленных районах… Не хватает угля! А кто, господа промышленники, виноват в этом! Пошевелите-ка своими мозгами!.. По дешевке скаредной нам платите за уголь, а сами требуете, чтобы его у вас было хоть завались! Небось за свой-то товар цены гнете аховые, а почему же вы уголь обесцениваете, подлецы?
И, возбуждаясь от собственных слов, Безотчетов, собрав в колючий комок все морщины на лысом лбу, так свирепо глядел на своего младшего помощника, что Матийцев вынужден был заметить:
– Я ведь не промышленник, Василий Тимофеич, что же вы на меня так грозно?.. Кроме того, я к вам, признаться, зашел по одному делу.
– Как? По делу?.. По какому делу?
Может быть, Безотчетову показалось, что дело это какое-то очень неприятное для него, – что-нибудь случилось, например, в «Наклонной Елене», какая-нибудь авария, – он сразу вздернул нахмуренные было брови на лоб и уширил глаза.
– Дело такого рода, – начал Матийцев сосредоточенно. – Я только что был в поселке, хотелось посмотреть, как живут семьи погибших… по моей вине.
– Гхым… гхым… – облегченно покашлял Безотчетов и опустил брови. – И ходить туда вам незачем было, и вины никакой вашей, – особенной то есть вины, – не было… Я так и написал, между прочим, и в заявлении своем, когда велось следствие, а заявление мое на суде должно быть зачитано, имейте это в виду. Если же не зачитают, то у вас есть право потребовать, чтобы зачитали!
И Безотчетов так покровительственно поглядел на Матийцева, что тот пробормотал сконфуженно:
– Спасибо вам, Василий Тимофеич.
Но, помолчав после этого немного, он все же добавил:
– Одна семья уже побираться пошла… Они говорят: «в кусочки»… Это – Очкура семья, там четверо ребят… А немного погодя пойдет, конечно, в эти самые «кусочки» и другая семья – Сироткины.
– Очкур?.. Это какой вздумалось зарезаться? – припомнил Безотчетов. – И нашла же чем резаться – жандармской саблей!.. Она что же, в больнице еще или уж вышла?
Но, не дождавшись ответа, спохватился вдруг:
– Что же вы стоите? Вы бы там стул в доме себе взяли! – даже сделал движение подняться с шезлонга.
– Не беспокойтесь, пожалуйста, я ведь на минутку! – остановил его Матийцев. – Она еще в больнице, эта мать четырех ребят, а за ребятами приглядеть совершенно некому…
– Ну как это некому! – перебил Безотчетов, поморщась. – Не бойтесь на этот счет: у них там всегда кто-нибудь найдется для такой оказии. «В кусочки» пошли, – вот так трагедия! Да никакой, вы уж мне поверьте, трагедии в этом они не видят, а совершенно, представьте, наоборот: считают эти самые «кусочки» очень выгодным делом, вот что я вам скажу.
– Как так «выгодным делом»? – больше удивился, чем вознегодовал Матийцев.
– А очень просто, – спокойно и даже подчеркнуто ленивым голосом начал объяснять ему Безотчетов. – Сердобольные бабы в поселке этих самых кусочков насуют ребятишкам в мешки сколько угодно. Да ведь и везде и вообще ребятишки по части кусочков хваты: вполне настрелять может каждый по целому мешку в день. Очкур же эта самая, она не сегодня-завтра из больницы выпишется да дюжину поросят этими кусочками выкормит, – получится дюжина свиней. А это уж деньги, это уж корову веди на двор. А за коровой, знаете ли, баба как за каменной стеной: не только четверых, какие имеются, выходит, а и тех еще, каких от бродячих шахтеров – нахлебников своих – заведет, вот что-с!
– Ну, это уж вы что-то… – брезгливо поморщился Матийцев.
– Вполне точно вам говорю, на основании личных наблюдений, – продолжал Безотчетов. – Да ведь разве не знаете вы сами, что шахтеры, – из ста девяносто девять, – что заработают, то и пропьют, а ребят содержали все равно их жены, – содержали и содержат и содержать будут, такой уж у них быт спокон веку.
– Быт такой? – подхватил Матийцев. – Ну, должен я сказать, что уж хуже этого быта и придумать ничего невозможно! Если это – быт, то не человеческий, а звериный! И я думаю, что если контора рудника нашего не выдаст денежного пособия обеим этим несчастным семьям, то это будет…
– Что именно будет? – иронически вставил Безотчетов.
– Будет черт знает какое свинство, вот что! – запальчиво вырвалось у Матийцева, но Безотчетов глядел на него невозмутимо; он только осведомился, с виду вполне спокойно:
– И в каком же объеме представляете вы себе это самое пособие?
– Рублей… хотя бы по сто на семью, – хотя и не сразу, но твердо ответил Матийцев.
– По сто? – Брови Безотчетова вскинулись на лоб от изумления, но он тут же опустил их, помял зачем-то газету, которую все держал в своих костлявых пальцах, глубоко вздохнул, кашлянул и добавил поучительно: – Молодость!.. Вот что значит неопытная еще молодость!.. А также и контузия в голову… Вам гулять побольше по свежему воздуху действительно необходимо, но только по шахтерской слободке ходить незачем совершенно!
– Вам кажется, Василий Тимофеевич, что по сто рублей много! Так хотя бы по пятьдесят, – стараясь не замечать колкостей своего начальника, просительно сказал Матийцев.
– А вы разве не знаете, – ответил вопросом тот, – что никаких пособий шахтерам вообще не предусмотрено сметами компаний? У нас учитывается каждый рубль расхода, а такой графы, как «пособия шахтерам», даже и не существует совсем. Это я вас прошу иметь в виду не только теперь, но и на будущее время также…
Глаза Безотчетов сузил, говоря это, до самых начальственных щелок, а все свое морщинистое, хотя не старше как сорокапятилетнее лицо заметно подсушил сразу, и Матийцеву не оставалось ничего больше, как проститься с ним и уйти.
Марьи Павловны при выходе из дома он не встретил, но вот что показалось ему странным, когда он шел к себе домой по рудничному двору: он не мог припомнить, какие именно деревья были в садике Безотчетова, а между тем обыкновенно бывало так, что очень полно, как людей, впитывал он в себя очертания деревьев, подолгу наблюдая их, когда случалось ему быть с ними один на один.
Когда Матийцев снова вошел в свои комнаты, то запах духов от письма Лили показался ему теперь до того как-то неуместным, что он отворил окна, чтобы его выветрить, а письмо спрятал поглубже в чемодан; да и чемодан этот, прежде никогда не запиравшийся, запер теперь на замок.
В комнате, служившей ему и кабинетом и столовой, как бы продолжал еще сидеть у стола перед принесенной им же бутылкой вина самодовольный и самовлюбленный, отлично знающий, как надобно ему жить, Яблонский: такое явное и бурное оказалось у него стремление во что бы то ни стало разбогатеть, что стал он ему очень противен.
Рядом с ним возник в кабинете только что виденный на улице поселка безграмотный девятилетний мальчуган Федька Очкур, который уверен был, что делает машину, нанизывая на ржавую проволоку ржавые консервные банки, и машину эту делал он не из любви к искусству, а для того, чтобы продать за полтинник.
Однако здесь, у себя, Матийцев почувствовал уважение к этому Федьке, кем-то из старших посланному «в кусочки». Может быть, – так думалось теперь, – он чувствовал стыд хождения за кусочками с мешком на плечах, почему и занялся «машиной»?.. И тут же пришла другая, тоже довольно колкая мысль: почему же так могло получиться, что мальчуган Федька уже мечтает сделать какую-то машину для пользы людей, конечно, иначе не ценил бы ее в полтинник, а он, инженер горный, ни разу не подумал о том, что мог бы заняться изобретением хотя бы несложной машины для облегчения каторжного труда шахтеров? И вместо этого пошел сам, не по приказу старших, «в кусочки» – просил мать помочь ему уплатить хотя часть его долга Безотчетову. И мать продала для этого свой выигрышный билет, то есть надежду на какое-то значительное улучшение в своей жизни и в жизни дочери, учительницы, его сестры Веры, которая была пока еще незамужней: в то время как он вышел и лицом, и ростом, и сухощавостью в мать, Вера получила в наследство широкий отцовский лоб, крупные черты лица, большие руки.
Разумеется, он писал матери, что купит и пошлет ей другой такой же ценности выигрышный билет, который, может быть, окажется гораздо более счастливым, но вполне ли поверила она в это?
Ей было уже больше сорока пяти лет, но она оставалась еще стройной, моложавой лицом, и волосы ее, хотя и поседевшие спереди, были еще довольно густы.
У нее была давняя привычка к умственному труду, и в журналах она читала прежде всего серьезные статьи. Он вспомнил, как она однажды, когда он был студентом последнего курса, потребовала от него объяснения солнечных пятен и очень удивилась, что он оказался плохим знатоком астрономии и не мог ей объяснить, откуда они берутся. Вспомнил также, как однажды она сказала ему:
– Ты представь только, что за изречение буддийское мне попалось: «Лучше стоять, чем ходить; лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть, а умереть лучше, чем жить», – вот так восточная мудрость. Какая странная религия этот буддизм!
Потому ли, что вот теперь, в один день, он получил письмо, от Лили, а потом, ближе к вечеру, видел Марью Павловну Безотчетову, но мать его почти осязательно для него вошла к нему, и не одна, а с Верой, которая была так же серьезна, как и мать. Вера улыбалась так редко, как будто даже совсем не умела складывать губы в улыбку. Безотчетова только любила читать переводные французские романы, а Вера преподавала французский язык в частной женской гимназии.
Матийцеву захотелось найти слово, каким мог бы назвать он то, чем отличалась вся их семья, и нашел его: слово это было «порядочность». После Яблонского и Безотчетова с женой, какими он их видел в тот день, это стало ему особенно ясно. «Ты – не астроном, ты – геолог, – очень хорошо, – говорила как-то ему мать. – Объясни же мне, почему так разнообразна форма кристаллов?» – И светлые, несколько близорукие глаза ее глядели на него так искренне-ожидающе, точно и в самом деле мог он что-нибудь ответить на подобный вопрос.
Когда-то, мальчиком еще, он внимательно разглядывал синие вены на ее белых руках; когда же он видел ее в последний раз, он не мог не заметить, как усохли и стали меньше и легче на вид эти любимые им руки, а синие вены на них потемнели и стали тугими на ощупь.
Руки же Веры казались как бы налитыми, сильными, а все движения ее неторопливы, но очень уверенны, именно так, как у отца, что его в ней почему-то удивляло.
Даже такая отцовская черта, как любовь к живописи, передалась почему-то ей в гораздо большей степени, чем ему, и он скорее от нее, чем от отца, заразился влечением к картинам, владевшим им, когда он был подростком.
И голос у Веры был низкий, густой, что придавало большую положительность ее словам. И вот теперь у себя Матийцев как будто видел Веру и слышал, как она говорила в ответ на его жалобы:
– Ты писал, что у тебя больше уж не «забурится» вагон, то есть, как я поняла, не соскочит с рельсов; однако кажется, что он опять уже начинает «забуриваться»… Как же это так вышло?
– Вышло это очень просто, – пытался объяснить себе самому и в то же время Вере он. – Я-то, лично я действительно ощущаю в себе новое, но ведь вся обстановка, в которой я остаюсь, разве она изменилась хоть сколько-нибудь? Она та же, как и была, и я совершенно ничего, ни на одну линию не могу в ней передвинуть, хотя я и новый. Вот и Яблонский, еще пока не владелец никакой шахты, уже собирается «накручивать хвосты» в своей будущей шахте не только шахтерам, даже инженерам! А «Наклонная Елена» как была, так и остается по-прежнему владением каких-то анонимных бельгийцев, а непосредственным начальником моим по-прежнему остается человек не только с лысым черепом, но и с лысым мозгом, – некий Безотчетов… Тебе хорошо, ты – учительница, значит приносишь явную пользу и тем, кого учишь, и обществу в целом, а кому же приношу пользу я? Работая под землей, – под русской землей! – я приношу пользу только каким-то бельгийцам, – увеличиваю их доходы. Акционеры компании живут себе припеваючи где-нибудь в Брюсселе, Генте, Антверпене, а я должен украшать их беспечальную жизнь, ползая на животе по вонючим, грязным квершлагам и всячески нажимая на рабочих в штреках, чтобы себестоимость этого какого-то русского угля была как можно меньше, а продажная цена этого угля для русских же заводов, для русских железных дорог поднялась бы как можно выше.
– Хорошо, все это понятно, – рассудительно отвечала на это Вера, прикачнув головой. – Но ведь если ты чувствуешь и понимаешь, что делаешь что-то скверное, предосудительное даже…
– Может быть, и вредное, – вставил уже от себя Матийцев и продолжал: – Ведь я, выходит так, содействую закабалению не одних только шахтеров и их семей, а всей вообще России! Пусть я всего только винтик, самый маленький винтик в огромной машине, угнетающей жизнь, однако и как такой винтик я делаю в ней предуказанное, чужое дело. Какое именно? Да вот это самое закабаление России. Всего в ней вдоволь, а страна нищая, – денег мало. Вот и принимай денежных тузов оттуда, – из брюсселей и парижей, берлинов и лондонов, чтобы они прибирали к рукам все наши богатства, а мы как были нищими, так и остались; как были круглыми невеждами во всем, так и остались!..
– В таком случае тебе, чтобы не приносить вреда, нужно уйти с твоей шахты, – только и всего, – рассудительно сделала вывод Вера, а он, не менее рассудительно, говорил ей:
– Так-то оно так, конечно, но сначала все-таки надо подыскать, куда именно уйти можно…
А мать, как бы не слышавшая совсем этого разговора, следуя своему обыкновению, обращалась к нему с вопросом:
– Объясни мне, как геолог: ведь вот я читала, что между антрацитом и алмазом не такая уж значительная разница в смысле содержания углерода, а между тем алмазы по весу измеряются каратами, – это какая-то там часть грамма, – антрацит же пудами и тоннами, и идет он только на топку печей… Чего же именно не хватает антрациту, чтобы стать алмазом?
– Да, – отвечал он, – не хватает не так уж много в смысле процента углерода, но есть и кое-что лишнее, что его обесценивает по сравнению с алмазом. Это как шахтеры в Донецком бассейне и их хозяева – анонимные бельгийцы. Бельгийцы-акционеры живут себе в своей Бельгии так, что лучше уж грех и желать, а наши шахтеры спят вповалку вдевятером на земляном полу в тесной хибарке, а на них, спящих, время от времени, за неимением другого, более подходящего места, котятся беременные кошки!..
Так сумерничал Матийцев в обществе своей матери и сестры, и одна светлыми, открытыми, другая карими, слегка сощуренными отцовскими глазами, казалось, заглядывали ему глубоко в душу, а чтобы облегчить им это, он сам старался раскрыться как можно шире, ничего не желая утаивать от этих двух пар родных глаз.
Но в то же время он не забывал и о том, что назавтра, с утра надо было, как и каждый день, спускаться в шахту, где и по стенам сочилась и сверху всюду капала вода, где в темноте слабо светились кое-где, как волчьи глаза, огоньки шахтерских лампочек, где бились с новыми, непривычными лошадьми коногоны и где конюх Дорогой, если зайти к нему на конюшню, будет однообразно, как всегда, жаловаться ему на этих коногонов:
– Не позволяйте им, иродам, дорогие, лошадей до тоски доводить!.. Лошадь, она хотя и тварь, ну обращение с собой понимает. А то вот Магнит, на что уж покорная лошадь, а в такую его тоску вогнали, что лег вот и лежит и есть ничего не спрашивает, дорогие, ни сена, ни овса… Воспретите им это, дорогой!
Прошло после этого воскресенья еще дней десять, и Безотчетов вызвал Матийцева в контору получить повестки в суд и по своему делу и по делу Божка. Оба дела должна была рассмотреть выездная сессия окружного суда в ближайшем уездном городе.
Случайно или намеренно, но, кроме Безотчетова, в конторе, когда пришел туда Матийцев, был и Яблонский, и он-то именно был особенно оживлен, в то время как Безотчетов обычно покашливал и серьезен был как обычно.
Когда Матийцев сказал, что дела против Божка он не возбуждал и не понимает, почему его вызывают в суд по этому делу, Безотчетов с Яблонским так многозначительно переглянулись, что он безошибочно понял: перед самым его приходом они говорили о нем.
Веселые искорки заблестели в зеленоватых глазах Яблонского, и опустил свои глаза Безотчетов в лежавшую на столе перед ним ведомость по дневной выработке обеих «Елен». Но тут же заговорил Безотчетов начальническим тоном:
– Кхм… Кхм… Прощать такого негодяя, как этот самый Божок, никакого вы не имеете права… не имеете, – вот что я вам должен сказать… Потому что не ваше это личное дело, а наше, общее: дело инженеров вообще и рабочих, шахтеров, тоже вообще. Вы, допустим, простите ему, коногону этому, что он вас чуть что не убил, – пре-крас-но! Ему только того-то и надо! Тогда и он сам и всякий другой подобный и на меня, и вот на него (он кивнул на Яблонского) нападет, и что же из всего этого выйдет, хотел бы я знать?.. Что из этого может выйти, а?
– Революция, вот что! – ответил ему Яблонский и провел рукою влево и вправо по своим пышным усам цвета спелой пшеницы.
– В таком случае, шахтоуправление, значит, привлекает его, коногона Божка, к ответственности? – спросил Матийцев Безотчетова, только покосившись на Яблонского изумленно.
– Юридически, кхм… юридически, – понимаете? – привлекаете его к ответственности вы, а не мы, – несколько подумав, ответил Безотчетов. – Но, разумеется, заинтересованы в этом также и мы наравне с вами.
Матийцев вспомнил о своем долге Безотчетову, отнимающему у него ежемесячно половину его жалованья, и спросил снова:
– Значит, если я правильно вас понял, контора должна принять на свой счет и все мои судебные издержки?
– Су-деб-ные издерж-ки? – Безотчетов посмотрел на него так удивленно, как будто никогда в жизни не слышал сочетания двух таких слов.
– А как же иначе? Да ведь и моя личная поездка во что-нибудь мне должна будет обойтись, и свидетели мои не на свой же счет должны будут ехать, а на мой, как мне говорили.
Матийцев не добавил, что говорил ему об этом штейгер Автоном Иваныч. Но не успел еще ответить ему Безотчетов, как Яблонский засмеялся вдруг весело.
– Чу-дак человек, а? – обращаясь к Безотчетову, непроницаемо-непринужденно выкрикнул он. – Едет карьеру свою личную делать, но, однако, непременно хочет, чтобы и это было принято на счет конторы!
– Какую такую карьеру делать? – обратился было к нему Матийцев в полном недоумении, но Яблонский вдруг махнул энергично в его сторону рукою, бормотнул: – Э-э, бросьте вы эти наивности! – и выскочил из конторы.
– О чем это он? – спросил Матийцев Безотчетова.
Тот стал морщинить лицо, начиная с лысого лба, потом ответил, глядя в ведомость:
– Кхм… У него свой какой-то взгляд на это дело… Я несколько не совсем его понимаю, но-о… но дело не в этом… дело не в этом… Вот вы говорите: судебные издержки… Очень хорошо… Свидетели ваши должны ехать на ваш же счет, так вообще полагается… Но ведь эти свидетели – шахтеры, – их, кажется, двое, – так или иначе они ведь спасли же вам жизнь, так вот, пусть хоть они за это проедутся на ваш счет, что же: должны же вы им что-нибудь подарить, скажем так, за спасение своей жизни, а?
– Я совсем не об этом говорю, а только о том, что и вам известно: у меня совсем нет денег на эту поездку в суд даже для себя самого, а тем более со свидетелями.
– А-а, денег нет, это – другое дело, другое дело… – успокоился Безотчетов. – Я вам в таком случае выдам жалованье вперед… Хотя, впрочем, до дня выдачи жалованья осталось и вообще-то не так много уж… Вперед дам, да, но только… только мне хотелось бы вас предупредить (тут он очень понизил голос и поглядел на дверь), на суде чтобы вы взяли себя в руки и вели себя как следует, – вот что! Как следует, – понимаете? Чтобы этого там шатания у вас никакого… вы меня понимаете? Вы там спросите у юриста в суде, что вам можно говорить, а чего нельзя, а то… по неопытности, конечно, скажется у вас вдруг что-нибудь этакое… одним словом, совсем не то, что полагается говорить, и… того… Ведь это же окружной суд, – судебное ведомство, а не то, чтобы мы, грешные! Мы что? Частные лица, а там – проку-рор! Там вам всякое лыко в строку поставят!.. Я это вам в ваших же интересах говорю, вы понимаете?
И, говоря это, смотрел Безотчетов насколько сумел проникновенно. Но Матийцев думал в это время о выходке Яблонского, которой не мог себе объяснить, и он только пожал плечами, не найдя никаких слов для успокоительного ответа своему заботливому начальнику.
Двое шахтеров, которых должен был взять, как своих свидетелей, на суд Матийцев, были Афанасий Гайдай и Митрофан Скуридин, – оба уже немолодые и на любой взгляд средней силы каждый. Не только Матийцев, но и всякий другой, при виде их рядом с Божком, сказал бы уверенно, что справиться с ним им только двоим было бы никак нельзя. И когда на линейке ехал с ними и Дарьюшкой Матийцев на станцию, Скуридин, человек рыжебородый и подслеповато моргающий, говорил об этом так:
– Безусловно я его, этого коногона нашего, ка-ак схватил, значит, за ворот, то от вас, господин инженер, я его дернул назад, – безусловно это… А тут еще и Панас со своей стороны безусловно… то же самое…
В поддержку ему Афанасий Гайдай, с усами, может быть, черными по натуре, но запыленными и поэтому мышиного цвета, безбородый, со слезящимися от дневного света глазами и белым, в виде подковки, шрамом пониже правой скулы, говорил скрипуче:
– Эге ж… Я его тоже, своим чередом, уфатил за руку, – ну, вижу, дуже здоровый, так я давай тоди гаркать у викно: «Гей-гей! Ось сюды, хлопци! Ось сюды!.. Гей-гей!..» Ну, тут уж он почул, той Божок: «Эге! Зараз, мабуть, десять, або двадцать хлопцив прискочут, тоди вже квит!» От тоди той злодий себе на испуг и взяв!
Но Дарьюшка не захотела уступить Гайдаю спасительного крика и перебила его голосисто:
– Тю-ю, люди добрые! Глядите вы на него, – он кричал в окно! Так это же я кричала что есть мочи, а то ты-ы! А на чей же крик и вы-то оба влезли, как не на мой? А я, как вы влезли, от дверей прямо к окну, и прямо я всю душу свою в крике извела, а не то чтобы тебя из-за моего крика слышно было на улице!
Кучер линейки, Матвей Телепнев, человек рассудительный и серьезный, что свойственно кучерам, слушая их, обратился к Матийцеву:
– Как ежель на суде они так вздориться между собою станут, то какие там многие люди, пожалуй, смеяться зачнут.
В городе, когда он до него добрался, Матийцев нашел номер в гостинице «Дон», которая была попроще другой, «Южной», где все номера были уже заняты судейскими. «Дон» приютил и тех, кто был вызван сюда повестками по нескольким другим делам. Когда стало известно Дарьюшке, что судиться здесь будет довольно много народу, она повеселела и даже к судейским чиновникам прониклась уважением:
– Все ж таки не зря они с кокардами на картузах ходят: порядок наблюдают. А без них, действительно ведь, как же можно? Без них, значит, один другого колошматит, и ничего тебе за это… Хорошее тоже дело, нечего сказать!
Матийцев приехал сюда накануне того дня, когда должно было рассматриваться дело Божка; его же личное дело, – обвал в шахте, – почему-то назначено было еще через день.
Найти дом, в котором должны были судить его и Божка, Матийцеву было нетрудно: он был едва ли не самый большой в городе – двухэтажный, кирпичный, под зеленой железной крышей – и занимал полквартала своей усадьбой. В этом доме, кроме камеры мирового судьи, где теперь расположилась выездная сессия, помещались еще и полицейское управление, и казначейство, и городская управа, – вообще все почти уездные «присутственные места». У входа в суд он увидел дежурного околоточного надзирателя, годами едва ли старше, чем он, с телом пока еще худощавым, но с совершенно круглым лицом, на котором так плохо росли усы белесого цвета, что издали их почти не было и заметно.
«Какое бабье лицо!» – подумал, подходя к нему, Матийцев и спросил:
– Выездная сессия, мне сказали, здесь… Здесь ли?
– Так точно, – с большой готовностью ответил околоточный, приложив к козырьку руку. – А вы, позвольте узнать, приезжий?
– Да, получил повестку… Слушаться будет мое дело… Моя фамилия Матийцев… инженер Матийцев.
Невольно как-то вырвалось у него это, но околоточный вдруг улыбнулся и прикачнул головой:
– Есть ваше дело, – видел… Там у них висит под стеклом в рамке список всех дел, когда какое назначено к рассмотрению. Я же с судебным приставом список этот вывешивал на стенку. Желаете зайти посмотреть?
– Мое дело ведь не сегодня, – завтра.
– Все равно, что ж, – суд гласный, никому не воспрещается и чужое дело посмотреть. Цыган там сейчас судят.
При этом околоточный сделал такой широкий пригласительный жест, что Матийцеву оставалось только войти в высокие прочные двери суда.
Занятый своим делом, он как-то не сразу усвоил даже то, что сказал околоточный насчет цыган, и, только усевшись в самом заднем ряду скамей для публики, всмотревшись и вслушавшись, понял, что судили не шахтеров, а каких-то цыган, убивших с целью грабежа путевого сторожа с женою в их сторожевой будке, ночью.
Насколько мог разобрать Матийцев, трое цыган, – один пожилой и двое молодых, – совершили убийство мимоходом: их табор перебирался на новую стоянку тогда, ночью, по холодку, вблизи железнодорожной линии, и им представилось почему-то очень удобным и легко исполнимым зайти в сторожку и совершить преступление.
Однако встретилось им, как оказалось, и небольшое препятствие: икона, висевшая в углу сторожки. Подросток, сын убитых, которого отец послал перед тем в обход его участка пути, вернувшись, заметил, что икона была перевернута лицом к стенке. Почему икона приняла такое неподобающее ей положение, как раз и выяснялось судом в то время, когда вошел и уселся в зале суда Матийцев.
За столом, покрытым выутюженным зеленым сукном с кистями, сидело трое судей: все сытые, барственного вида, в белых тужурках с золотыми пуговицами и золотыми погонами, и один из них, средний, как потом догадался Матийцев, председатель суда, спросил, обращаясь к трем арестантам со смуглыми, горбоносыми, чернобородыми лицами:
– Нам хотелось бы знать, почему, зачем именно перевернули вы икону?
– Икону? – старательно повторил стоявший в середине пожилой цыган и посмотрел вопросительно на одного из молодых.
– Бога, – буркнул ему молодой.
– А-а, бо-га, да… Русского бога это я, гаспадин, поворотил так (он показал это руками).
– А зачем же поворотил так? – допытывался председатель.
Пожилой цыган сделал гримасу недоумения, выпятил заросшие черным волосом губы, заметно поднял левое плечо и объяснил крикливо:
– Как «зачем, зачем»?.. Чтобы он не видал, вот зачем! – И когда ни председатель, ни сидевшие по обе стороны его члены суда не могли скрыть, глядя на него, легкой улыбки, пожилой цыган как будто даже обиделся, недовольно помялся на месте, опустил левое и поднял правое плечо и даже, хотя невысоко, правую руку, точно захотел дать пространное объяснение, но председатель сделал глубокий выдох, прозвучавший как «пхе», и задал другой вопрос.
У председателя было неразборчивое в линиях оплывшее красное лицо и зачесанные назад русые без проседи волосы. Из сидевших по обеим сторонам его членов суда один был лысый, с зачесом тоненьких длинных блекло-желтых волос с левого виска на темя, что называлось игриво «внутренним займом», другой – шатен с небольшою бородою и густой еще шевелюрой, подстриженный бобриком, держал голову почему-то склоненной на правый бок. Он же единственный из трех был в пенсне, причем пенсне это как-то непрочно держалось на его носу, и он часто дотрагивался до него рукою.
На столе перед ними стояло четырехугольное, в золоченой рамке «зерцало законов», украшенное сверху двуглавым, тоже золоченым орлом.
За особым столиком сбоку сидел еще один очень серьезного вида судейский чиновник, с двумя просветами на погонах с ярко-зеленой выпушкой. Глядя на него, Матийцев вспомнил многозначительные, предостерегающие слова Безотчетова, из которых самыми вескими были два: «Там проку-рор!», и сразу догадался, что этот, за отдельным столиком, и есть прокурор; поэтому он присмотрелся к нему внимательнее, чем к другим.
Прокурор был для облегчения головы ввиду теплого времени острижен под ноль, так что не был скрыт выпуклый с боков череп и, ничего не теряя от этого в выразительности, явно неспособный сомневаться лоб. Напускная ли была строгость в его сбегающемся книзу и не совсем здоровом на вид лице, или она была ему присуща, как петуху шпоры, только весь и сразу показался он неприятен Матийцеву.
Он отчетливо представил, что не позже, как завтра, придется ему говорить с ним, прокурором, как и теми тремя за судейским столом, и, чтобы отвлечься от охватившего его при этом щемящего чувства, перевел глаза туда, где сидели присяжные заседатели. Догадаться о том, что именно они присяжные, было нетрудно: среди них увидел он двух чиновников с поперечными широкими погонами, старого военного врача, может быть, уже бывшего в отставке, и священника, тоже немолодого, долгобородого и добротного, перед которым лежало что-то, завернутое в черную ткань.
В обстановке всего этого уездного суда бросалась в глаза Матийцеву совсем не уездная торжественность. У старших судейских, кроме университетских значков, были еще и ордена на их белых форменных тужурках. Близ прокурора и тоже за отдельным столиком сидел совсем молодой еще кандидат на судебные должности, тоже в форменной тужурке и с четырьмя звездочками на погонах; конечно, он был казенный защитник цыган-убийц. Матийцев заметил и еще плотного внушительного вида судейского, сидевшего в переднем ряду на скамье для публики, но иногда зачем-то встававшего, выходившего и потом вновь входившего в зал, и понял, что это и есть тот самый судебный пристав, о котором говорил околоточный. Оглядываясь кругом, Матийцев подумал, что преступники, которых здесь судили и будут еще судить, непременно должны были проникнуться мыслью, что вон каких важных лиц привели они в беспокойство и огорчение своими поступками.
Дослушивать до конца дело темных людей бродячего племени, которые так запросто обошлись не только с двумя русскими людьми, но даже и с «русским богом», Матийцеву не захотелось, и он вышел из зала суда на улицу, где снова увидел того же околоточного. Чтобы вернуться в гостиницу «Дон», нужно было проходить мимо него, поэтому Матийцев повернул в обратную сторону и дошел до «Дона» кружным путем.
На другой день утром он со своими свидетелями входил в суд, как в хорошо знакомое ему место. Однако новым и неожиданным для него явилось то, что священник, которого видел он накануне среди присяжных, приводил и его, и Дарьюшку, и Скуридина, и Гайдая к присяге, что показывать на суде они будут только сущую правду: в черном свертке оказались епитрахиль и серебряный крест. Церемония присяги особенно умилила Дарьюшку: она истово чмокала и крест и белую, широкую, слегка поросшую рыжеватым волосом руку священника.
В зал суда теперь Матийцева ввел судебный пристав, оставив его свидетелей в особой комнате. Бегло окинув глазами весь зал и увидев на прежних своих местах и судейских чиновников и присяжных, Матийцев остановился глазами на том, кого ему давно уж хотелось увидеть, – на коногоне Божке; там, где вчерашний день как бы толпились цыганы со своими конвойными, теперь, тоже в арестантской одежде серо-желтого сукна был Божок, и он смотрел на него, Матийцева, неотрывным и как будто даже обрадованным взглядом. Матийцев понял этот его взгляд только так, что ведь во всем холодно-торжественном зале суда перед ним теперь единственное знакомое ему лицо он, инженер шахты «Наклонная Елена»; но в то же время ему хотелось понять Божка и так, что от него единственного здесь ожидает он себе защиту. Он, заметил Матийцев, не только не похудел, а скорее раздобрел в тюрьме и даже побелел лицом, вид же имел несокрушимо могучий. Двое солдат конвойной команды, оба низкого роста и молодых годов, казались рядом с ним подростками.
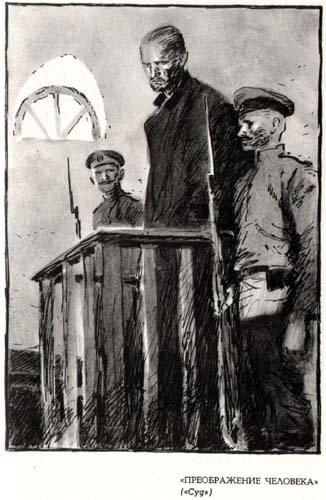
Матийцев не знал, что Божка уже допрашивали, и что он, хотя и не очень многословно, но все же довольно запутанно рассказал, как именно, проходя по рудничному двору, «почитай что врозволочь пьяный», он увидел – «горит светло в комнатях у инженера, и, значит, на это самое светло и полез», а зачем полез, этого не помнит и не знает и ничего в объяснение своего поступка сказать не может. Отрицал решительно Божок и то, что имел против инженера большую злобу и задумал ему отомстить, говоря об этом: «Злобы спроти инженера не питал за то, что увольнил, – мало ли людей инженера увольнить могут?..» Был ему предложен прокурором и вопрос: думал ли он, что убил инженера Матийцева? На этот вопрос Божок с большой убежденностью в голосе ответил: «Истинно так и думал, что совсем убил, черезо что на испуг себя взял, что как нехорошо сделал, – инженера нашего убил, а тут своим чередом большой бабий крик поднялся и люди – шахтеры наши надойшли»…
И председатель суда и прокурор задавали ему перекрестные вопросы, надеясь услышать от него, что вполне намеренно влез он в окно, чтобы непременно убить инженера, но он упорно стоял на том, что «влез сглупа и спьяну», почему даже и не помнит совсем, как именно влез.
Когда председатель суда после обычных вопросов об имени, отчестве, фамилии, летах, занятии спросил наконец:
– Что вы можете показать по делу обвиняемого в покушении на убийство вас… пхе… коногона Ивана Божка? – Матийцев не сразу начал свой ответ.
Он много думал над тем, что ему можно бы было сказать на суде в объяснение поступка Божка, но все толпилось в его голове совершенно бессвязно, не сложилось в готовую речь, хотя временами ему этого хотелось. Он только знал, о чем ему надо было говорить, как каменщик знает, из какого материала он возведет стены дома, не представляя в то же время ни плана этого дома, ни фасада его. Он не мог даже сразу, как требовалось всею обстановкой суда, отвлечься от этого бесстрастного, очень оплывшего, очень красного, апоплексического лица председателя суда и, начиная уже шевелить губами для ответа, все-таки продолжал еще его разглядывать, как какой-то посторонний предмет.
– В тот день, – начал он с большим усилием, – я уволил коногона Божка с работы… уволил за жестокое обращение с недавно купленной молодою лошадью… Она еще не втянулась в работу, но… должна была работать, как и всякая другая, – ведь не могло же остановиться дело добычи угля из-за того, что лошадь неопытна в нашем деле, молода, что ее, наконец, пугает даже вся обстановка шахты: темнота, грохот сзади ее вагонетки по рельсам… А какого-нибудь особого заведения для лошадей, где бы их обучали, как им надо работать в шахтах, пока не существует… Коногон Божок, – обвиняемый, – поправился Матийцев, стараясь попасть в тон судейских речей, – работал вместе с нею и выбился из сил, так как она, лошадь эта, не столько помогала ему, сколько, можно сказать, мешала, сбрасывала вагонетку с углем, а в вагонетке, полно нагруженной, считается шестьдесят пудов, – значит надо было все время ставить ее опять на рельсы и опять погонять лошадь… Я прошу вас, господа судьи, представить, как может подействовать на рабочего-коногона такая возня, превышающая средние человеческие силы!.. Я подошел к… обвиняемому, когда он, человек очень большой силы, был уже обессилен… Этим, конечно, объясняется, что он мне сгрубил на мое замечание. Моя вина, что я вспылил тогда и его уволил… А на другой день, вечером, когда я сидел за столом и писал письмо своей матери в Петербург, он…обвиняемый, залез ко мне с надворья через полуотворенное окно… залез потому, что был очень в то время пьян… а пьяному, как говорится, и море по колено: пьяный своими действиями управлять не может.
– Пхе… господин потерпевший, мы бы попросили вас не отклоняться в область отвлеченных рассуждений, а… пхе… быть поближе к фактической стороне дела, – нажимая на слова «фактической стороне», заметил председатель суда.
– Фактической? – повторил Матийцев недоуменно и продолжал, глядя только на председателя: – Фактом было и остается появление пьяного шахтера-коногона в квартире горного инженера, его начальника, появление через окно, а не через двери, но в руках у него не было никакого орудия или оружия. Фактом было и то, что он был пьян, – и это с моей стороны не «отклонение» в сторону, а обрисовка положения дела, совершенно необходимая деталь. Трезвый он… обвиняемый, не залез бы в окно, а пьяный предпочел окно двери, только и всего…
– И?.. Что вы, собственно, хотите сказать, господин потерпевший? – нетерпеливым тоном перебил Матийцева член суда, сидевший по правую руку председателя, тот, у которого светилась большая глянцевитая лысина.
Матийцев заметил, что он при этом вопросительно взглянул на председателя, и тот разрешающе качнул головой.
– Я хочу сказать, – подстегнуто ответил «потерпевший», – что коногон Божок остался и в этом верен себе. Если он хотел объясниться со мною, проситься вновь на работу, то мог бы, на наш взгляд, поискать двери, но кто же учил его приличиям? Его учили жить по той же системе, по которой он учил молодую лошадь Зорьку, то есть при помощи истязаний… Он явился пьяным, а кто его учил трезвости? Кто хоть пальцем о палец ударил, чтобы доставить ему, безграмотному шахтеру, хотя бы какие-нибудь разумные развлечения в часы его отдыха от каторжной, – воистину каторжной, – работы? Какие-то анонимные бельгийцы, наживающие сто на сто и даже триста на сто, да, триста на сто на каторжной работе безграмотных русских коногонов божков?
После этих слов Матийцеву кинулось в глаза, как переглянулись над столом, накрытым зеленым сукном, оба члена суда и взглянули на председателя, а тот посмотрел на прокурора, и, опасаясь, что его снова перебьют, продолжал, намеренно учащая речь:
– От нас, инженеров, шахтоуправление требует, чтобы мы снизили себестоимость пуда угля в добыче с пяти с половиной копеек до пяти, а за чей же счет мы можем произвести такую операцию? Опять все за счет тех же шахтеров: недоплатить им и тем увеличить прибыль бельгийской компании… А как живут шахтеры? «Не входи к нам, барин, блохи осыпят!» – вот что я от них слышал, когда захотел посмотреть, как они живут… А два года назад, когда я был студентом на практике, в той же шахте, в которой сейчас инженером, там началась летом холерная эпидемия… От нее бежали шахтеры и занесли ее в Рязанскую, Калужскую, Орловскую губернии, откуда явились на заработки к нам, в Донецкий бассейн. Явились заработать малую толику денег, а заработали смерть от холеры. Здесь она вспыхнула тогда, – здесь был ее главный очаг, а почему? Потому что нигде в России, – во всей России! – не было более антисанитарных условий жизни, чем здесь, у наших шахтеров!
– Вы опять отвлекаетесь! – поморщившись, прервал его председатель, но он уже не почувствовал теперь себя оскорбленным этим.
– Нет, я говорю по сути дела, я объясняю вам, господа судьи, а также присяжным заседателям (тут Матийцев повернулся всем телом в сторону присяжных) обстановку преступления коногона Божка… Тогда, по требованию санитарного надзора, работы в шахтах были совершенно прекращены; они возобновились только по прекращении эпидемии. Тогда же обращено было внимание и на то, что у нас не везде достает даже воды для того, чтобы семьи шахтеров могли приготовить горячую пищу для своих кормильцев, когда они возвращаются с работы, а чем же шахтеру смыть с себя угольную пыль, которая набивается ему и в волосы и во все поры тела? Нечем!.. Представьте себе такое положение вещей: нечем умыться после работы, так как нет для этого даже и стакана воды!.. Зимою женщины топят снег, – хотя он тоже грязный, но все-таки получается из него кое-какая вода, а летом? Как быть летом? Водовозы возят в бочках, а женщины с ведрами выстраиваются в длинные очереди и готовы вцепиться в волосы тем, кто стоит впереди, так как всем воды у водовозов никогда не хватает!.. Я назвал труд шахтеров каторжным, – беру это мягкое слово назад, – он гораздо тяжелее и хуже труда каторжников, так как на каторге есть начальство, которое все-таки заботится хотя бы о том, чтобы они не нуждались в воде, а почему об этом не желают позаботиться владельцы наших шахт? Почему шахтеры должны спать по десять человек на полу хибарки вповалку и занимать собою весь пол так, что даже и кошке окотиться негде?
Показалась ли последняя фраза несколько неожиданной для одного из членов суда, черноволосого, сидевшего по левую сторону от председателя, но он улыбнулся, одними только глазами, правда, однако Матийцев это заметил и продолжал с большим подъемом:
– Без угля не может быть тяжелой промышленности в стране и не может развиваться железнодорожное дело, что для нас, для России, необходимо в первую голову, так как страна наша велика и обильна, – в высшей степени велика и чрезвычайно обильна, – а железных дорог не имеет! Разве такая тяжелая промышленность должна быть в громаднейшей стране, в которой считается населения сто восемьдесят миллионов? Но она не развивается, – для этого не хватает угля, основного нерва промышленности. И в газетах пишут об угольном кризисе, и на съездах горнопромышленников толкуют об этом, а почему же не позаботятся о том, чтобы кризис этот изжить, чтобы угля было вдоволь? А для этого нужно только одно: обеспечить человеческие условия жизни шахтерам, не смотреть на шахтеров, как на каторжников или готовых кандидатов в каторжники: дескать, если и не совершили еще уголовных преступлений, то неизбежно должны совершить! Мы, дескать, их доведем до уголовщины, погодите, – она для них неизбежна, так как мы не только мучаем их непосильным трудом, но еще и спаиваем их как презренных рабов-илотов!.. Мы получаем из-за границы займы на подъем промышленности, но расхищаем их, а наши недра отдаем в аренду бельгийцам, французам, англичанам, немцам, кому угодно, а эти арендаторы смотрят на русских рабочих даже не как в Америке на негров, а гораздо хуже и подлее.
– Господин потерпевший! – резко выкрикнул председатель, постучав при этом карандашом по столу. – Вас в голову ударил обвиняемый… пхе… коногон Иван Божок?
– Да, в голову, – ответил Матийцев.
– Это… это мы видим, пхе… Вот этим стулом? – Председатель кивнул на стул о трех ножках, лежащий на особом столе.
– Да, этим стулом, господин председатель, но я отчетливо помню, что прежде ударил его этим стулом я! – с большим ударением на последних словах сказал Матийцев.
– Вот об этом нам и расскажите… пхе… и не отнимайте у нас времени ничем посторонним и к делу вашему не относящимся.
– Да, этим стулом ударил его первый я, – повторил Матийцев, – как только увидел его в своей комнате.
– Выходит, что не коногон Божок напал на вас, а вы на него напали? – сказал теперь уже не председатель суда, а тот член суда, который сидел по правую его Руку.
– Так именно и выходит, – согласился Матийцев. – Первый ударил его я… разумеется, из чувства самозащиты… Кем-то сказано: «лучшее средство защиты напасть самому»… Я и напал. Но так как обвиняемый был неизмеримо сильнее меня, то вырвал у меня мое орудие – стул – и в свою очередь ударил меня… после чего я потерял сознание. И это все, что я могу показать, а что произошло после того, как я потерял сознание, это уж расскажут свидетели, – для чего они и приехали со мною вместе.
– Вы сказали: «ударил меня», но… пхе… куда же именно пришелся этот удар?
Задав свой вопрос, председатель с явным любопытством глядел на голову «потерпевшего», почему Матийцев раздвинул волосы и, показывая пальцем, пояснил:
– Вот сюда пришелся удар, и потом, когда я лежал еще с закрытыми глазами, я слышал слова нашего рудничного врача по поводу раны, что будто бы «счастлив мой бог»… Думаю, что в этом сомневаться не приходится: бог-то счастлив, а люди не очень. Об одном из таких, притом очень несчастных, людей, коногоне Иване Божке, и идет речь.
Тут Матийцев увидел, как прокурор, человек явно не несчастный, а напротив, благополучный во всех отношениях, слегка приподнявшись со своего отъединенного стула и изогнувшись над небольшим, отъединенным столом, обратился к председателю суда:
– Разрешите, господин председатель, задать потерпевшему несколько вопросов.
– Пожалуйста, – не замедлил разрешить председатель, и прокурор обратился к Матийцеву всем своим холеным высокомерным лицом.
– Происходит нечто странное, на что я и хочу обратить внимание суда. Вы, господин Матийцев, потерпевший, то есть истец по делу Ивана Божка, или вы, чтобы сказать мягко, при-гла-шены им для его защиты?
– Я – потерпевший, да… – несколько удивленный вопросом поспешил ответить Матийцев, но тут же добавил: – Но, хотя и потерпевший, я дела против того, от кого потерпел, не поднимал. Дело против шахтера коногона Божка поднято шахтоуправлением, а не мною.
– Так, не вами, – согласно кивнул головою прокурор. – В следственных материалах есть даже, что вы просили не подымать этого дела. Вот в этом именно и заключается странность. Вы кто по вашей партийной принадлежности? Максималист?
Он как бы выстрелил этим словом в упор и ждал, подавшись, упадет или нет этот странный инженер, заведующий шахтой «Наклонная Елена», но Матийцев только вздернул плечами в знак непонимания.
– Вы делаете вид, что слово «максималист» вам даже и незнакомо совсем!
– Оно мне и действительно мало известно: мне приходилось его слышать, но я не вдумывался в его смысл, – сказал Матийцев.
– А предварительного сговора с обвиняемым у вас, вы тоже скажете, не было разве, чтобы разыграть эту мелодраму в зале суда?
– Как так «предварительный сговор»? – проговорил Матийцев уже пониженным тоном, так как отчетливо представился ему рядом с прокурором Яблонский, который раза два почему-то упорно высказывал свою «догадку» о желании его, Матийцева, выдвинуться в глазах горнопромышленников отстаиванием их интересов до риска собственной жизнью. По Яблонскому выходило, что он сговорился с Божком, чтобы тот изобразил, как на сцене, трагично, но безвредно нападение в видах карьеры его, Матийцева, и по мнению прокурора вышло то же самое: сговор с Божком!
– О каком таком сговоре с обвиняемым Божком вы говорите, господин прокурор? – спросил снова Матийцев, так как прокурор выдерживал паузу, испытующе и даже торжествующе на него глядя.
– Если вы забыли, то я считаю нужным напомнить вам, что вы даже приглашали обвиняемого к себе в то время, когда еще лежали с забинтованной головой, – вполне расстановисто и отчетливо сказал прокурор и добавил, обращаясь уже не к Матийцеву, а к старшине присяжных заседателей: – Это есть в материалах следствия, как показание рудничного жандарма.
Сказав это, прокурор сел и даже отвалился на спинку стула, как бы приготовясь слушать длинное опровержение того, что по самой сути своей неопровержимо, а Матийцев почувствовал как бы прикосновение к себе многих пар недоумевающих глаз, прикосновение неприятное, даже колючее. Поэтому он вздернул голову, как лошадь от удара кнутом, перевел глаза свои с прокурора на председателя и начал говорить о самом себе, о том, что считал для себя самого самым главным.
– Да, это совершенно верно: я просил, чтобы мне, когда я еще лежал в постели, привели Ивана Божка, который хотя и был уже в то время арестован, но до приезда следователя никуда не отправлялся… Его привели ко мне, и я говорил с ним. Меня всецело занимал тогда вопрос: зачем именно залез он ко мне через окно? То есть было ли у него заранее обдуманное намерение меня убить, или он хотел только объясниться со мною, проситься вновь на работу, а мысль залезть в окно для этой именно цели появилась у него вдруг, спьяну? То есть вышло так, как будто я, от нечего делать (я ведь лежал тогда, был очень слаб), захотел сам заняться следствием, – выяснить для себя причины действий Божка, которые могли бы стоить мне жизни. Рудничный жандарм, я помню, сидел в соседней комнате и, разумеется, все до единственного слова слышал, а что он показал следователю, этого уж, конечно, я не знаю.
– В показаниях рудничного жандарма есть, что вы будто бы обнадеживали подсудимого, что будете… пхе… за него заступаться на суде, что мы и видим, – сказал председатель, перелистывавший перед тем бумаги в папке, очевидно, дело Божка.
– Может быть, господин председатель, вполне может быть, что именно нечто подобное и было мною сказано, – вдруг еще более подстегнуто ответил на это Матийцев, – но какой же это сговор! Это был разговор того, который сам приговорил себя к смертной казни, с тем, кто его спас от напрасной, совершенно ненужной смерти!
Тут Матийцев сделал паузу и обвел взглядом и членов суда, и прокурора, и защитников Божка, и даже полуобернувшихся всех присяжных. При этом он видел, что все смотрят на него с тем участливым изумлением, с каким смотрят на сумасшедших люди здорового ума и твердой памяти, на таких именно, которые уже подозревались ими в сумасшествии, но не вполне проявляли его, и вот, наконец-то, проявили с очевидностью, ясной для всех.
Поняв это, он опустил было голову, но тут же поднял ее, так как нашел сравнение, доступное по смыслу всем.
– Представьте себе, – продолжал он, – что в запертой снаружи квартире начался пожар, а человек в ней очень крепко спал и проснулся только тогда, когда все горит в квартире, везде бушует пламя! Он мечется к двери и окнам, но дверь заперта, как я уже сказал, снаружи, да к ней и не проберешься сквозь огонь, – ведь горит вся мебель, горит пол… Он к окнам, а там тоже уже горят подоконники, – он видит, что сейчас погибнет ужасной смертью, – но вдруг… вдруг слышит, кто-то бьет топором в дверь… Видит – в рухнувшую дверь врывается к нему сквозь пламя пожарный в каске, хватает его поперек тела и выскакивает с ним на лестницу, но при этом, ввиду того, что пролом узкий и уже горит тоже, спаситель-пожарный стукнул головой спасенного им о косяк двери и вынес его из огня в бесчувственном состоянии… Спасенный потом пришел, конечно, в себя, ожоги на его теле залечили, и он стал вполне здоровым, так что же после всего этого: судить ли пожарного, как уголовного преступника, за то, что он стукнул его головою о косяк, или выдать ему медаль за спасение погибавшего?
– Мы плохо вас понимаем, господин потерпевший, – сказал председатель, даже не прибавив теперь своего «пхе», что можно было счесть признаком продолжающегося удивления.
– Вас просят выяснить, наконец, ваши отношения с подсудимым, говоря об этом просто и ясно, а вы почему-то прибегаете к замысловатым аллегориям, – поддержал председателя прокурор.
– Просто и ясно?.. Хорошо, я скажу просто и ясно! (Тут Матийцев как-то непроизвольно вдохнул воздуха сколько мог.) Обстановка преступления подсудимого, коногона Ивана Божка, была такова. Я сидел за столом и писал предсмертное письмо своей матери, в Петербург, а рядом с письмом лежал на моем столе револьвер, так как тут же после того, как я запечатал бы письмо, я хотел приложить дуло этого револьвера к виску и… нажать гашетку… Вот от этой-то, вполне обдуманной мною заранее, вполне, значит, произвольной смерти и спас меня не кто иной, как обвиняемый в покушении на убийство меня, – не кого-нибудь иного, а именно меня! – коногон Божок.
Сказав это, Матийцев остановился и снова оглядел поочередно и членов суда, и прокурора, и присяжных: он сделал так под влиянием какой-то подспудной, неясной ему самому мысли о том, что это необходимо сделать после того, как сказано было им самое главное, то, ради чего он охотно поехал сюда на суд из Голопеевки.
Но вдруг услышал он знакомое «пхе» и потом:
– Господин потерпевший, вы придумали это совершенно напрасно и даже непонятно нам, с какою именно целью придумали!
Этого не ожидал Матийцев, это его оскорбило даже и по тону, каким было сказано: тон был брезгливый, – так ему показалось. Поэтому, подбросив голову и упершись глазами теперь только в одно мясистое лицо председателя, он сказал резко, с нажимом:
– Я принимал присягу говорить здесь, в зале суда, правду и сказал сущую правду! Да и не в моих правилах говорить когда бы то ни было и где бы то ни было ложь! Мне незачем лгать, и никогда не было в моей сознательной жизни такого случая, чтобы я лгал!.. Может возникнуть вопрос, отчего я начал свои показания не с этого факта, – это другое дело… Не сказал об этом раньше только потому, что прямого отношения к покушению на меня со стороны обвиняемого это не имело, – однако факт остается фактом, и залезь в мое окно уволенный мною коногон Божок всего только на четверть часа позже, он увидел бы на полу в моей комнате только труп стоящего теперь перед вами, – труп в луже крови!
– Этого вашего показания мы не нашли в материалах следствия, пхе, – заметил председатель теперь уже сухо и глядя не на него, а в лежащее перед ним «дело» Божка.
– Его и не могло там быть, потому что я не говорил об этом следователю, – его же тоном ответил ему Матийцев.
– Вот видите, – не говорили, а, кажется, должны были сказать… при своей правдивости, пхе!
– Препятствием для меня к такой искренности явился стыд… Мне было стыдно тогда не только говорить, но даже вспомнить об этом, – разведя при этом руками, как бы сам себе объясняя, почему умолчал, объяснил Матийцев. – Стыдно было, да, и потому не сказал… Ни следователю, ни кому-либо другому, а незаконченное письмо матери я уничтожил, конечно. Я говорил следователю только, что прощаю обвиняемого и не возбуждаю против него дела, но почему именно прощаю, не добавил в разговоре с ним, – добавляю здесь, в зале суда… Потому, что его покушение на мою жизнь спасло меня от покушения на свою жизнь, – вот почему. Это сказалось у меня сейчас как будто несколько запутанно, но по существу совершенно точно.
– Разрешите, господин председатель, – полуподнявшись, сказал прокурор и потом, обратившись к Матийцеву, спросил: – Вы говорите, что хотели покончить жизнь самоубийством, потому вы тогда же и купили револьвер?
– Нет, он был у меня раньше.
– Прекрасно, – был раньше, а для каких же целей вы его у себя держали?
И у прокурора при этом вопросе появилось в глазах что-то такое, что появляется у гончей собаки, напавшей на свежий след зайца, но Матийцев ответил теперь уже гораздо спокойнее:
– Револьвер был куплен мною по совету моего начальника в целях самозащиты от… все тех же шахтеров, если бы им вздумалось на меня напасть. Мне говорилось, что подобные случаи бывали, и как же в виду этого быть совершенно безоружным?.. Вот этот самый револьвер я и решил было направить в минуты душевной слабости на себя.
– Вы говорите: «В минуты душевной слабости», – подхватил прокурор. – А не можете ли сказать нам, откуда пришли к вам эти минуты?
– Откуда пришли? – повторил Матийцев. – Я думаю теперь, что сделался тогда жертвой эпидемии самоубийств, которая, впрочем, не прекратилась, а как будто даже расширилась… «Лиги свободной любви», «Огарки», «Клубы самоубийц» и прочее подобное – разве это уже прекратилось? Самоубийства в среде молодежи – разве это уже изжитое бытовое явление? Разве теперь не кончают уже жизни самоубийством гимназисты, студенты, курсистки, в одиночку, или вдвоем, или даже группами по предварительному уговору, причем более решительные помогают даже в этом менее решительным, а потом самоубиваются? Причины при этом бывают самые разнообразные… то есть, я хотел сказать, поводы, а не причины, что же касается причины, то она коренится, конечно, в общем положении вещей в нашей общественной жизни.
– А в вашем случае какой же был повод к самоубийству? – спросил прокурор с явным любопытством.
– В моем случае… Главным поводом явилось несчастье в шахте: обрушился забой и похоронил двух многосемейных забойщиков, – это меня угнетало…
– Это ваше личное дело мы рассмотрим после, – заметил председатель, – а сейчас вы о нем можете не говорить.
Тон председателя показался снова обидным Матийцеву.
– Я говорю о своем деле сейчас, – ответил он, – только потому, что оно очень тесно связано с делом, какое рассматривается судом! И в том и в другом деле – шахтеры, русские безграмотные, бесправные люди! Они то каторжно работают, то скотски пьют, то совершают уголовные преступления, за которые их судят… Они работают до упаду и живут в неотмывной грязи, чтобы неслыханно богатели какие-то иностранцы, а я, инженер, тоже русский, а не иностранец, учился, оказывается, только для того, чтобы помогать наживаться на русской земле иностранцам, а своей родине приносить явный вред!.. После несчастного случая в шахте, которой ведаю я, я и пришел к мысли, что я ни больше ни меньше как подлец и что мне поэтому надо самого себя истребить, как подлеца!
– Вы все показали, господин потерпевший? – перебил его председатель.
– Да, – уставшим уже голосом сказал Матийцев, – в общем, кажется, все…
– В таком случае прошу вас сесть… и отдохнуть… и дать нам возможность заняться свидетелями по делу…
При этом председатель кивнул головой на тот самый стул, с которого поднялся Матийцев, и, как бы исполняя приказ, «потерпевший» сел на этот стул снова, а когда сел, то увидел, что у него нервически дрожали пальцы.
Некоторое время он так и сидел, глядя только на пальцы своих рук, как бы удивляясь их незнакомой ему способности так дергаться. А как судебный пристав ввел сюда в зал из комнаты свидетелей Дарьюшку, он даже и не заметил, – он увидел ее уже стоящей перед столом судейских чиновников и услышал, как председатель спросил ее, не теряя времени, как ее имя и отчество и сколько ей лет.
Он сидел, опустив голову, но глаза его исподлобья блуждали по лицам присяжных заседателей, от решения которых зависело, как именно отнесется суд к Божку. Сам же Божок сидел на своей скамье подсудимых каменно-неподвижно, и у двух конвойных солдат справа и слева от него был какой-то преувеличенно-служебный вид, как у всяких часовых, приставленных для охраны цейхгауза или порохового погреба и не позволяющих себе по уставу гарнизонной службы интересоваться чем бы то ни было посторонним.
Но вот почему-то захотелось ему повернуть голову несколько назад, чтобы поглядеть в сторону публики, которой собралось здесь все-таки десятка два человек, и первые же глаза, которые он встретил, были почему-то восторженные глаза на совсем еще юном, худом, загорелом по-южному лице. Так студент-первокурсник мог бы смотреть на профессора после блестящей лекции или юный меломан на певца, например, на Шаляпина, только что исполнившего знаменитую «Блоху». Это было лицо явно – явно, хотя и про себя, – рукоплещущего ему, инженеру Матийцеву, человека, так что на минуту он, инженер Матийцев, почувствовал себя не только совершенно оправданным, но как будто еще и удачно выполнившим общественный долг.
Юноша, так восхищенно на него глядевший, имел далеко не простое, тонкое лицо, но рубашка его, бывшая когда-то синей, теперь совершенно почти слинявшая от солнца, показалась Матийцеву грязноватой у ворота. И первое пришедшее ему в голову об этом зеленом юнце было то, что у него, должно быть, нет матери: если бы была мать, она бы не позволила ему ходить в такой рубашке.
Потом пробежал он глазами по лицам присяжных заседателей, особенно остановясь на старшине их – седоволосом отставном военном враче. О военных врачах у него составилось уже представление как о бурбонах, любителях выпивок и картежной игры с офицерами, а свою медицину возненавидевших и забывших. Но этот, – потому ли, что был уже в отставке и свою форменную одежду только донашивал, – вид имел внушающий доверие и сквозь круглые очки в серебряной оправе смотрел созерцательно. В левом ухе его белелась вата, но слышал он, по-видимому, неплохо, так как незаметно было у него напряжения, чтобы расслышать.
Из двух чиновников среди присяжных одного Матийцев определил как акцизного, другой же был несомненный учитель городского училища. Об остальных трудно было решить, кто они – торговцы или ремесленники – и как в конечном итоге могли бы отнестись к делу Божка, но утешительно было видеть, что дело это их как будто занимало: с большим интересом глядели они все и на Дарьюшку, которая в это время подробно рассказывала, как она вскочила с постели, вбежала – «извините, в одной рубашке была», – в комнату к хозяину-инженеру и, как увидела такое страшное, что там творилось, изо всех сил своих закричала тогда: «Батюшки! Ка-ра-у-ул, убивают!..» Она даже и теперь, в суде, на память прокричала это самое, так что получилось неподдельно и неоспоримо правдиво.
Но вот прокурор, который смотрел на нее очень проницательно, задал ей как будто и не совсем идущий к делу вопрос:
– Скажите, свидетельница, вам пришлось ведь, конечно, увидеть в тот вечер на столе у вашего хозяина, или, скажем, на полу револьвер?
– Кого, вы сказали? Ривольверт? – как-то сразу оробела и как будто даже испугалась Дарьюшка.
– Да, револьвер, – повторил отчетливо прокурор. – Ведь вы и раньше должны были его часто видеть, не так ли?
При этом прокурор, как опытный психолог, смотрел на Дарьюшку, явно любуясь ее смятением.
– Ис-стинный бог, никогда раньше не видала! – с большим чувством выкрикнула Дарьюшка. – Истинный бог, не видала! – И даже перекрестилась.
Матийцев заметил, что этот Дарьюшкин жест вызвал у председателя и членов суда такую же легкую усмешку, как слова цыгана о перевернутом им лицом к стенке «русском боге». Прокурор же продолжал совершенно серьезно:
– Хорошо, мы верим, что вы не видели раньше этого револьвера, но скажите нам вот что: ведь он и потом остался, конечно, у вашего хозяина?
Только после этого второго, назойливого вопроса о револьвере Матийцев понял, что на этом именно и желает построить какое-то обвинение не против Божка, а против него прокурор, и даже подумал, что, пожалуй, несколько опрометчиво он сам заговорил здесь о револьвере, при помощи которого хотел покончить с собою. Мелькнула мысль, что вместо «застрелиться» он мог бы сказать «повеситься» или «отравиться»; тогда не возникло бы у прокурора никаких далеко идущих подозрений; что же касается револьвера, то… ведь из револьверов обыкновенно стреляют в министров и губернаторов, из револьвера застрелил охранник Богров даже и премьер-министра Столыпина в киевском театре и как раз тогда, когда был в том же театре сам царь!..
Матийцев припомнил и то, что в последнее время как-то даже и не вспоминалось за ненадобностью: придя в себя после беспамятства, он просил Дарьюшку забросить куда-нибудь подальше, хотя бы в пустой колодец, например, револьвер, из которого решил было застрелиться, и не успокоился, пока Дарьюшка не ушла с ним, завернув его в старое полотенце. Когда часа через два она вернулась, то сказала ему, что «забросила эту штуку так, что теперь уж никто ее не найдет», а дня через три после того явилась и начала хозяйничать вместо нее девчонка-глейщица, ее племянница, сама же она, оказалось, заболела и дня три-четыре тогда была она больна, что он, тоже в то время больной, объяснил перенесенным ею испугом.
Теперь Матийцев ожидал от Дарьюшки подробнейшего доклада, куда именно забросила она револьвер, но она пробормотала совершенно растерянно:
– Как же так опять остался? Ведь они же просили меня забросить его подальше, ну вот я и…
На этом «и» Дарьюшка запнулась так длительно, что прокурор счел нужным прийти ей на помощь:
– Просил, значит, забросить и… вы, должно быть, пожалели его забросить, а? Как же, мол, можно это такую стоющую вещь бросать, а?
Тон прокурора был как бы и шутливый, но он задел все тайные струны Дарьюшки. Почудилось ли ей, что прокурор каким-то чудом проник в то, куда девала она револьвер, Дарьюшка вдруг, к изумлению Матийцева, всплеснула руками, и голос у нее задрожал и стал плаксивым:
– Каюсь, грешница, – согрешила!.. Приказали мне они, точно, ривольверт этот страшный забросить, а я иду с ним, думаю: «Вещь он, небось, дорогая, что ж я его зря бросать буду?.. Этак набросаешься!..» Да на базар с ним пошла… Ну, а там какому-то в пинжаку в синем продала за пятерку золотую…
– А пятерку эту золотую хозяину, конечно, отдали? – продолжал тем же издевательским тоном терзать ее прокурор.
Тут Дарьюшка даже заплакала.
– Кабы отдала, ваше благородие, а то пропила, грешная, каюсь!.. Я ведь кто? Шахтерская я вдова, ваше благородие!..
И начала Дарьюшка утирать свои вдовьи слезы сгибами указательных пальцев обеих рук.
Всех развеселило это откровенное признание, кроме Матийцева, который только теперь узнал настоящую причину Дарьюшкиной тогдашней болезни.
– Больше вопросов не имею, – обратился к председателю суда прокурор, и председатель предложил Дарьюшке сесть тем же бесстрастным тоном, как несколько раньше Матийцеву, и Дарьюшка плюхнулась на стул рядом со своим хозяином, все еще продолжая вытирать слезы. А прокурор усиленно начал что-то строчить на лежавшем перед ним листе бумаги и строчил все время, пока судебный пристав не привел сначала Скуридина, а потом тут же и Гайдая, так как их показания были об одном и том же, да и особого значения для разбора дела иметь не могли.
Матийцев догадался, конечно, что прокурор набрасывает свою обвинительную речь, не желая больше затруднять себя какими-нибудь вопросами, обращенными к шахтерам. Но неожиданно для него вопрос им, показавшийся ему неприятным, задал вдруг тот член суда, голова которого как будто потеряла способность держаться прямо.
– А как вообще, скажите, относились шахтеры к заведующему шахтой?.. – И тут же добавил он, видя, что спрошенные замялись с ответом: – То есть нам хотелось бы знать, больше ли было таких, какие довольны им были, или больше таких, какие не были довольны?
– Все были довольные, – угрюмо, но твердо ответил Скуридин.
– Да, так воно и буде, шо все довольные, – чуть помедлив, согласился с ним Гайдай.
После этого оба они уселись рядом с Дарьюшкой, но зато поднялся секретарь суда.
Матийцев почти не замечал его раньше. Гладко выбритый, тщательно причесанный на косой пробор, похожий на студента старшего курса, он все время быстро и неотрывно, как студент лекцию, записывал вопросы и ответы и, между делом, что-то находил в кипе бумаг перед собой и передавал председателю.
Теперь же, наоборот, какую-то бумагу передал ему председатель, и поднялся он с нею в руке. Обращаясь к присяжным, начал читать он тот самый протокол рудничного жандарма, на который ссылался прокурор, и Матийцев вновь услышал обстоятельный теперь уже рассказ о том, как потерпевший, заведующий шахтой «Наклонная Елена», непременно захотел увидеть содержавшегося при конторе бывшего коногона Ивана Божка, и о чем именно говорил с ним, когда к нему его, Божка, он, рудничный жандарм, доставил.
К удивлению Матийцева, протокол этот написан был довольно грамотно, если только не выправлял его сам секретарь во время чтения, а главное, не было в нем никаких предвзятых добавлений и извращений: у рудничного жандарма оказалась хорошая память, так как писал он свой протокол, конечно, уже после того, когда отвел Божка в «кордегардию», как почему-то называлось на руднике укромное помещение при конторе, где обычно вытрезвлялись буяны.
После того как прочитан был этот протокол, поднялся уже сам председатель суда и, обращаясь тоже только к присяжным, начал как бы объяснять им суть дела Божка, обращая внимание их на самое главное, и Матийцев увидел в нем очень опытного судью, притом хорошо владевшего речью: даже к своему важному «пхе» он теперь не прибегал ни разу.
Закончил он так:
– Оставим в стороне версию потерпевшего, будто он готовился покончить жизнь самоубийством, когда к нему в комнату сквозь окно проник подсудимый. Будем ли мы относиться к этой версии как к тому, что имело место в действительности, или как к выдумке потерпевшего в целях ослабить вину подсудимого – это решительно все равно; мы просто пройдем мимо нее, так как имеем дело только с преступлением, совершенным подсудимым. Факт, значит, я повторю это, таков: горный инженер, заведующий шахтой, уволил коногона за то, что тот слишком жестоко обращался с лошадью и тем, следовательно, тормозил работу. Из мести за увольнение коногон решил убить инженера, причем для храбрости напился. Инженера спасли подоспевшие другие шахтеры, выступавшие здесь свидетелями; не подоспей они, инженер был бы, конечно, убит. Однако и тот удар в голову стулом, лежащим вот на столе вещественных доказательств, не мог, разумеется, не отразиться на здоровье заведующего шахтой; к этому выводу нельзя не прийти после его здесь показаний, да и внешний вид потерпевшего не свидетельствует о его здоровье. Итак, господа присяжные заседатели, вы должны будете обсудить дело бывшего коногона шахты «Наклонная Елена» Ивана Божка и вынести вполне справедливое заключение: виновен ли он в том, что с заранее обдуманным намерением проник в квартиру инженера господина Матийцева, чтобы лишить его жизни из мести за свое увольнение? В зависимости от вашего решения мера наказания обвиняемому будет вынесена уже нами.
Речь прокурора, поднявшегося после того, как сел председатель, была длиннее, а главное, он говорил далеко не так спокойно. Как лично чем-то задетый, он, то повышая голос, то притушенно, но язвительно, говорил больше о потерпевшем, чем о подсудимом. Начал он неожиданно для Матийцева с показаний Скуридина и Гайдая.
– Господа присяжные заседатели, вы, конечно, слышали, как на вопрос одного из членов суда, обращенный к свидетелям-шахтерам: «Довольны ли рабочие-шахтеры заведующим шахтой господином Матийцевым?» – оба ответили: «Все довольны!» Этому ответу нельзя не поверить, если принять во внимание, что потерпевший, едва не убитый подсудимым, коногоном Иваном Божком, так ревностно выступал здесь в защиту подсудимого, что казенному защитнику можно уж и не говорить ни слова: сказано потерпевшим не только все, но… и гораздо больше, чем все! Я не буду говорить о том, совершенно излишнем для дела, чего коснулся в своих показаниях потерпевший; я скажу только о том, что, всячески умаляя вину обвиняемого, потерпевший сам становится опасным для общественного порядка, обусловленного государственными законами, и даже в гораздо большей степени, чем, например, любой толстовец, проповедующий с легкой руки своего учителя «непротивление злу насилием». В данном случае в суд явился тот заведующий шахтой, которым все рабочие довольны, за исключением всего только одного, который оказался недоволен своим увольнением, и этого-то единственного недовольного потерпевший, – и жестоко потерпевший от него! – и явился сюда защищать. Нельзя не сказать, что это – из ряда вон выходящий случай, и объясняется он только куриной слепотой пропагандистов крайних политических воззрений, которые готовы пропагандировать свои бредовые идеи где угодно и перед кем угодно. Однако ведь ни окружной суд не является подходящим для этого местом, ни объект защиты, совершивший отвратительное уголовное преступление, не является подходящим поводом для пропаганды этих чрезвычайно опасных для нашего общества идей. Но что поделаешь с этой убежденностью в их правоте! Дело это надлежит рассматривать так, как оно вырисовывается из протокола следствия, из показаний самого обвиняемого и показаний свидетелей потерпевшего, исследуя только факт покушения на убийство, причем нужно иметь в виду, что «покушением» этот факт стал только потому, что убийство не удалось, убийству помешали товарищи шахтера Божка, хотя сам он и утверждал здесь, что если и не добил своего инженера до смерти, то не потому даже, что ему помешали, а потому только, что уверен был: убил! Действительно, раз человек уже убит, то как же его убить вторично? Совершенно лишняя притом же трата времени и энергии… Правда, потерпевший, ведя здесь пропаганду своих социальных теорий, увлекся до того, что отрицал даже и то, что обвиняемый напал на него, писавшего в это время, по его же словам, письмо матери. Он утверждал, что сам первый напал на влезшего в окно коногона Божка, – напал и – ни с того ни с сего – ударил его стулом. Этот во всех отношениях неудачный трюк защиты обвиняемого мы, разумеется, оставим без внимания или отнесем его к тому болезненному состоянию потерпевшего, о котором говорил председатель суда. В общем же дело это совершенно ясное и никак затемнять его вам не следует. Преступник свою вину признает сам; никаких толкований в сторону смягчающих эту вину обстоятельств в деле возникнуть не может. Любое послабление в данном случае приведет рабочих, в частности шахтеров, к убеждению, что инженеров и вообще начальников тех или иных предприятий убивать за то, что они уволили с работы, не только можно, а даже и должно, что это чуть ли не поощряется самим законом. Поэтому я предлагаю судить обвиняемого шахтера Божка по всей строгости законов, без малейшей тени поблажки!
Победоносный вид был у прокурора, когда он говорил это, но, как показалось Матийцеву, еще более стал он победоносным, когда прокурор уселся на свое место за отдельным столиком. Иначе не могло и показаться, так как прокурор, усевшись, несколько длинных мгновений глядел только на него одного и совершенно уничтожающе.
Потом казенный защитник Божка, кандидат на все судебные должности, хотя и запустивший уже мочального цвета бородку, но, по-видимому, ни разу еще не выступавший в суде, замямлил что-то, будто ему трудно сказать что-нибудь в защиту подсудимого, кроме того, что он был пьян; прокурор же в это время снова приглядывался к Матийцеву тяжелым и неприязненным взглядом. Заметил Матийцев, что и Божок смотрел с явной надеждой не на своего защитника, а на него, едва не убитого им. И когда по окончании речи защитника председатель обратился к нему, не скажет ли он еще чего-либо в объяснение своего преступления, Божок только пробормотал удивленно:
– Что же я еще могу? Я ничего еще не могу объяснить, когда тут и без меня вон сколько говорили…
Тогда старшине присяжных передан был на листке бумаги точный, выработанный с давних времен судопроизводством вопрос, на который так же точно должны были ответить присяжные заседатели. И они гуськом пошли вслед за степенным седовласым старшиною в другую комнату совещаться, а судейские занялись, как решил Матийцев, подготовкой к разбору другого дела, которое должны были рассмотреть в это же заседание.
Настали долгие минуты ожидания. Вспомнив о том, что как только вынесен будет приговор Божку, его свидетели могут уже уезжать в Голопеевку, Матийцев обратился к Скуридину:
– Сейчас вы с Гайдаем будете свободны, а делать вам в городе, конечно, нечего, – надо домой… Только вот денег у меня не густо… Сколько вам дать на дорогу?
– Да что же нам вас разорять, – рассудительно сказал Скуридин. – Дадите трояк, авось, нам двоим и хватит.
Матийцев дал тут же трехрублевку и Дарьюшке.
После своего невольно вырвавшегося признания она чувствовала себя пришибленной до того, что ему стало ее жаль, почему он проговорил ободряюще:
– Ничего, что ж… со всяким может это случиться… Вот вместе и поедете, а мне ведь еще самому отвечать за обвал в шахте, и меня, конечно, присудят к отсидке.
Когда отставной военный врач снова впереди всех присяжных, держа листок в руках, вошел в зал, он, откашлявшись, густым голосом прочел вопрос:
– «Виновен ли шахтер коногон Иван Божок в покушении на убийство заведующего шахтой „Наклонная Елена“ горного инженера господина Матийцева?»
И тут же, обведя взглядом исподлобья поверх очков всех судейских, зачитал ответ:
– «Виновен в нанесении серьезных, но не угрожающих жизни побоев, что совершено им без заранее обдуманного намерения в состоянии сильного опьянения, почему заслуживает снисхождения».
По лицам переглянувшихся между собою председателя, членов суда и прокурора Матийцев увидел, что такого решения присяжных они не ожидали. Довольный вид был только у старшины присяжных, который глядел теперь поверх очков как будто даже несколько проказливыми глазами.
Суд совещался недолго. Председатель прочитал решение. Божок приговорен был только к шести месяцам тюрьмы, хотя и без зачета предварительного содержания в ней.
И как только дошло до сознания Божка, что приговор оказался не по вине его легким, он радостно гаркнул на весь зал по-солдатски:
– Пок-корнейше благодарю!
И оглушенный этим криком Матийцев встретил на себе сияющие глаза бывшего коногона и понял, что это не судьям, а только ему одному кричал Божок, которого тут же, по знаку председателя, увели из зала конвойные.
По-видимому, объявлен был перерыв, так как выходили из суда прямо на улицу многие, а не один только он, Матийцев, со своими свидетелями; при этом заметил он, что на него оглядывались и смотрели с наивным, но молчаливым любопытством. Так, подумал он, могли бы смотреть на зебру или жирафа, или на бежавшего из дома сумасшедших и еще не снявшего с себя грубого серо-желтого халата из верблюжьей шерсти. Странно было видеть, что точно так же глядел на него и представительный судебный пристав, вышедший на улицу подышать свежим воздухом, хотя воздух улицы здесь едва ли был свежее, – не душнее ли даже, чем в зале суда.
Матийцеву хотелось почему-то встретиться здесь, хотя бы глазами, с юнцом, на которого он обратил внимание во время процесса, но его тут не было, – ушел, значит, раньше. Ему хотелось подслушать, не скажут ли в разговоре между собой чего-нибудь о Божке, но немногочисленная публика расходилась почему-то молча, и это показалось ему обидным. Выходило, что не произвело на других никакого впечатления то, что очень измучило его теперь и долго мучило раньше. Может быть, были даже недовольные тем, что попали как слушатели на малолюбопытное для них дело. Неприятно ему было и то, что не видел он, куда повели Божка, в какую сторону улицы, и повели ли, или, может быть, конвойные получают еще бумажку, – решение суда о шести месяцах…
Когда Матийцев вышел из суда на улицу, он почувствовал, что как-то странно ведут себя его ноги: не держатся прямой линии, а стремятся куда-то вбок, как у пьяного.
– Ослабел я, однако, – сказал он Дарьюшке, которая направлялась вместе с шахтерами прямо на вокзал.
Так же, как и им, в гостиницу заходить было ему совершенно незачем, поэтому пошел он вдоль улицы к киоску, где мог напиться «искусственной минеральной» воды: пить очень хотелось.
В ушах его все звучал зычный крик Божка: «Пок-корнейше благодарю!» Но теперь он как-то заслонялся в сознании речью прокурора. Он припоминал из нее самые обидные для себя выражения, понимая притом, что даже и обижаться на этого представителя власти и закона он не может, – тем более что через день (почему-то непременно через день, а не завтра!) тот же прокурор будет осуждающе говорить уже не о словах его в зале суда, а о действиях его в шахте, хотя сам-то он никогда, конечно, и близко не подходил ни к одной шахте, боясь испачкать лицо и костюм. Через день в том же зале, при тех же судьях и присяжных он будет доказывать, что заведующий шахтой «Наклонная Елена» – плохой инженер, и что он лично, а не какие-то не зависящие от него обстоятельства, виноват в смерти двух забойщиков и должен быть строго осужден за это…
Едва дошел до киоска Матийцев и прежде всего поглядел около, нет ли скамейки или стула, чтобы сесть. Стул был только в самом киоске, и на нем плотно и прочно сидела очень грузная черноволосая женщина с глазами, как две соленые маслины.
Опершись обоими локтями на стойку, он спросил стакан воды, но продавщица осведомилась:
– С сиропом или без?
– С сиропом, да, с вишневым, – заметив две колонки сиропа, он сам уже поспешил предупредить вопрос «с каким сиропом».
Стакан он выпил жадно и без передышки и попросил еще. После третьего стакана он почувствовал себя лучше настолько, что смог уже задать продавщице связный вопрос:
– Нет ли где-нибудь здесь поблизости скамейки?
– Что-о? Скаме-ейки? – удивилась женщина.
– Да, скамейки… Мне хотелось бы посидеть, – устал я, – скромно объяснил ей Матийцев.
– Поси-де-еть вам?.. Ну так вон же есть там такая скамейка, где можно посидеть!
И женщина, высунув из киоска плоскую черноволосую голову, кивнула ею вперед. Вглядевшись, Матийцев рассмотрел там под очень запыленным каким-то деревом низенькую скамеечку, выпил еще стакан воды и пошел туда уже гораздо более твердыми ногами.
Но только что дошел он до этой скамеечки, около калитки в чей-то небольшой сад рядом с довольно опрятной хаткой, видимо, из калыба, но старательно побеленной и с покрашенными в светло-зеленый цвет ставнями, и сел наконец, протянув вперед ноги, как увидел, что к нему подходит тот самый юнец с восторженными, как бы рукоплескавшими ему в суде глазами, в линялой и грязноватой, расстегнутой у ворота рубашке. На голове его была какая-то тоже слинявшая и ставшая жухло-розоватой, но прежде, снову, бывшая, вероятно, синей, фуражка с узенькими полями и с лакированным всюду потрескавшимся ремешком спереди; серые совершенно изношенные брюки его были неумело заштопаны на коленях, на ногах грубые кожаные туфли, называвшиеся здесь «постолами». Благодаря тому, что и туфли эти были тоже весьма изношены, Матийцев не слышал за собою его шагов, когда подходил к скамейке.
– Здорово вы говорили в суде, очень здорово! – восхищенным тоном сказал юнец, остановясь перед ним. – Не зря так ополчился против вас прокурор! Знаменито выступили!
Матийцев глядел на него недоуменно, и, заметив это, юнец продолжал:
– Не думайте, что я – шпик, хотя должен вам сказать, что шпиков тут теперь порядочно: кроме своих туземных, еще и приезжие, ради сессии окружного суда… А я – свой брат, – за мною самим шпики следят.
Сказав это, он оглянулся назад, поглядел через низенький заборчик в сад, отклонив голову, осмотрел и весь фасад хатки и только после этого решил:
– Посижу с вами, только говорить надо… потише бы.
И сел рядом. И тут же, только сел:
– А старшина присяжных каков, а? У него зигзаги на погонах, он отставной военный врач, – полковым, должно быть, врачом был: он надворный советник.
– Откуда же эти у вас знания о чинах и погонах? – спросил Матийцев, все еще недоумевая.
– На это я потому обратил внимание, – ответил юнец, – что с детства привык к погонам отца: у меня отец тоже полковой врач и тоже надворный советник… а я вот как видите!
И он улыбнулся совершенно беспечной, молодой и очень хорошей улыбкой, которая сразу склонила к нему Матийцева, и не мог уже теперь не спросить он:
– Ваш отец – военный врач где же именно? Здесь?
– Ну вот еще, здесь! Конечно, не здесь, а довольно далеко отсюда. Вам можно сказать, но вы об этом не говорите, в Крыму, в Симферополе… Так как он филантропствует, то зовут его там «святой доктор». Если когда-нибудь вы будете в Симферополе, спросите там, где тут обретается «святой доктор», – вам и укажут адрес моего отца, Худолея Ивана Васильича, а я его сын Николай, сижу вот теперь с вами рядом и говорю то, чего говорить мне не следует, но я надеюсь, конечно, что вы меня не выдадите: я ведь на нелегальном положении, – беглый ссыльный, – «политический преступник».
– Ах вы чудак этакий! Да когда вы успели стать ссыльным и даже беглым? – в тон юнцу тоже и быстро и даже с оглядкой назад, в сторону сада, проговорил Матийцев, очень удивленный.
– Вы можете называть меня Колей, – сказал вместо ответа юнец.
– Вы, конечно, Коля и есть, – согласился Матийцев. – До Николая вам еще расти да расти.
– Хотя мне уже восемнадцатый: это я просто таким вышел субтильным, как говорится… Я из шестого класса гимназии: держать экзамены в седьмой мне уже не пришлось, – в апреле административно был выслан из Симферополя. Ну и, конечно, бежал, и вот все в бегах… А здесь я по поручению партии, и ваше выступление сегодня – это для нас клад. Прокурор вздумал поставить вам в вину даже и то, что на суде вы так говорили! Именно на суде-то и нужно было так выступить в защиту шахтеров… Разумеется, у вас вышла бы по-настоящему громовая речь, если бы председатель вас не обрывал ежеминутно… Прокурор сказал, что покушение на самоубийство – трюк неудачный! Нет, я нахожу, что удачный: именно такой трюк и нужно было придумать. И видите, как этот трюк подействовал на присяжных! Что такое Божку вашему посидеть в тюрьме полгода на готовых харчах? По крайней мере и с лошадьми в шахте не бейся и кошки на тебе котиться не будут! Насчет кошек это тоже здорово вышло… У вас таким, как я, просто надо учиться вести агитацию!
Матийцев слушал его, не пытаясь возражать: он им любовался. Этот Коля Худолей, сын «святого доктора», был сам насквозь пропитан какою-то вполне ощутимой святостью молодости, полной «бессмысленных мечтаний», как однажды было сказано с высоты престола еще молодым тогда теперешним царем, тоже Николаем. Что для одного Николая были «бессмысленные мечтания», то, притом в гораздо большей степени, для другого Николая, – вот этого, с девичьим лицом, – стало символом веры. Ради этих «бессмысленных мечтаний» вчерашний гимназист сделался бродягой, ходит в своих стареньких, неумело, должно быть собственноручно залатанных брючонках, в чужих постолах не по ноге, в грязной линючей рубашке и в этом картузишке… Но это пока тепло, а с чем будет он ходить, когда захолодает?.. И вид у него голодный…
– Вы, Коля, ели что-нибудь сегодня? – спросил он.
– Я? – переспросил и покраснел почему-то Коля. – Я, конечно, что-то ел, но, должен признаться, мне хочется есть.
– Тогда вот что, пойдемте в какой-нибудь здесь ресторан и пообедаем.
– Что вы, что вы! – очень изумился Коля. – Разве можно мне в ресторан? Сейчас же сцапают!.. А вам разве непременно в ресторане хочется обедать? Можно ведь купить в лавчонке булок, колбасы, чего-нибудь вообще, и даже совсем выйти в поле – гораздо было бы спокойнее, да и сытнее.
И Коля не только поглядел через заборчик в сад, но и поднялся, что вслед за ним сделал и Матийцев, сказав:
– Это тоже, пожалуй, неплохо будет – проветриться в поле, если только там, дальше, лавочка будет.
– Будет, будет, и даже довольно приличная, – убедил его Коля.
И они пошли, но не рядом: по мнению Коли, идти рядом им все-таки не годилось, – могло кое-кому броситься это в глаза; поэтому Коля отстал на несколько шагов, хотя Матийцеву такая осторожность казалась излишней.
И в лавочку, о которой говорил Коля, Матийцев заходил один; сошлись они снова только тогда, когда вышли за город.
– О том, что мне не дали выйти из гимназии с аттестатом зрелости, я ничуть не жалею, – говорил здесь, вдали от домов, уже без предосторожностей Коля. – Это же еще целых два года должен был я «иссушать ум наукою бесплодной», – какими-нибудь «Записками о Галльской войне» Юлия Цезаря! На кой черт нужен мне Юлий Цезарь с его Галльской войной и латинским языком, скажите? А сколько дорогих часов загублено зря этим латинским языком, катехизисом митрополита Филарета, чистописанием!.. Какое зрелище: сидят гимназисты шестого класса и неукоснительно каллиграфически выводят букву за буквой! Что же их, в писаря в канцелярию его величества готовят?.. А «Камо пойду от духа твоего и от лица твоего камо бежу? Аще взыду на гору, ты тамо еси, аще сниду во ад, – тамо еси…» Поди-ка не вызубри этого для батюшки, – кол от него в дневник получишь! А запись на спряжении неправильных латинских глаголов, – другой кол. Сколько времени зря ушло на никуда не нужную чушь, – подумать страшно!.. Мало ли есть у зажиточных людей никчемных профессий, однако… на чьей-то шее сидят же эти дармоеды! Я и до шестого-то класса дошел только потому, что за нас и на нас, на всех моих товарищей, рабочие работали. Высчитано точно: для того, чтобы какой-нибудь санскритолог мог своею никому не нужной наукой заниматься, целых двести рабочих семейств должны отдавать ему излишки своего труда.
– Как же это понять – «отдают излишки труда»? – спросил Матийцев. – Это вы, Коля, конечно, тоже заучили, как катехизис.
– А что же такое он производит? – вскинул на него глаза Коля. – Он только потребляет, но совершенно ничего не производит, потребляет же, конечно, много: кто беден, тот санскритом заниматься не станет…
И вдруг перебил сам себя:
– Вот теперь лицо у вас бледное, а посмотрели бы вы на себя, когда говорили в суде!.. Лицо было совершенно красное, и шея, и даже глаза красные… И я за вас тогда очень боялся, кабы с вами чего не случилось.
– Да, я волновался очень, – согласился Матийцев. – Я вообще ведь никогда не имел дела с судом, и вдруг пришлось.
– Еще и на таком деле, как у Божка, в котором вы же и были виноваты.
– Я? Чем же именно? – удивился Матийцев.
– Как же так «чем»! Ведь вы же сняли его, рабочего, с работы? Зачем же сняли? Ведь могли бы его не увольнять?
– Да, мог бы, но… это было бы именно то самое толстовское «непротивление злу насилием», о котором вспомнил прокурор. Он очень меня оскорбил тогда, – словами, конечно, – и я оказался в трудном положении… Вообще мне даже и сейчас кажется, что иначе я поступить не мог.
– Не могли простить?
– Может быть, простил бы через два-три дня, но… он не захотел дожидаться так долго.
– Что вами все рабочие довольны, это, конечно, прозвучало в вашу пользу в ушах присяжных, только не в мозгу прокурора: прокурор вообще вас не забудет, не обойдет своим вниманием… И хотя у кухарки вашей очень естественно вышло, как она продала ваш револьвер кому-то в пиджаке синем, но разве прокурор в это поверил?
– Вы думаете, что не поверил?
– А кто же вообще-то поверить может, чтобы человек такого политического накала, как вы, расстаться мог с револьвером?
Матийцев ничего на это не ответил, но, заметив в стороне одинокий осокорь, кивнул на него:
– Вот там, кажется, и можем мы сесть подкрепиться.
– Место подходящее, – одобрил Коля, все-таки оглянувшись назад и в стороны. – Там даже вроде какого-то овражка: может быть, глину там копали… Вы в Крыму когда-нибудь были?
– Нет, не приходилось.
– Да, так как ваша специальность – каменный уголь, то вам зачем в Крым: угля там нет… То есть, какие-то Бешуйские копи, но только уголь там бурый… А железной руды много под Керчью. Там же есть и завод.
– Кажется, французский.
– Да, французы там основались.
– То-то что французы.
Когда уселись под деревом и принялись за свой обед, Матийцев испытал мало знакомую ему радость, что вот благодаря ему будет сыт сегодня так, как, может быть, не был сыт уже давно, этот сразу полюбившийся ему юнец, бросившийся в огромную жизнь один, без всякой поддержки, ради серьезнейшего дела, в полную возможность которого он поверил, несмотря на всех этих прокуроров и председателей судов, несмотря на всех приставов – судебных, становых и прочих, несмотря на всех жандармов, на всех шпиков, на всех околоточных и городовых и стражников.
Главное, что он видел в этом юнце, было то, что вот он уже умудрен жизнью, он уже делает в ней что-то такое, от чего не разбогатеют ни голопеевские бельгийцы, ни керченские французы, и он не может даже подумать сказать о себе так, как вырвалось у него лично только на суде: «Я хотел уничтожить себя, как подлеца!»
А Коля Худолей, насыщаясь совершенно деревянной копченой колбасой и черствой булкой, говорил в то же время с большим увлечением:
– Это у вас вышло знаменито, что вас ударило в голову, хлопнуло: получилось так, – не своим же стулом в руках Божка коногона, а всем шахтерским бытом, всей этой жизнью страшной, какою вообще рабочие наши осуждены жить! Чем осуждены жить? Нашим государственным строем, вот чем… Между тем кто же добывает уголь? – Шахтеры! А без угля, – это вы вполне ярко выставили, – какая может быть промышленность в России? Кустарная, какая была при Иване Грозном!.. А вот в Баку, – я был в Баку, – кто добывает нефть? – Нефтяники! А у нефти огромное будущее, не говоря о том, что нефть и бензин из нефти проникают и теперь куда угодно… А кто городишко этот построил? А кто железную дорогу к нему провел? Всё они же, рабочие, – первые люди на земле, – двигатели всей жизни, – вот кто! Вы и подчеркнули это на суде… И выдумка эта ваша, будто вы как раз самоубийством хотели кончить, когда Божок к вам залез и к жизни вас вернул, только уж к настоящей жизни, а не к обывательской, и чем вернул? – тем, что по голове хлопнул, – это выдумка, как же она кстати пришлась! И как же я вами любовался, когда вы говорили это! Вот, думаю, как инженера этого по голове хлопнуло, и он воскрес, так и всю Россию нашу не иначе, как очень скоро хлопнет, – именно по голове хлопнет и, главное, скоро, вот в чем радость моя была!
– Хлопнет, вы полагаете? – спросил Матийцев удивленно.
– Не-пре-менно хлопнет! – уверенно ответил Коля.
– И кто же все-таки хлопнет?
– Как «кто хлопнет»! Мы с вами и хлопнем, – вот кто!
– Вон как вы думаете!.. И верите в то, что еще даже и скоро?
– Непременно скоро! Ведь рабочих уже раскачали даже здесь, в Донской области… А на Кавказе-то как! А в Питере, в Москве, в Иваново-Вознесенске!.. В Москве Пресня разве забыта? А в Крыму, в Одессе броненосец «Потемкин», крейсер «Очаков»? Не только ничего не забыли, а как следует во все это вникли рабочие, – почувствовали, что они – сила… А ведь только это и надо нам, чтобы сознание своей силы у рабочих появилось: дальше уж там покатиться должно, как по рельсам.
Матийцев смотрел на тонкое в линиях, но по-южному загорелое лицо Коли, снявшего здесь свою фуражку, и думал, пока говорил он, что сделал в этом юнце как будто какое-то большое приобретение, нашел то, чего ему не хватало. В ту сумятицу мыслей и ощущений, которая его охватила, этот юнец с украинской фамилией как будто внес шахтерскую лампочку, позволившую ему самому, инженеру Матийцеву, рассмотреть как следует, что к чему и зачем. Рассмотреть вблизи то, что ему представлялось чрезвычайно далеким, – вот это так находка, вот это так неожиданность! Точно с неба свалился и вот теперь сидит рядом с ним и ест деревянную колбасу, как лакомство!..
– Вы вспоминаете девятьсот пятый год, Коля, – сказал он, – и тогда Россию действительно хлопнуло, но хлопнуло там, на Дальнем Востоке, – хлопнуло извне, я хочу сказать: сначала извне, а потом уже рикошетом хватило изнутри. Так это произошло, если припомнить историю. Сначала извне, а потом уж изнутри, – на этом я делаю ударение. А вы уверены, что опять, и притом скоро, хлопнет по голове. Откуда же ожидают этого? Ведь не с Востока же, а?
– Нет, не с Востока, а с Запада, – твердо сказал Коля.
– С Запада, вы полагаете?
– Да, конечно, с Запада! Ведь Запад усиленно готовится к войне с русским правительством, а русское правительство потихоньку ополчается на войну с Западом… А что может выйти из этого ополчения, мы уже имеем понятие: Дальний Восток открыл нам глазки.
– Темное предчувствие этого есть у меня, – сказал точно про себя Матийцев.
– Какое же «темное»? Вы на суде говорили об этом вполне ясно, – подхватил Коля.
– Я не все помню, что я говорил: у меня в голове очень стучало… Говорил как-то машинально и многого не помню.
– Ничего, зато я помню… Думаю, что и прокурор не забудет. Во всяком случае, вам ведь еще предстоит суд по своему уже делу, по обвалу в шахте? Это послезавтра, я видал там, на стенке где-то.
– Да, послезавтра… Приходите слушать.
– В том-то и дело, что рисковать не имею права, – в том-то и дело, – покачал головою Коля. – Мне уже сегодня вечером надо сматывать удочки, чтобы не задержали. Что я нынче в суд попал, и то уж была с моей стороны большая неосторожность, но я тут вышел сух из трясины, а вторично так выйти, – это уж наверно можно сказать, – не удастся. Так что я уж туда (он кивнул в сторону города) больше не зайду, а вот как есть отсюда двину по большаку.
– Что вы, Коля! – испугался за него Матийцев. – Куда же это вы пойдете по большаку в одной рубахе?
– Ничего, такая уж у меня профессия, – улыбнулся Коля. – А что в одной рубахе, так я ведь на юг, на Кавказ, – там долго еще тепло будет.
– Смотрю я на вас, Коля, и думаю: какая странность! Вот вы говорили, что ваш отец – филантроп, «святой доктор»… А давно ли он стал таким? – спросил Матийцев.
– Этого уж не знаю. Я помню его таким с детства.
– Мой отец уже умер, – раздумчиво продолжал Матийцев, но о нем тоже могли бы говорить: «святой учитель», – он был учителем, а до того, до учительства, военным, только не врачом, – офицером на Кавказе. И вот именно теперь я вспоминаю его историю и думаю: а ведь его тоже хлопнуло так же, как и меня, его единородного сына. Если бы мне рассказать вам об этом, как он рассказывал мне, получилась бы целая повесть, которую можно было бы назвать так: «Непонятный зверь»… Рассказать? Будете слушать?
– Непременно! Непременно расскажите! – очень оживился Коля. – Тем более, что Кавказ!
– Не так давно, – сказал Матийцев, – умер мой отец, – года четыре назад, в почтенном возрасте, – восемьдесят с лишним ему было… Выходит, что я сын уже довольно престарелого родителя, поэтому такой некрепкий… Впрочем, сколько его помню, он был всегда сухощавый и ничего богатырского в нем не было… Но он из военной семьи и сам в молодости был офицером на Кавказе – значит, через кадетский корпус прошел, а там с ребятами не особенно нянчились… Ну вот, его тоже стукнуло там на Кавказе, поэтому с военной службы он и ушел.
– Ранили? – спросил Коля.
– Да-а, и ранили тоже, но это между прочим, это там было в порядке вещей, – на то война, но ранен он был не только в плечо пулей, но и в голову, как и я… только уж не пулей.
– Саблей?
– И даже не саблей… Конечно, могли бы чеченцы или лезгины ранить и шашкой и кинжалом, но я не о такой ране говорю. Непонятная неожиданность его ошеломила и перевернула в нем все…
– Что именно «все»?
Коля высоко вздернул брови, но вдруг глаза его зажглись:
– Понимаю! Солдата при нем пороли!
– Нет, этого я от него не слыхал, чтобы солдат там, на Кавказе, во время войны пороли… Нет, не это, а… Пожалуй, я расскажу вам подробно: мне и самому хочется припомнить, как это с ним случилось. Отец рассказывал, как его стукнуло, не только мне самому, – и другим тоже в моем присутствии, так что я раза три от него это слышал в подробностях. Если вы слушатель терпеливый, могу рассказать и вам.
– «Я терпелив. Я очень терпелив!» – это из какого-то стихотворения… – поспешно сказал Коля и покраснел.
– Да, видите ли, война на Кавказе тогда, – она была бесконечная. И сами по себе кавказцы были очень воинственны, и англичане их поддерживали оружием, и местность там для русских войск, как вам известно из географии, для ведения войны большими армиями совершенно неудобная, – те же Альпы: горы, пропасти, дикие леса, тропинки вместо дорог, а для партизанской защиты лучше местности и придумать нельзя! Много русских полков туда послали при Николае Первом, между прочими и Нижегородский драгунский, а мой отец именно в этот полк назначен был, как получил первый офицерский чин – прапорщика. Это в конце сороковых годов было, – кажется, в сорок седьмом году. Из Петербурга и сразу на Кавказ, под пули чеченцев. Но это бы еще туда-сюда: под пули его и готовили, но куда же именно он попал? В Дагестан, в пустыню, на берег реки Сулак, в укрепление Чир-Юрт.
– Не знаю, где это, – добросовестно признался Коля и развел руками, но Матийцев успокоил его:
– И я не знал, хотя по старой карте справлялся тогда, – было показано, а существует ли теперь, в этом не уверен. Итак, Чир-Юрт… По словам отца, так называлось по-чеченски урочище, местность эта, а уж строиться там начали сами нижегородцы. Полк сначала, как туда прибыл из Грузии, жил там в палатках и землянках, – удовольствие, а? Ведь большая часть офицеров были семейные! В Грузии жили долго и в человеческих условиях, – вдруг понадобились для военных действий и пожалуйте в «долину Дагестана», где ничего ровным счетом, – пустыня, и днем в ней кругом трещат кузнечики, а ночью – сверчки; они, оказывается, отлично знают свое время, чтобы трещать.
Вы только представьте эту обстановку. Каменистая за рекой Сулаком степь, в которой трава уже в мае вся выгорает от солнца. В январе – феврале цветут там тюльпаны, а начиная с мая – пустыня… Пустыня эта с запада подперта горами, а к востоку вся открыта, так что виднеется на горизонте Каспийское море, а около него белеют солончаки. Ближе к морю, только немного южнее Чир-Юрта – город Темир-Хан-Шура, но до него верст пятьдесят, а по Сулаку линия укреплений… Сулак же там был не то что горная речка, а довольно широкий, – саженей на тридцать, но течение все-таки быстрое… Летом в этой пустыне дождей не было никаких, только с Каспия дули ветры, и тучи пыли все лето заменяли там воздух. Только рот открой шире для команды – тут же тебе и влетит в рот охапка пыли!.. И так каждый день, и только днем, а не ночью, – четыре месяца подряд: май, июнь, июль и август, – одна только желтая пыль вместо неба и вместо дождей… И окошек днем не отворяй, – сиди взаперти, – вот какая обстановка!.. На устройство всего укрепления было выдано Нижегородскому полку только двадцать три тысячи рублей ассигнациями, да и то после усиленных просьб командира полка, а в полку было десять эскадронов, да офицеры с семействами, да и солдаты были семейные, – ведь служба их была двадцатипятилетняя, – разрешали жениться… Да артиллеристы, да нестроевые, – всего гораздо больше тысяч, – вот для всех и устрой помещения: казармы, конюшни, жилые дома для офицеров, штаб полка, лазарет и мало ли что еще – за двадцать три тысячи рублей ассигнациями!
– Это издевательство гнусной царской власти! – пылко сказал Коля.
– Да уж там как хотите судите, а порядок был такой: раз ты солдат – делай все для себя сам из того, что у тебя под руками: камень – из камня, глина – из глины, дерево – из дерева, а казну не беспокой… Вот и строили.
Как инженер сам, я это представляю. Из глины делали саман, из самана лепили стены – это для жилых домов, для казарм, для штаба полка, для лазарета… Крыли, конечно, камышом, как и у нас кроют. Конюшни делали из турлука, то есть хвороста, смазывали хворост глиной… Рабочие ведь были свои же солдаты. Значит, двадцать три тысячи должны были пойти на что же? На стекло для окон, на рамы, если их покупали готовыми где-нибудь в Темир-Хан-Шуре, на гвозди, если только не могли их сделать в своей кузнице, на кирпич для печей… В общем, так ли, сяк ли, – через пять-шесть месяцев и укрепление было готово, и даже слободка около него, где жили семьи женатых солдат, – вахмистров, унтеров. Вот в одном из таких домиков на слободке и поселились в тысяча восемьсот сорок седьмом году два молоденьких новоприбывших прапорщика, – мой отец и его товарищ Муравин. Хозяин домика был тоже прапорщик, недавний вахмистр, – офицерский чин получил за военные подвиги, – он им двоим половину своего домика не то чтобы сдал внаем, а просто продал по своей цене.
– Сколько, – спросил мой отец, – вам домик ваш обошелся?
Тот жмется, считает в уме…
– Дорого, – говорит, – стал он мне… Не меньше как двадцать пять рублей серебром, вон сколько!
Мой отец и Муравин взяли да купили у него, к его великому удовольствию конечно, половину дома: большую комнату с итальянским окном и переднюю (для денщика), заплатили двенадцать с полтиной, запили сделку чихирем и обосновались там на зиму.
– Нужно сказать, что зима там, в этой части Дагестана, была мягкая, вроде октября на Украине. Снег выпадал только на горах, а в долине, – она называлась Шамхальской, – снег если иногда и шел, то тут же и таял. Вообще зима была теплая. Стаи дроф бродили в степи, на них охотились с обычными хитростями, чтобы подобраться к ним на выстрел: дрофа – птица осторожная и от человека ничего хорошего не ждет.
Зимою и набегов чеченцев почти что не было; зима там время рабочее – перекопка садов и кукурузников, ремонт арыков, мостов, дорог, плотин на речках… Но все-таки далеко уходить на охоту офицерам было небезопасно: всегда могли наткнуться на охотников за ними самими. Сидят двое-трое за кустами карагача и поджидают урусов.
Но был там в полку знаменитый стрелок подпрапорщик Зенкевич, – ему командир полка, тоже поляк, Круковский, разрешал уходить куда знает: на него он надеялся, да и дичь, какую он приносил или привозил, все-таки разнообразила стол Чир-Юртского монастыря.
Монастырем прозвали офицеры Нижегородского полка свой Чир-Юрт, а полковника Круковского, мужчину с длиннейшими висячими усами, – настоятелем монастыря.
Я даже и стихи помню, – кто-то из офицеров сочинил, а мой отец их мне наизусть читал:
Слыхали ль вы, что есть пустырь,
Его Чир-Юртом именуют,
И в нем суровый монастырь
Нижегородский формируют?
В нем настоятель жизнью строг.
Как некий древних греков бог,
Меж келий он угрюмо бродит
И грусть на братию наводит.
Зато монахи-забияки
За крест готовы хоть на драки
Иль в карты день и ночь играть.
И сам Христос бы разобрать
Не мог, кто прав, кто виноватый
Средь этой братии усатой,
И часто выстрел иль кинжал
Спор меж святых отцов решал…
Кинжал тут, кажется, только для рифмы, а что касается дуэлей от нечего делать, от скуки, то их было тогда довольно. Помню, что эти стихи оканчивались тем, что автор предсказывал замену всего Чир-Юрта обширным кладбищем: перестрелялся, мол, весь монастырь на дуэлях. Свидетелем трех дуэлей в Нижегородском полку за одну зиму был и мой отец.
Но его товарищ прапорщик Муравин оказался записным театралом и даже привез с собою на Кавказ два-три номера журнала «Репертуар и Пантеон» – название теперь мало понятное, но в журнале этом печатались пьески, главным образом водевили с куплетами, а среди офицеров не все же были картежники и пьяницы и бретеры, – нашлись даже и такие, что сами стишки писали, а один даже Байрона переводил… Вот и возникла мысль – спектакль поставить! Все-таки развлечение для всего Чир-Юртского монастыря.
Я не сказал вам еще вот о какой прелести жизни для тех офицеров, которые не проводили ночей за попойками, за игрою в карты, что сопровождалось обыкновенно тоже и попойками и курением табаку из огромных трубок с длиннейшими черешневыми чубуками: мода тогда была именно на такие трубки. У моего отца сохранилась одна такая трубка с чубуком, – мне на нее даже смотреть было страшно… Так вот, – ночь на своей половине дома, купленной за двенадцать с полтиной. Сперва что-нибудь читается при лампе, потом тушится лампа, тут бы сладко заснуть, ан нет, нейдет сон, потому что в темноте начинаются какие-то странные звуки, точно шуршат обои, хотя какие уж там обои в хате-мазанке! Кто же и чем же шуршит? Это скрипят своими челюстями фаланги, которые выползли из всех щелей и начали свою ночную жизнь. Днем они прячутся, а ночью охотятся за сверчками. Если натыкаются при этом на скорпиона, то немедленно вступают с ним в бой и побеждают. Вы представляете, что такое фаланга?
– Кажется, большой паук, – неуверенно ответил Коля.
– Нет, не паук, а только паукообразное, у паука четыре пары ног, а у фаланги – пять, и если она рассержена, то делает большие прыжки, чтобы укусить. Укус ее для человека не смертелен, только чрезвычайно болезнен, но пока фаланга эта не жрала падали, а то при укусе может занести в рану трупный яд, – тогда конец. Вот лежи на своей походной койке и думай: укусит тебя этой ночью фаланга или нет, – жрала ли она падаль или только безобидных сверчков, – и черт ее знает вообще, к чему именно так невыносимо-угрожающе скрипят ее челюсти!..
Матийцев немного помолчал, понурясь, как будто фаланги, о которых он вспомнил, выросли в его глазах в настоящих чудовищ, качнул головою вбок от охватившей его гадливости и продолжал с горечью:
– Не говоря о молодежи, как мой отец и Муравин, – ведь в полку, по словам отца, были не бурбоны, а вполне образованные люди, говорившие на двух, даже на трех иностранных языках, много читавшие… Один поручик, по фамилии Ключарев, даже книжку своих стихов выпустил в свет, и о ней была рецензия в «Северной Пчеле», но вот – живите в пустыне дикари дикарями, подставляйте свои лбы под пули черкесов и сами убивайте их, сколько можете, жгите их аулы, рубите их вековые сады, так как они бунтуют и у них есть предводитель имам Шамиль, поднявший зеленое знамя пророка Магомета.
– Словом, была колониальная война, – объяснил Коля.
– Колониальная, да, – согласился с ним Матийцев, – причем очень «гадила англичанка», как тогда говорили. У черкесов, лезгинов и прочих сплошь были штуцера, с винтовым нарезом, дальнего боя, а у нас гладкостволки, с боем только на триста шагов. Откуда же у них штуцера эти, и пушки, и порох, и снаряды, – гранаты даже, а не только ядра? Англичане поставляли… Среди аулов были, конечно, мирные, – с ударением на «ы», – но до поры до времени: чуть только подходила партия самого Шамиля или его правой руки – Хаджи-Мурата, – мирные аулы восставали и скопища восставших доходили до пятнадцати, даже двадцати тысяч и двигались на наши укрепления, как пешая саранча, все там уничтожая. Кстати, саранча… Отец рассказывал, как однажды летела на Чир-Юрт саранча и как ее там встречали… Это тоже одно из развлечений тамошнего монастыря.
– Спектакль заезжей труппы, – подсказал Коля, впрочем не улыбнувшись.
– Вот именно, тоже спектакль, только для кого-нибудь третьего, а ведь у нижегородцев завелись уже свои огороды, на огородах цвели в то время огурцы и дыни, и вдруг среди ясного безоблачного дня видят все, – что такое? – затмение солнца! Внезапно, откуда только взялась, поднялась туча, и солнечный свет стал какой-то вечерний, жиденький, тусклый, а туча – изжелта-серая и движется быстро… Поднялись крики: «Саранча летит! Саранча!.. Трубачей сюда! Барабанщиков!.. В ружье!..»
Ну, словом, Шамиль не Шамиль, а набег вполне серьезный. Такая туча если сядет, от огородов не останется ничего, кроме места, где они зеленели.
Саранча все-таки пуглива, шума боится. Столько было криков, барабанного боя и трубного гласа, даже и пальбы, что наконец-то туча повернула в сторону: полк отстоял свои огороды. Но потом возник вопрос, чем же питалась эта туча, пока все не съела и не снялась. Нашли, что верст за пятнадцать вверх по течению Сулака весь молодой камыш съела! А камыш этот, он ведь тоже, во-первых, будущие крыши, а во-вторых, топливо зимой. В Петербурге же никто никакой саранчи никогда не видал, – там на этот счет благополучно… Холера в те времена, – конец сороковых годов прошлого века, – даже до Петербурга не доходила, а Нижегородскому полку в Чир-Юрте пришлось познакомиться и с этой азиатской прелестью.
Холеру принесли наши части из аула Гергебиль, который штурмовали по приказу главнокомандующего – князя Воронцова. Гергебиля этого тогда не взяли, – хорошо был защищен Шамилем, только зря потеряли там больше шестисот человек и вывезли оттуда холеру. Холера и пошла двигаться к северу от Гергебиля, хотя и не так быстро, как саранча, однако чувствительнее гораздо. Много появилось крестов на кладбищах. И пришлось самим же нижегородцам уничтожать свои огурцы и дыни, а также пить якобы помогавшие не заразиться холерой какие-то «воронежские капли», в которые входили: и спирт, и красный перец, и скипидар, и еще несколько подобных специй. Настоятель монастыря, полковник Круковский, проявил тогда, по словам отца, большую расторопность: навел везде чистоту и порядок, все дома, и заборы, и даже деревья приказал выбелить известкой, в лазарете установил сто лишних коек, – вообще приготовился к бою не хуже, чем с саранчой, и так или иначе, но в Чир-Юрте смертей от холеры оказалось гораздо меньше, чем в других укреплениях той же Сулакской линии. Так что благодаря своей культурности нижегородские драгуны и холере не очень-то поддались… Впрочем, я все говорю вам: драгуны, драгуны, а знаете ли вы, что это за драгуны такие и чем отличаются они от улан, например, или от гусар?
– Нет, скажу вам откровенно, для меня это – темна вода во облацех небесных, – признался Коля.
– Вот видите, как… Но раз говорится о драгунах, надо знать, что такое были эти драгуны… Отец мне это объяснял подробно, а я хорошо усвоил. Драгуны считались тяжелой кавалерией, а не легкой. Кавалерия вообще была любимым родом войск у Николая Первого, а драгунские полки он даже считал своим созданием. Кроме сабли и пики, он ввел в эти полки еще и ружья на ремнях за плечами, чтобы действовать ими в пешем строю. Известно вам должно быть, что Николай Первый был энтузиаст всяких строевых учений и смотров, и вот представьте вы себе такую картину. В Чугуев, где стояли драгунские полки, приезжает на смотр сам царь Николай Первый, и при нем десять тысяч всадников, сто эскадронов были пущены в атаку! Только земля загудела, да пыль поднялась! Но вот трубачи трубят! Стой! И вся эта страшная масса коней и людей уже стоит как вкопанная. Подъезжает царь, и не только после команды «смирно!» ни один человек не шелохнется, а даже и ни одна лошадь ни головой не тряхнет, не фыркнет. И во всеуслышанье произносит царь «исторические» слова: «Только я один во всем мире способен произвести такую атаку!»
– В этом видел, значит, все военное искусство? – искренне удивился Коля.
– Именно в этом, и только в этом. Даже полевые укрепления должна была при нем атаковать конница, – высший род войск!.. Недаром Бисмарк острил: «В России лучшими адмиралами считаются двое: великий князь Константин Николаевич, сын царя, и светлейший князь Меншиков, – потому лучшими адмиралами, что они лучшие кавалеристы, а никаким даже самым маленьким военным судном не командовал из них ни тот, ни другой…»
– Это здорово сказано! Не в бровь, а в глаз! – восхитился Коля, но Матийцев продолжал, глядя в сторону:
– Такая атака хороша на смотру, на маневрах. Солдатская песенка от тех времен осталась, – я ее тоже от отца слышал:
Пробили тревогу, –
Сулят крест златой;
Оторвало ногу,
Так ступай домой.
Что же делать надо,
Если дома нет?
Вот и вся награда
За двадцать пять лет!
– Правильно! Хорошо сказано! – одобрил песенку Коля и даже рукой взмахнул. – Повторите, пожалуйста, я хочу запомнить!
Матийцев повторил, но добавил:
– Впрочем, подлинно ли она солдатами сочинена, я не знаю: отец по крайней мере называл ее автором декабриста Александра Бестужева-Марлинского. Да, вот и декабристов порядочно служило в кавказских войсках, в пустынях Дагестана и Чечни, по различным Чир-Юртам. Ведь помимо всяких опасностей и лишений, тощища, – вы об этом подумайте! Совершенно непереносимая для культурных людей скука, которая толкала многих из них и на лютый картеж, и на запойное пьянство, и на дуэли.
Ведь оскотинивали всех, ведь из души каждого вырывалась прочь лучшая половина, ведь это все равно, что курица с вырезанными мозгами: она ходит и тычется клювом в землю, но уже не понимает, что она такое клюет и зачем клюет.
По словам отца, вся жизнь его там, в этом Чир-Юрте, встала перед ним как полнейшая бессмыслица. Ужас его охватывал при одной мысли, что, может быть, ему там придется прожить не год, не два, а пять-шесть лет! Ведь ссылка, а за что именно? Какое преступление он совершил?
– Как так какое? – оживленно подхватил Коля. – Политическое – вот какое! Признал над собою власть этого коронованного идиота Николая Палкина и надел пожалованные им эполеты!
– А как же было ему от них отказаться? Тогда уж не в ссылку, а прямо на каторгу.
Я забыл сказать, что домик, где поселился мой отец со своим товарищем Муравиным, был не в Нижней слободке, то есть на самом берегу Сулака, а в Верхней, которую, собственно говоря, и слободкой-то нельзя было тогда назвать: она только что зарождалась. Кроме их домишки, был еще только один такой же, да и то шагов за пятьдесят, от укрепления же почти за версту оба они были, так что командир полка счел даже опасным для своих новых офицеров там поселяться и запретил им это. Отец рассказывал довольно подробно, как он объяснялся с полковником Круковским, чтобы отстоять свою квартиру.
Круковский этот, Феликс Антонович, был немалый чудак. Ходил у себя дома в черкеске с газырями и в папахе, – черкес черкесом, но когда входил к нему офицер, то папаху снимал. Так и при появлении отца сделал: снял свою папаху, положил ее на письменный стол, прямо на чернильницу, и сказал:
– Ка-те-го-рич-но воспрещаю!
Но отец был уже предупрежден, что ему нужно так же категорично стоять на своем и можно добиться успеха. Отец и пустился в красноречие. Их, дескать, в доме целых пятеро, считая с денщиками, кроме того, есть собака, так что даст знать, – врасплох черкесы их застать не могут. А пять человек способны в укрытии сидя отстреляться и от двадцати. Наконец, раз подымется ночью стрельба там у них, то ведь из укрепления примчится к ним на помощь дежурная часть, как к форпосту, выдвинутому сознательно вперед… Поговорил этак с полчаса и смягчил полковника, урезонил, отстоял свою и Муравина самобытность… А дня через три на радостях отправился в воскресенье на охоту ближе к горам, верст за десять, с Муравиным и денщиком своим Тюриным, все трое на лошадях, и наткнулся на партию человек в двенадцать – пятнадцать. Под пулями лупили назад к Чир-Юрту во весь карьер, но уж, разумеется, об этом приключении не докладывали начальству.
Аулы кругом считались мирными, спрашивается, откуда же взялись немирные джигиты? Разведчики, конечно, были они Хаджи-Мурата или самого Шамиля.
У Круковского тоже был штатный разведчик – мирной черкес Бир-Магома. Все знал, что задумывал Шамиль, – знал даже, что ему на обед подавалось, но вопрос, разумеется, не служил ли он и нашим и вашим? Однако известно было всем в Чир-Юрте, что за голову его сам Шамиль назначил большую сумму.
За голову в самом буквальном смысле: обычай был у горцев отрубать головы русским солдатам и офицерам и класть в мешок, а мешок приторачивать к седлу. Следует заметить, что, по словам отца, обычай этот усвоили и наши казаки, а за ними и драгуны даже: мешков для голов у них хотя и не было, так зато платки были: отрубит голову черкесу, увяжет ее в платок, и болтается кровавый шар у него сзади седла, когда он после схватки в Чир-Юрт возвращается.
– Черт знает что! – поморщился Коля.
– Да, нужно сказать правду, что и Воронцову это не нравилось, но генералы из местных, из кавказцев, это одобряли даже. С волками, дескать, жить, по-волчьи и выть.
Тут Матийцев замолчал и молчал с минуту, пока Коля не напомнил ему:
– О спектакле вы хотели рассказать.
– Да, спектакль, – как бы очнулся Матийцев. – О нем можно бы и не рассказывать, если бы не одно обстоятельство, с ним именно и связанное… Если бы не этот спектакль, может быть, не случилось бы и того, что случилось. Вообще мы задним умом живем и причины отыскиваем после того, как нас стукнет.
Для спектакля выбрали водевиль в стихах из этого самого «Репертуара и Пантеона», но дам ведь не было в Чир-Юрте, – не зря его монастырем окрестили, – значит, женскую роль дали кому же еще, как не прапорщику Муравину, миловидному лицом.
Кроме этого водевиля, штабс-капитан Петров, переводчик Байрона, написал свой – тоже, конечно, в стихах, а поручик Ключарев бойкие злободневные куплеты.
И полковнику Круковскому затея эта понравилась, а то ведь только пьянство, картеж и дуэли, – но где же найти такое помещение, чтобы хотя двести человек зрителей в нем сидеть могли? Нужно сказать, что укрепление представляло собою правильный прямоугольник: с двух сторон – конюшни, с других двух сторон – казармы, а в середине огромная площадь и на ней дома для офицеров, лазарет, мастерские и особый дом – командира полка. Все постройки были и заняты и тесны. Но был начат обширный сарай, предназначенный под мастерские, так как мастерские приходилось расширять, – вот за это помещение и взялись всем полком и не больше как за месяц его и накрыли камышом и побелили внутри, а из Темир-Хан-Шуры, особым обозом под охраной полуэскадрона, привезли стульев и скамеек, холста и красок для декораций, даже парики там нашлись для Муравина, который в одном водевиле был брюнеткой, в другом блондинкой для пущей иллюзии. Нашлись художники среди офицеров, – деятельно принялись за декорации, но ведь и зрительный зал надо было как-нибудь украсить… Для этого уж воспользовались драгунскими штыками: их как-то располагали по сторонам сплошными кругами, а перед этими кругами из штыков укрепляли плошки с салом, освещение получилось хоть куда, а штыки блестели отчаянно. Назывались эти круги из штыков «перуанскими солнцами», а так как солнц этих была целая галактика, то если бы чеченцам или черкесам вздумалось в вечер спектакля напасть на Чир-Юрт, то штыкового боя они могли бы не опасаться: все штыки нижегородских драгун пошли на перуанские солнца.
Разумеется, спектакль был большим событием в скучнейшей жизни Чир-Юрта. Все человеческое, все привитое культурой проснулось в этих картежниках, кутилах и бретерах. Увлечение дошло до того, что для окончательного украшения театрального зала приглашены были две дамы, жены двух майоров полка, поселившиеся в Темир-Хан-Шуре, где, конечно, было гораздо безопаснее. Они приехали в экипажах, их конвоировали два взвода драгун, им воздавались в укреплении если не вполне божеские почести, то во всяком случае не меньшие, чем если бы спектакль посетил командующий всею сулакской линией старый генерал князь Аргутинский, не один раз сражавшийся с самим Шамилем.
Так вот, значит, две дамы все-таки появились на спектакле в Чир-Юрте и могли при сиянии перуанских солнц любоваться третьей дамой, она же прапорщик Муравин.
Водевили были, конечно, самого невинного свойства. Например, сочинение Петрова называлось «Старый служака». И все дело в нем было только в том, что старый отставной генерал приказал дочери влюбиться в сослуживца своего, плешивого полковника, а она, дерзкая, допустила ослушание и влюбилась в кудрявого поручика.
Ну что? Еще ты не решилась?
А сколько раз я говорил,
Чтоб ты в Палашкина влюбилась, –
Так нет! – «Палашкин мне не мил!»
А разве ты того не знаешь,
Что ослушанием своим
Порядок службы нарушаешь?
Так сам автор штабс-капитан Петров, который играл генерала, наступал на свою дочь, прапорщика Муравина, – блондинку. При этом вспоминал свою покойную жену, мать невесты; тоже однажды затеяла ослушание и даже
Разбила зеркало без такту,
Чтоб насолить мне, старику,
Но я ее на гауптвахту
Послал с дежурным по полку.
Дочь – Муравин – вела себя, конечно, храбро, как и подобает прапорщику, и гауптвахты не испугалась.
Куплеты, разумеется, тоже были на военные темы, притом злободневные:
Бывает также в Дагестане
Ночлег тревожный иногда.
Покамест смирно в нашем стане,
Покойной ночи, господа!
Пускай Хаджи-Мурат тревожит
Наш лагерь, – это не беда,
Он нам вредить никак не может, –
Покойной ночи, господа!
Если принять во внимание, что ни греки, ни римляне, ни позднее их генуэзцы никогда не бывали в Дагестане, то надо признать, что с тех пор, как здесь поселились люди, это был первый спектакль в Шамхальской долине. И такой это радостный день оказался для всех, и так хохотали все, так кричали то «браво», то «бис», что три дня подряд, чуть наступал вечер, начинался опять тот же спектакль!.. Да, как хотите, а конечно, это было событием в скучнейшей чир-юртской жизни…
– А у вас, оказывается, большая память на стихи, – сказал Коля.
– Да-а… Это у меня от отца в наследство, – проговорил Матийцев так, как будто осуждал себя за эту память. – Сам-то он не писал никогда стихов, но любил их и запоминал без всяких усилий… Больше уж я не буду приводить стихов, – вижу, что вам это не нравится.
– Нет, отчего же не нравится, – сконфузился Коля. – Я просто так сказал, потому что удивился.
– Деловые люди вообще не любят стихов, – это я давно уже заметил, а вы – деловой, несмотря на свой юный возраст… Так вот, на третий уже спектакль были допущены в театральный зал обитатели Нижней слободки, то есть не только вахмистры и унтер-офицеры, но и жены их, – веселье, так уж и им тоже!.. Прифрантились и появились… Не сидят хотя, стоят в проходе, но какая же у всех этих женщин радость на лицах!.. Ведь они все совершенно безграмотны, никаких стихов никогда не слыхали, а тут говорят так складно, так все наряжено, что никого из офицеров-артистов и узнать нельзя, – это ли не радость!.. Вот тут-то между другими унтер-офицерскими женами и увидел мой отец восемнадцатилетнюю Полю… По его словам, настоящую русскую красавицу.
О таких именно будто бы и Некрасов сказал: посмотрит, – рублем подарит, а пройдет, – точно солнцем осветит… Молодость, конечно, и притом монастырь… Но я охотно верил отцу, что эта Поля точно была красавица. Только непонятно мне было, как же он не видал ее до этого, – да и другие тоже. Но оказалось, во-первых, что муж ее всячески прятал, был ревнив и обращался с нею строго, не хуже «старого служаки» из водевиля, а во-вторых, и сама она была чрезвычайно скромна, да ведь молода же еще очень. А тут, со спектаклем этим – первым в Шамхальской долине – оба они допустили большую оплошность: не один мой отец обратил на Полю внимание, и сейчас же пошли расспросы: кто такая? Откуда взялась? А Поля эта и действительно появилась в Чир-Юрте не так давно, а до того жила у родителей в укреплении Внезапном, где и родила сынишку Васю. Перешла же на жительство в Чир-Юрт только тогда, когда муж ее построил в Нижней слободке домик. Конечно, как позже других построенный, был он самым крайним в порядке. Около него унтер, муж Поли, человек хозяйственный, завел огород, посадил сирень, – все честь честью. А Поля привезла с собой занавески и повесила на окна. Так и зажили на новом месте.
Однако спектакль внес очень большое беспокойство в жизнь Поли, а главное ее мужа: по улице слободки каждый день стали прогуливаться двое молодых прапорщиков: мой отец и Муравин, а Поля в это время стояла у себя за занавеской и глядела во все глаза не столько на моего отца, – он был не из красавцев, – как на его товарища, которого она видела на сцене и в роли блондинки и в роли брюнетки. Тут, как говорится, сердце сердцу весть подавало. Бывало, не вытерпит она и занавеску отдернет: вот, мол, я вся тут, как есть, можете на меня любоваться, а я на офицера-красавчика.
Сухой роман этот тянулся недолго, не больше недели, но привел он к результатам чрезвычайно печальным. Прежде всего, поссорился мой отец из-за этой Поли со своим однокашником, разумеется, ревность заела. Зачем, мол, ты ей куры строишь, когда у тебя серьезных намерений нет, а я, если только мужа ее убьют, например, в стычке с черкесами, непременно тут же на ней женюсь… Я-де в нее влюблен совершенно без памяти, и никакой другой жены мне не надо!.. Что делать: не зря, должно быть, мой отец стихи любил, – видно, натура у него, особенно в молодости, была поэтическая, пылкая. Однако и Муравин был тех же лет и тоже пылок… Словом, поссорились крупно. А раз ссора, значит, взаимные оскорбления; а раз взаимные оскорбления в военной среде в те времена, значит, они должны быть смыты только кровью, – значит, вот-вот дуэль.
Вызовом на дуэль тогда никого удивить было нельзя, но Воронцов, очень не любивший офицерских дуэлей, ввел в закон, чтобы секундантов искали не в своем полку, а в каком-нибудь другом. Стало быть, надобно было ехать в другое укрепление, а для этого получить отпуск у командира полка. Между тем, разумеется, командиры полков получили приказ отпусков по таким предлогам ни в каком случае не давать. Конечно, законы пишутся для того, чтобы их обходили; обходили и тут, то есть обходились без отпусков или в другие полки за секундантами не обращались.
Но если у моего отца не дошло все-таки до дуэли с Муравиным, то только потому, что случилось нечто совершенно непредвиденное и неожиданное: вдруг примчался кто-то на взмыленной лошади и полковой командир получил приказ выступать с полком на выручку аула Ахты, в котором был осажден Шамилем наш гарнизон! Ведь телеграфа тогда не было…
– И телефона тоже, – вставил Коля.
– Поэтому единственным средством самой быстрой передачи военного приказа служил все тот же доисторический конь. С опасностью для собственной жизни прискакал казак, но мог и не доскакать, – могли перехватить его черкесы; ведь такие мелкие партии, как та, на какую наткнулся мой отец с Муравиным, рыскали везде. Но раз повезло казаку-гонцу, значит, повезло осажденному в Ахты русскому гарнизону. На выручку его шел сам Аргутинский.
Только несколькими днями позже узнали нижегородцы, что положение гарнизона было более чем тяжелое. Уже в первый день осады был ранен начальник гарнизона подполковник Рот, и рана была очень опасная – в шею, а к нему всего за неделю перед появлением около Ахты скопищ Шамиля приехала дочь, семнадцатилетняя, только что окончившая институт. Приехала, и вот рыдает, стоя на коленях перед еле перевязанным отцом, около которого лужа крови, а в окошко она видит, как горят дома аула, подожженные гранатами, и как подпрыгивают ядра, и вот-вот или ядро прошибет крышу над нею, или ворвутся в двери горцы, потому что уже начался штурм, и до нее доносятся крики… А отец говорит ей на ухо, так как громко говорить не может: «Как только станут выламывать двери, я застрелюсь, а потом ты возьми мой пистолет, приставь его к виску и нажми курок!..» Вот какая была картина!.. Команду принял старший после Рота офицер – капитан Новоселов, а ведь гарнизон-то был ничтожный сравнительно с отрядом Шамиля, – значит, одна надежда была на укрепления, на артиллерию, на количество снарядов. Но раз Шамиль задался целью взять Ахты, стало быть, у него тоже была сильная артиллерия (английская) и достаточно снарядов к ней. Артиллеристами же у него были сплошь да рядом беглые русские солдаты.
– Разве были такие? – усомнился Коля.
– В том-то и дело, что были… Бежали, конечно, чтобы избежать наказания «сквозь строй»: ведь тогда палками насмерть забивали, – собачья смерть!
– Действительно, собачья смерть! – пылко подхватил Коля. – Палками били! Людей! А? Ведь это что! – Он сжал кулаки, и глаза его горели.
– Но ведь этого уж давно нет, – примирительно сказал Матийцев.
– Еще бы это и теперь было, – в двадцатом веке! Пусть этого нет, зато есть ссылка, каторга, этапы, централы, шлиссельбуржские крепости… Двадцать лет держали в Шлиссельбурге Николая Морозова! Это что!
– Вы – боевой, это я вижу… – улыбнувшись, заметил Матийцев, но Коля спросил вдруг резко:
– Вы говорите, что ваш отец был в молодости офицер – значит, он был сын помещика?
– Нет, не помещика… Он попал в корпус потому, что его отец, – мой дед, – был военным врачом!
– Военным врачом?.. – Коля поглядел на него удивленно и добавил: – Совпадение получилось! Значит, вы – внук военного врача, а я сын… – И строгое лицо его слегка покраснело и стало приветливее, чем было раньше, открытее, когда он добавил: – Да вот врачи, хотя бы и военные, учителя, хотя и далеко не все, адвокаты и журналисты, хотя тоже, конечно, далеко не все, – вот актив интеллигентных сил. А инженеры – это отсталый участок. Вот почему и…
Коля, не договорив, умолк, но Матийцев его понял: ведь он был инженер, но, по мнению Коли, являлся исключением из общего правила, – и продолжал:
– Капитан Новоселов оказался на своем месте, штурмы мюридов Шамиля повторялись ежедневно, и Новоселов действовал так энергично, что гарнизон блестяще отбивал эти штурмы. Однако он таял, а помощи ниоткуда не видел. Подполковник Рот не умирал, и дочь была при нем хоть и не особенно умелой, зато любящей и старательной сестрой милосердия. А пистолет так и лежал на табуретке, около койки раненого. Койка же эта, между прочим, была складная, на шарнирах, как у всех тогда на Кавказе офицеров: просто на два параллельных бруса была прибита мелкими гвоздиками парусина, а брусья эти продевались спереди и сзади в раздвижные стойки. Чуть куда надо переезжать, койка складывалась и грузилась на вьючную лошадь вместе с чемоданами: на одной лошади весь домашний обиход. Но в такую экспедицию, как под аул Ахты против Шамиля, нижегородцы коек своих не брали и спать им приходилось на голой земле.
Аргутинский, конечно, спешил на выручку ахтинцев и, только дождавшись нижегородцев, с тем, что было под руками, двинулся форсированным маршем.
– А далеко этот Ахты был от Чир-Юрта? – спросил Коля.
– Я не помню точно, насколько далеко, – подумав немного, ответил Матийцев, – но гораздо южнее, ближе к Закавказью, на реке Самур, которая тоже, как и Сулак, впадает в Каспий… Может быть, верст триста это от Чир-Юрта… Помнится, отец описывал этот поход, как долгий, очень утомительный. Ведь не по степи, а по горам, по горным тропинкам, в холодное время, с горными пушками, которые все норовили сорваться в пропасти, без горячей пищи, которую просто некогда было готовить, – ведь спешили на выручку батальона Самурского полка… Полк этот – пехотный, получил название по округу; округ, где находилось Ахтинское укрепление, назывался Самурским. И уж лет десять он считался вполне мирным, но туда кинулся со всеми своими силами Шамиль, чтобы пробиться в Закавказье. Сил же у него было до пятнадцати тысяч, и прежде чем напасть на Ахты, он уничтожил небольшое укрепление Тифлисское. Отец говорил, что вид этого укрепления был ужасный, когда они до него добрались: весь двор был завален страшно изувеченными телами наших солдат, а все строения сожжены и стояли черные от копоти. Помочь этим несчастным могли только самурцы из Ахты, но в то время как Шамиль расправлялся с Тифлисским, Хаджи-Мурат появился перед Ахтинским и открыл пушечную пальбу по первому бастиону… Ахтинцы к защите и своего-то укрепления не подготовились как следует, иначе в первый же день не был бы ранен начальник гарнизона Рот… Кстати, я сказал вам, что в шею, а теперь ясно вспомнил, что не в шею, а несколько ниже шеи, – в грудь, так что пуля застряла в груди… И сколько же могло быть у Рота всего-то этого гарнизона? Человек четыреста, а против укрепления скопилось несколько полков… Силы не только не равные, но даже и непостижимо для нас, штатских людей, как они держались целых шесть дней, пока подошел отряд Аргутинского… Да ведь и сам Аргутинский, разве мог он собрать такие большие по тому времени войска, как у Шамиля? Пеших и конных у него было не больше двух тысяч. Однако, когда он добрался, наконец, через горы до реки Самура и уж видно стало всем и злополучное Ахтинское и огромный лагерь Шамиля, оказалось, что перейти на тот берег было нельзя: Самур в этом месте имел большую глубину и был широк, а мост Шамиль сжег, как только узнал, что идут русские. Ведь он тоже не лишен был военных талантов.
До брода через Самур, где могла перейти пехота (вода ей там приходилась по грудь), было верст сорок, а тут еще начался дождь при холодном ветре… Верных два дня еще, пока сможет отряд добраться до аула по другому берегу, а за эти два дня Шамиль, конечно, во что бы то ни стало постарается его взять, а потом беспрепятственно уйдет на юг… И вот-то была радость в отряде, когда, двигаясь уже к Ахты, узнали, что укрепление еще держится! Тут, говорил отец, пехотинцы даже перешли сами с форсированного марша на бег: лишь бы поспеть!.. Пехота тут и отличилась: Ширванский полк пошел в штыки и опрокинул всех шамилевых мюридов. Потери, правда, понес большие, но осаду Шамиль не только снял, а даже двинулся прочь от Ахты. Силы, конечно, у Аргутинского были слишком малые, чтобы преследовать его, только нижегородцы врубились в хвост его и что-то такое там наделали, причинили какой-то урон, но, в общем, у Шамиля-то все войско было конное и лошади свежие, а не с похода по горам, так что он ушел, и остатки ахтинского гарнизона были спасены. Так что и отец мой и его товарищ Муравин в первый раз участвовали в деле и в деле хорошем, хотя и натерпелись, конечно, но в их возрасте эти труды походной жизни переносятся довольно легко… А вот страшные картины, тела замученных, развалины в копоти и крови – это уж из памяти не могли вытравить и десятки после прожитых лет.
Между прочим, полковник Рот впоследствии поправился от своей раны, а его дочь, которая должна была застрелиться, вышла потом замуж за одного из молодых офицеров того же ахтинского гарнизона.
Кстати сказать, не весь Нижегородский полк участвовал в этом походе, а только эскадронов пять или шесть из десяти. Чир-Юрта тоже ведь нельзя было бросать на произвол горцев: сегодня мирные, они завтра могли стать свирепыми врагами, и в Чир-Юрте могла бы повториться история с Ахтинским укреплением, около которого при одном приближении Шамиля восстали все аулы, так что, когда Шамиль с Хаджи-Муратом ушли, пришлось Артутинскому пробыть в Самурском округе недели две, – судить и рядить, и только после этого эскадроны нижегородцев смогли возвратиться к себе в Чир-Юрт.
Конечно, первые дни по возвращении были заняты попойками, встречей героев, но вот эти дни прошли, и снова началась прежняя скучища. Тогда-то в домишке Верхней слободки и вспомнили о домишке Нижней слободки, где жила Поля, и допоходное возобновилось… Тут, конечно, и семнадцатилетняя мадмуазель Рот стояла еще в воображении обоих: как хотите, – овеяна ведь была она этакой поэтической дымкой. Известно им там в Ахты стало, что Шамиль уже обрек ее в полную собственность тому мюриду, который первым ворвется в штаб гарнизона. Ведь самого Шамиля с кучкой его наибов-стариков в чалмах видели из окошек штаба: сидел под своим малиновым знаменем на бруствере взятого штурмом бастиона. Отлично и он знал все, что делается в гарнизоне, и кто там убит, кто ранен из офицеров и сколько солдат осталось, способных еще отражать штурмы. Каждый день он посылал предложение сдаться, а в сущности, конечно, разузнать, скоро ли придут к концу снаряды и патроны.
Дело в том, что в первый же день Шамиль постарался взорвать гранатами пороховой погреб, и, разумеется, взрыв этот должен был не только наделать много разрушений в ауле, но еще и обезоружить гарнизон. Однако снаряды и патроны хранились в другом месте, а в каком именно, это надо же было выведать его парламентерам. Не узнали про это, узнали про дочку Рота. Шамиль и девицей этой сумел зажечь сердца. А в ауле-то уж само собою сердца пылали. Отблеск этого пламени унесли с собою и в Чир-Юрт два юных офицера-нижегородца, и в Чир-Юрте был у них свой пламень неугасимый… Так и получилось, что взялись там за прежнее… Притом же погода настала великолепная, ни малейшего ветра и никакой пыли, и цветы в степи зацвели… Поэзия!
Между прочим, поэт Лермонтов, ведь он не в какой другой полк был переведен из лейб-гусаров на Кавказ, как именно в Нижегородский…
– В Нижегородский? – удивился Коля. – Я не знал… Это за стихи «На смерть Пушкина»? Я знаю только, что на Кавказ.
– Да, за стихи «На смерть Пушкина» и именно в этот самый Нижегородский драгунский полк. Конечно, там все-таки осталась о нем кое у кого память, а мой отец, как я уже говорил, был любитель стихов… Да ведь и в «Герое нашего времени» тоже такие женские образы, как Бэла, княжна Мэри… Ну, а тут, в Чир-Юрте, нечто среднее между полной дикаркой Бэлой, не умеющей говорить по-русски, и княжной Мэри, – своя русская деревенская красавица Поля.
– А муж ее? – живо спросил Коля. – Он вернулся тоже?
– В том-то и дело, что вернулся живой и невредимый и даже за что-то там Георгия получил… А был он, по описанию отца, мужчина видный, в рыжих усах и бакенбардах котлетками, как тогда полагалось по форме, силу большую имел, и лет уж ему было под сорок… С подчиненными ему драгунами обращался круто, но зато его взвод лучший был в эскадроне… Да и сам Круковский его знал и ценил.
– А фамилия его была какая?
– Фамилия?.. – Несколько удивясь такому вопросу, Матийцев помедлил с ответом, припоминая, потом быстро сказал: – Зубков. Как видите, самая простая, но сам-то носитель этой фамилии оказался далеко не прост, как это скоро вы увидите.
Ведь раз он был старший унтер-офицер, то, значит, был и грамотный и вполне толковый. Кто, в сущности, вел в те времена обучение солдат? Не младшие офицеры в эскадроне, как мой отец, а вот именно такие старослужащие с тремя басонами на погонах под руководством, конечно, вахмистра и самого эскадронного командира. А младшие офицеры существовали для больших оказий, – для смотров и парадов, – разумеется, и для походов тоже, чтобы поскорее выслужиться, чины и ордена получить. А вне походов, парадов и смотров времени у них было сколько угодно, и скука поэтому их поедом ела!
– Натурам творческим скука неизвестна, – вдруг неожиданно для Матийцева сказал Коля. – Скучать могут только люди малоодаренные.
– Откуда это у вас такие сведения? – спросил изумленно Матийцев. – Вы так еще совсем мало жили…
– Зато я наблюдал людей много! – откачнув голову, почти выкрикнул Коля. – Вы думаете, я на Кавказе не был? Был, только, конечно, не в каком-то Чир-Юрте, а в Баку.
Сказав это, он тут же оглянулся вправо-влево и, уже сильно понизив голос, проговорил:
– Ну, что же все-таки дальше случилось?
– Что случилось? Да, вот именно, «случилось», а не произошло, не вышло, как говорят, имея в виду человеческую волю, человеческие стремления к чему-нибудь, – стремления и усилия. К тому, что случилось, я и подошел, наконец, вплотную.
Коля уловил даже какую-то торжественность в самом голосе Матийцева. Он поэтому даже приоткрыл несколько рот и поднял слегка брови.
– Началось, конечно, хождение двух прапорщиков снова по Нижней слободке; на хождение это обратил внимание муж Поли. По словам отца, Тюрин, его денщик, посылался им собрать в Нижней слободке кое-какие сведения, – ну, словом, вроде разведчика, а какие именно сведения, я уж не помню. Однако сведения, какие он принес, были такого рода. Зубков кричал на жену, чтобы она ни на улице не показывалась днем, ни в окно даже сквозь занавеску не смела глядеть, когда двух офицеров увидит, а чтобы от них пряталась, а иначе… «Я, кричал, против своих офицеров ничего не могу, как я считаюсь им подчиненный, а что касается тебя, убью, как кошку, так это и знай!..» Так что дело дошло уж вон до чего и, кажется, оставить бы им, двум прапорщикам, свои домогательства, и отец говорил, что на него слова Тюрина подействовали, а Муравин был ими возмущен, – дескать, не мог Зубков этого говорить, а Тюрин сам это выдумал.
Даже если бы и сам, то нужно признаться, что выдумал умно, во всяком случае освежающе, и надобно было действительно освежиться и всякие домогательства бросить. Но Муравин чувствовал, конечно, что Поле он нравится, и в тот самый день, когда делал им доклад Тюрин, узнал, что Зубков идет в караул по укреплению, значит, дома ночевать не будет, и решил действовать в одиночку и энергично… Вот до какого затмения мозгов можно было там дойти от скуки, единственно только от скуки!
Словом, в этот день, после развода караулов, Муравин пошел прогуливаться по Нижней слободке уже один и часов в семь вечера вернулся по виду довольный, однако отец мой, как он сам мне говорил, ни о чем его не расспрашивал, так как его тогда захлестнула ревность. Тюрин, денщик, явился вскоре после него, а ушел минут через пять после своего барина (он был из того эскадрона, в котором служил Муравин, и Зубков был из того же эскадрона). Отец полагал, что Тюрин в чем-то тут помогал, в этой муравинской экспедиции, – может быть, например, выманил эту Полю в огород из дома, где сирень стояла погуще, – это только его догадка, он об этом не расспрашивал, считал для себя унизительным… Словом, вернулись оба, когда уже стало темнеть, а не больше как через час, когда уж как следует стемнело, раздались страшные женские вопли, и доносились они как раз из Нижней слободки.
Темнота и женские вопли, – для всех в укреплении стало ясно, что напали черкесы. Тут же поскакала туда дежурная часть (каждый день тот или иной эскадрон назначался на дежурство именно на случай нападения черкесов: он должен был быть наготове и скакать по первому сигналу). Но так как неизвестно ведь было, сколько именно черкесов напало на Чир-Юрт, то все укрепление взбулгачилось, и можно себе представить, что тогда делалось в темноте! Конечно, и мой отец и Муравин поскакали туда же, как только Тюрин оседлал их лошадей. Скакать-то было недалеко, конечно, но когда доскакали, – там уже факелы горели, какие захватил с собой дежурный эскадрон, и… черкесов никаких не было, а была только одна несчастная Поля, которая рыдала и повторяла всего одно слово: «Зверь! Зверь!»
Где зверь, какой зверь, никто ничего понять у нее не мог.
Мочили ей голову холодной водой, успокаивали как могли и умели и вот что узнали наконец. Вышла она со своим ребенком посидеть на скамеечке около домика на улице, ребенок же все плакал (не хотел спать), она его укачивала на колене, мурлыкала ему песенку, – задремал он, но тут же вслед за ним задремала и она сама. Сколько времени дремала так, не знает, только, не открывая глаз, чувствует, что ребенка кто-то берет у нее из рук. Она подумала, что это пришел муж, и пробормотала в полусне: «Не тронь, я только его укачала, а ты…» – и открыла глаза. Ребенка не было, и мужа около нее не было, но она сквозь темноту почему-то успела заметить два острых уха невысоко над землей, и тут же как будто слабенький такой голосок ее ребенка донесся, а потом ничего уже больше не видала и начала кричать одно это: «Зверь! Зверь!»
Зверь, значит, подкрался к спящей и зубами, – чем же еще, – выхватил из рук сонной матери сонного ребенка. Как же он мог схватить его? За шею, конечно, – шейка у ребенка тоненькая. И какой же именно зверь мог рискнуть забраться в укрепление, чуть только стемнело? И почему не лаяли собаки? Разве могли они не почуять какого-то зверя? Все это было совершенно непонятно. Но если даже и был это какой-нибудь барс, что ли, – все так и решили, что, может быть, барс, – то где же и как искать его ночью, тем более что ребенка спасти было уж нельзя… Один старый солдат усомнился даже, действительно ли зверь какой-то заскочил в крепость, – не сама ли, мол, задушила ребенка и где-нибудь закопала, а на зверя только сваливает.
Это услышал мой отец и сразу, как он говорил мне, воспылал такой ненавистью к этому солдату, что готов был его ударить. Такого горя, какое было у Поли, подделать было бы нельзя никакой актрисе.
Мужа ее сменить было нельзя, – караул есть караул, – отдали ее на попечение соседок, отозвали дежурный эскадрон и стали дожидаться утра, когда только один Зенкевич, как охотник, по следам мог догадаться, что за зверь такой в восемь часов вечера совершенно безбоязненно зашел в укрепление, – хотя бы только и в солдатскую слободку, – и унес из рук матери грудного младенца.
Мой отец не уходил домой из слободки, его охватил ужас… Дело в том, что чем больше он думал, тем больше терялся в догадках о звере, тем больше начинала казаться ему вероятной догадка драгуна, которого он так возненавидел.
Вместе с несколькими другими, между прочим и Муравин тоже был в этой группе, он довольно далеко отъехал от укрепления в степь. Все рисковали наткнуться на засаду, но все были страшно возбуждены тем, что вот какой-то зверь осмелился на чудовищный поступок… и если бы целая стая таких зверей попалась им тогда ночью, кинулись бы на них шашки наголо. Ни зверей, ни людей не встретили, объехали все укрепление кругом, вернулись снова в слободку, справились, заснула ли Поля, но увы, узнали, что Поля стала уже совсем «не в себе», как говорили солдатки: она помешалась!.. Горела, как волчий глазок, восковая свечка, стояли и сидели солдатки, а на Полю, метавшуюся на кровати и все время кричавшую: «Зверь! Зверь!» – жутко было глядеть.
Мучительная была это ночь для моего отца. А утром отправилась кавалькада искать зверя. И что же? Нашли ведь, и не так далеко, место, где действительно какой-то зверь лежал и жрал младенца Поли…
– Очень печально! – искренне сказал Коля и добавил: – Ваш отец, значит, окончательно убедился, что это был зверь?
– Да, убедился… Но никто, даже самый главный охотник и замечательный стрелок Зенкевич, хотя и долго разглядывал следы, не определил все-таки, что это за зверь.
– «То был пустыни вечный гость – могучий барс», – мрачно продекламировал Коля.
– Так все и подумали, только Зенкевич отрицательно мотал головой и говорил:
– Як бога кохам, нет, господа, то не барс, як бога кохам!
Однако, когда спрашивали, – кто же все-таки, если не барс, – разводил руками и говорил: «Не вем!..» В этом исключительном, из ряда вон выходящем случае он, отлично говоривший по-русски, заговорил на родном языке.
Он был земляк Круковского и пользовался большим доверием отца-командира. Однажды как-то даже в Темир-Хан-Шуру по каким-то личным делам поехал Круковский сам-друг с Зенкевичем, до того в него верил. Но по дороге пришлось ему заночевать в безлюдном месте. А заночевать значит все-таки подкрепиться сном. Завернулся Круковский в бурку, лег на землю и говорит Зенкевичу: «Смотри же, через четыре часа меня разбуди. Я тогда буду на часах, а ты до утра спи тоже четыре часа», – ну, а Зенкевичу, разумеется, жаль было будить своего командира, и тот проснулся уже сам, проспал не четыре, а шесть часов. Проснулся и тут же стал на охрану сна Зенкевича, а ругать его начал уж после, когда поехали дальше к Шуре. Но история этим не кончилась. Как только вернулись в Чир-Юрт, тут же в приказе по полку объявлен был Зенкевичу семидневный арест за ослушание командира полка. Так и отсидел тот неделю: дан тебе приказ, значит выполняй, а не делай по-своему, не умничай! Однако дан был теперь ему тем же Круковским приказ во что бы ни стало найти проклятого этого зверя, и все уже вернулись в укрепление, а он остался один и рыскал целый день, но ведь почва-то сухая, каменистая, – следы затерялись, – значит, зверь куда-то далеко ушел. Ничего в этот день у Зенкевича не вышло.
Можете себе представить состояние Зубкова, когда он вернулся с караула домой: и жена помешалась, и сынишку съел зверь. Конечно, Круковский дал ему отпуск, чтобы отвезти Полю во Внезапную к ее родителям, и даже конвой ему дал. А оттуда потом ее отправили в Ставрополь в лечебницу для душевнобольных.
Но вот что случилось, тоже необъяснимое, на другой день после того, как отправили Полю к родным. Тюрин лежал в сумерки на окне, выставив наружу голову, вечером, когда уже совсем смерклось, и задремал. Ни моего отца тогда не было дома, ни Муравина. Он был на своей половине дома один и мог располагать собою, как ему было угодно. Угодно было разлечься на окне и голову для освежения выставить наружу, так и сделал. А я уж говорил вам, что дом-то стоял совсем на отшибе. Задремал Тюрин и вдруг очнулся от сильной боли и закричал в голос, и, точь-в-точь как и Поля, видел, что метнулось в темноту что-то остроухое и большое, по его словам, побольше волка, а главное, – уши острые, – значит, не барс, – у барса уши круглые. Зверь этот сорвал с него скальп – содрал кожу с половины головы, но выпустил ее из зубов, когда закричал Тюрин, так что он кожи с волосами не потерял, и в лазарете ему сделали шов. Случай этот совершенно взбесил Круковского. Он к Зенкевичу:
– Что это за зверь такой, скажешь ты мне или нет?
– Непонятный какой-то, – отвечает Зенкевич.
– Ну, непонятный так непонятный, а чтобы ты мне его шкуру принес, – пятьдесят рублей за нее получишь.
Деньги по тем временам большие. Идет Зенкевич в полковую кузницу, и там ему смастерили капкан. Добыл он мяса и перед вечером поставил капкан в тех местах, где косточки младенца Васи валялись. Утром идет к тому капкану и видит – зверь попался, потому попался, что капкана на месте, где его поставили, не было, значит, он его с собою унес, – вот какой сильный зверь!
– Барс? – не выдержал, чтобы не спросить, Коля.
– Нет, не барс… Версты полторы шел по его следу Зенкевич с кинжалом наготове, наконец нашел: лежит в кустах. А когда подошел поближе Зенкевич, зверь поднялся на дыбы и удивил собою старого охотника: такого зверя он никогда не видел, – серый с черными большими пятнами и с гривой вдоль спины.
– Пятнистая гиена! – вскрикнул Коля. – Разве она водится в Дагестане?
– В том-то и дело, что не только теперь не водится, но и тогда не водилась. И в Грузии не водилась, и южнее Дербента, если брать побережье Каспийского моря, не водилась, – это мне говорил отец; он наводил тогда справки… Спрашивается: откуда же она пришла, эта пятнистая гиена? Из пустынь Персии, из Аравии? Из Северной Африки, наконец? Каким образом она, – или точнее он, так как был это самец, причем экземпляр огромный, – каким образом очутился этот проклятый непонятный зверь около Чир-Юрта? Почему ему нужно было непременно забраться в Нижнюю слободку, выхватить из рук усталой сонной молодой женщины ребенка и его сожрать, а потом оскальпировать не кого-нибудь, а непременно Тюрина, денщика прапорщика Муравина, – Тюрина, который помог свиданию Муравина с Полею?.. Вот эти вопросы и нахлынули на моего отца, тогда двадцатилетнего юнца еще, и его ошеломили… Стукнули в голову!
– А Зенкевич все-таки убил гиену? – нетерпеливо спросил Коля.
– Он от нее отскочил, конечно, так как она оказалась, когда стала на дыбы, выше его ростом, а он был сам достаточно высок. Он выстрелил ей в голову из штуцера и потом уж дорезал ее кинжалом. Шкуру еле доволок, все время ругал себя, что пошел один…
Так что Круковский получил шкуру пятнистой гиены, а в скором времени его произвели в генералы, назначили наказным атаманом, и он уехал на своем белом коне и увез шкуру непонятного зверя.
И постепенно, разумеется, у всех в Чир-Юрте изгладилось впечатление от набега гиены, только не у моего отца, – этот эпизод его здорово стукнул!
– То есть в каком именно смысле стукнул? – спросил Коля. – В смысле непонятности?
– В том смысле, – выбирая слова, заговорил не сразу Матийцев, – что он, ведь юноша еще, сразу решил круто повернуть руль своей жизни. Разумеется, он и по самой натуре своей не был приспособлен к профессии драгунского офицера, хотя и учился в кадетском корпусе и постиг всякие там артикулы и правила верховой езды и рубки на скаку шашкой соломенных чучел. Ему претила вся эта чертовщина, конечно, да и жизнь в каком-то диком Чир-Юрте, с вечными попойками, картежом, куреньем жукова табаку из каких-то исполинских трубок, – полное забвение о человеке в себе самом и память только о двуногом звере… Так он и представлял себе самого даже: двуногий зверь… Двуногий зверь среди двуногих зверей, дрессированных для убийства себе подобных… Ведь он любил стихи, любил Лермонтова, через посредство лермонтовских стихов издали полюбил Кавказ, стремился в этот опоэтизированный юношей-поэтом край и что же нашел в нем? Дикую крепостцу в дикой пустыне, оледенелые горные перевалы по пути в аул Ахты, речки и реки с ледяной водою, на которых не было мостов, развалины маленького укрепленьица Тифлисское, забитого сплошь трупами русских солдат, зарезанных кинжалами мюридов, несчастный гарнизон аула Ахты, в котором из трехсот человек не было почти ни одного нераненного во время бешеных штурмов шамилевской орды. И вот вдруг к двуногим зверям нежданно-негаданно ворвался даже и не глубокой ночью, а чуть стемнело, четвероногий, притом зверь уже настоящий, непонятный не только тогда, когда сожрал ребенка, но и тогда даже, когда сам был убит!
– Да ведь гиена же, – как же так непонятный, – попробовал было возразить Коля, но с большой убежденностью в голосе подтвердил Матийцев:
– Непонятный!.. Непонятно было прежде всего то, как этот зверь очутился не только в Чир-Юрте, но даже и в Дагестане и вообще на Кавказе, раз его родина – Северная Африка… Тогда не было еще Суэцкого канала, и эта пятнистая гиена могла через Суэцкий перешеек пробраться в Малую Азию, а оттуда через Грузию в Дагестан, но вопрос, зачем же именно этому совершенно одинокому зверю понадобилось совершать такие путешествия. Что это из Ливингстон на четырех лапах?
– А может быть, это была просто гиена, убежавшая из зверинца? – высказал догадку Коля.
– Убежавшая из зверинца, вы говорите… Но, во-первых, из какого же именно зверинца? Зверинцы тогда могли быть только в больших городах, а от больших городов русских до Чир-Юрта три года скакать было надо. Во-вторых, пятнистых гиен нельзя смешивать с полосатыми, которые и ростом гораздо меньше и не такие свирепые… Полосатые бывают и теперь в зверинцах, бывали, я думаю, и тогда, а что касается пятнистых, то это – совсем другая материя. Вообще вопросом о гиенах мой отец тогда начал усиленно заниматься, но к ясности в нем не пришел, и откуда взялась чир-юртская гиена, объяснить мне не мог. Но вот что произошло вскоре после охоты на гиену: исчез Зубков, муж Поли. Он получил от самого полковника Круковского отпуск на неделю, чтобы отвезти бедную Полю к родным, однако через неделю вернулся только конвой, а сам Зубков не вернулся в полк.
– Бежал к черкесам? – оживленно спросил Коля и добавил возбуждаясь: – Вот это так! По-моему, это объяснимо!
– Нет, тоже необъяснимо, – спокойно сказал Матийцев. – Сбежал и бросил свой дом и огород – все хозяйство и все свое будущее. Ведь за отличие в сражениях мог быть произведенным в офицеры… Однако сбежал… Что к черкесам сбежал, – это осталось неизвестным, а говорить, конечно, так и говорили. Но ведь и о Бестужеве-Марлинском говорили, что он, будучи уже офицером, перешел на сторону черкесов, а совсем не был убит в схватке у мыса Адлер.
Дружба моего отца с Муравиным расклеилась уже, конечно, но все-таки они продолжали и после страшного происшествия в Нижней слободке жить на одной квартире, и однажды, недели через три после происшествия, вздумали отправиться на охоту, как это проделали уже однажды гораздо раньше. Тогда они вызвали неудовольствие Круковского, но теперь уже другой был у них командир полка, князь Чавчавадзе, не такой строгий, да и ни о каких шайках черкесов, на которые можно было бы наткнуться, не было слышно. Однако прежняя история с ними повторилась: их обстрелял кто-то из лесной опушки, и мой отец был ранен штуцерской пулей в плечо. Послан, разумеется, был взвод драгун на это место, но никого не нашел, а у моего отца, да и у Муравина тоже явилась догадка, что стрелял в них не кто другой, как именно этот беглый Зубков. Муравин поэтому тут же начал хлопотать о переводе в другой полк, что ему и удалось, так как он был не без связей в Питере, а мой отец вследствие этой своей раны в плечо, отчего перестал он владеть левой рукою, вышел в отставку.
Позже, впрочем, рука снова стала действовать, он же подготовился и поступил в университет, откуда выйдя, стал педагогом… Это уж профессия мирная, и ей он отдался до конца своих дней. Впрочем, большой карьеры не сделал, так как с начальством не умел ладить. Когда его попросили по возрастному цензу в отставку, он был всего только директором учительской семинарии в уездном городе на Украине.
– Ну, хорошо, – сказал Коля, – а что же все-таки его стукнуло, вашего отца?
– Я ведь сказал уже, что этот самый непонятный зверь, – несколько даже удивился его вопросу Матийцев.
– Да, вы сказали, конечно, только я понял так, что все это в целом, – о чем вы рассказали подробно.
– Разве подробно? Я ведь только вкратце, а разве получилось, что подробно? Один ведь только год, даже и того меньше, одного только человека, ничем особенно не примечательного… И если я припомнил кое-что вот, в разговоре с вами, то исключительно по аналогии с тем, как меня стукнуло. Вышло как-то так, будто это стуканье у нас фамильная черта и если я когда-нибудь женюсь и у меня будет сын, то заранее можно будет сказать, что и его в этом же роде стукнет.
– Всех скоро стукнет! – сказал резко Коля, и брови при этом сдвинул, и губы после этого крепко сжал.
– Как именно стукнет? – не понял его Матийцев.
– А разве японская война не стукнула Россию?
– Стукнула, – этого отрицать не могу, – согласился Матийцев. – Между прочим, чтобы уж до конца довести аналогию: через шесть-семь лет после того, как стукнуло отца моего, стукнуло ведь и всю николаевскую Россию в Крымскую кампанию.
– Так стукнуло, что шестидесятые годы появились! – с большим подъемом подхватил Коля. – Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, Писарев, Щедрин… И Японская кампания тоже ведь стукнула! Так стукнула, что началась революция.
– Да, началась революция.
– Ну вот, а теперь?
– Что теперь?
– Что происходит теперь, как вы думаете?
И так как Матийцев только развел недоуменно руками, Коля ответил сам на свой же вопрос:
– А теперь она продолжается, – вот что происходит теперь!
– Как же именно продолжается?
– Как?.. Путем массовых забастовок, разумеется!
– Ну да, да… Это конечно… И путем стрельбы уже не по каким-то прапорщикам Матийцевым, а по губернаторам и премьер-министрам Столыпиным, – вполне серьезно сказал Матийцев, но Коля так и вскинулся от этих слов:
– Разве наша партия стреляет в губернаторов? Это – эсеры, а совсем не мы, большевики! Однако ведь Столыпина охранник Богров убил в Киевском театре в присутствии самого царя Николая, но… все-таки честь эту оказал премьер-министру, а не царю, – вот какой ход даже и со стороны эсеров! Почему, как вы думаете?
– Не могу объяснить, – признался Матийцев.
– Потому, – понизив зачем-то голос, заговорил Коля, поблескивая глазами, – что даже они, эсеры, берегут этого дурака на троне. Революция в конце концов победит, конечно, самодержавие, но скорее всего и прочнее всего победит именно при нем, при Николае Втором, – это даже и эсеры понимают, поэтому и не делают покушений на его жизнь!.. Другой такой пешки и на заказ никто не сделает!
– Вот видите как, – а я об этом как-то даже ни разу и не подумал как следует…
Матийцев помолчал немного и спросил:
– Так, значит, забастовки рабочих?
– Разумеется… Наша партия опирается на рабочих… Помните, какие забастовки были в девятьсот пятом году? Ого!
– Помню, да… Но я-то помню, а вам-то сколько же было лет тогда?
– Все равно, сколько… Мне говорили об этом товарищи, и я читал об этом сам, так что отлично знаю. А вам известно, что Ленин еще в позапрошлом году основал большевистскую газету «Правда»? Вы видели когда-нибудь нашу «Правду»?
– Нет, не приходилось.
– Как же вы так? Наша рабочая газета, надо ее искать, а сама она в этих местах редко на глаза попадается. Вы когда уезжаете отсюда к себе на шахту?
– Едва ли я отсюда поеду на шахту к себе, – сказал, чуть улыбнувшись, Матийцев.
– Как так это? Почему?
– Да потому, что и меня ведь тоже судить должны за обвал в шахте.
– Это я знаю… И вообще теперь, конечно, с инженерством все у вас должно быть кончено… Сколько засыпало рабочих?
– Двоих забойщиков.
– А их откопали?
– Откопали, но только уж мертвых… А шахтой ведаю я, значит, меня и будут судить.
– Отсюда, позвольте, какой же вывод? – вдруг строгим тоном спросил Коля. – Значит, вы виноваты в смерти двух рабочих?
И, сказав это, он даже отшатнулся от Матийцева, точно принял его раньше за кого-то другого и только теперь понял, кто он на самом деле.
– Видите ли, – в забое было, конечно, крепление, но то оно держало породу, то есть землю над входом в забой, а то почему-то не выдержало давления и рухнуло, – вот что там случилось.
– Я не представляю, как это, я никогда не видел шахты, – сказал Коля.
– Да вы и не увидите ее по той причине, что вас туда и не пустят.
– Виноваты вы или не виноваты – вот что я хочу знать! – совсем не юношески-строгим тоном почти выкрикнул Коля.
– Виноват только потому, что всякая вина виновата… Кто-то ведь должен нести ответственность за катастрофу в шахте? Конечно, должен. А кто же еще, как не инженер, заведующий шахтой? Я и привлечен к ответственности… Но это, с одной стороны, чисто формальной. А с другой, практической, шахта ведь очень велика, и всю ее осмотреть во всех точках в начале работ я один не в состоянии. Накануне катастрофы крепление держалось. Ночью, когда не было работ, держалось. Утром, когда начали работу, держалось. А примерно в обед рухнуло. Эту катастрофу так же невозможно предусмотреть инженеру, как невозможно заранее предсказать землетрясение. Конечно, движение пустой породы подготовлялось, но ведь оно проходило скрытно, в толще земли; забой же освещается только шахтерской лампочкой. С такою же лампочкой и я хожу по шахте. Я поднимаю ее, смотрю, когда подхожу к забою, смотрю внимательно, но ничего угрожающего не вижу; успокоенно я иду дальше по штреку, и вдруг рухнуло!.. Виноват, значит, я только в том, что я не вездесущ, не всемогущ и не всеведущ. За это и понесу наказание.
– Какое именно?
– Говорили мне там, на шахте, что за это полагается арест на месяц.
– Но ведь это же чепуха! – вскрикнул Коля.
– То есть что чепуха?
– Должно быть определенно ясно что-нибудь одно: или вы виноваты, тогда вам не месяц ареста, а побольше, или вы не виноваты, тогда зачем же этот месячный арест?
– Так установлено из каких-то соображений. Это уж юристов спросите, почему, действительно, арест на месяц, но судоговорение в таких случаях бывает, говорят, небольшое и приговор выносится быстро, так как подобных случаев очень много и если из-за них инженеров начнут ссылать на каторгу, то должны будут остановиться работы и на шахтах, и в рудниках, и на заводах за недостатком руководителей работ.
Матийцев говорил это с виду совершенно спокойно, по-деловому. Как и во время суда над Божком, он ни одним словом не обмолвился и теперь перед этим юнцом с напряженно-честными глазами о том, как на него самого повлияла катастрофа в «Наклонной Елене», как он ездил в Ростов прощаться с жизнью и затем в роковую ночь положил около себя на столе заряженный револьвер.
Он, конечно, не мог забыть об этом, но в то же время те настроения его были отброшены уже так далеко, как будто и в памяти были задернуты они толстым черным крепом. Если бы он мог поглядеть на самого себя откуда-нибудь со стороны, то, вероятно, немало бы удивился он, что в той же самой, очень хорошо знакомой ему внешней оболочке поселился какой-то новый для него же самого человек.
– Солнце, однако, начинает уж садиться, мне надо идти, – сказал, решительно поднимаясь, Коля.
– Идти?.. Куда?
– Да мне ведь нельзя здесь больше, – я уж говорил вам… Да и вам надо отдохнуть, – прощайте!
Но протянутую руку его отвел Матийцев, сказав оторопело:
– Надо идти, позвольте, а у вас же, конечно, ни копейки денег, – как же вы пойдете?
– Так и пойду, как ходил… А если у вас есть лишних несколько рублей, то я бы не отказался.
– У меня! – горестно отозвался Матийцев. – В том-то и все дело, что у меня осталось почти в обрез: только заплатить за номер в гостинице, да на билет до моей станции!.. Каких-нибудь пять рублей вот… – добавил он, роясь в кошельке и подавая бумажку Коле.
– Ого! Пять рублей – это совсем не «каких-нибудь», а с ними я до Ростова могу добраться, – засиял Коля. – В Ростове же, там свои люди… Спасибо вам!
Расставаясь с Колей, Матийцев расцеловался с ним крепко, как с родным, а после, уходя к городу, все оглядывался, чтобы разглядеть на сером большаке его рубашку.
Вдвойне чувствовал себя опустошенным Матийцев, когда уже вечером добрался до «Дона». В один этот день из него была вынута и такая долго мучившая его заноза, как дело Божка, и, неожиданно войдя в него, как что-то большое, тут же и ушел куда-то на юг Коля Худолей. Он, этот еще не оперившийся юнец, родом из Крыма, совершенно до сегодня ему неизвестный, сразу занял в нем так много места, что просто как-то даже физически больно было Матийцеву ощущать, что вот его уже нет рядом с ним и, вернее всего, никогда уж больше не будет.
В том, что он сказал ему свое настоящее имя и фамилию, Матийцев не сомневался, иначе за доверие к нему и он не ответил бы доверием, не рассказал бы ему о переломном моменте в жизни отца, а рассказ этот, после пережитого в суде, дался ему тяжело. Все время представляя себе в эти часы своего отца, да еще в его молодые годы, он как бы жил двойною жизнью, и не отдыхом от суда оказалось это, а еще больше увеличило в нем разбитость.
В номере гостиницы он лег на койку, чтобы хоть сколько-нибудь отдохнуть и забыться; не то чтобы уснуть, – он знал за собою, что уснуть в подобном состоянии не может, а хотя бы как-нибудь, пусть только наполовину, восстановить силы, хоть наполовину чувствовать себя как обычно. Но очень трудно было достичь этого в какой-то косоуглой убогой комнатенке с низким потолком, в нижнем этаже и с единственным окошком, выходящим во двор, где все кто-то сновал мимо, отчего на стенке против окна поминутно сновали темно-синие сумеречные тени.
Белая краска на оконной раме была облуплена, отчего вся рама стала какою-то нахально-неопрятной, вызывающе-пестрой; на подоконнике же, тоже облупившемся, кто-то постарался вырезать перочинным ножом три раза и в трех разных направлениях слово «Мотюша». И того, что называется воздухом, не было в этом нумеришке, а было что-то застоявшееся, заплесневшее и провонявшее, чего узенькая форточка, хотя и день и ночь стояла отворенной, вытянуть никак не могла.
И, однако, сквозь всю эту заплесневелость кругом, сквозь всю усталость в теле, сквозь всю опустошенность в душе, что-то такое проросло в нем новое для него самого, и, пока он лежал, закрыв глаза, чтобы сосредоточиться, это новое утверждалось в нем, прочнело, а возникло оно из трех всего только слов, сказанных семнадцатилетним бывшим гимназистом, а ныне посвятившим свою жизнь революции в России, Колей Худолеем: «Вы хорошо выступали!..» Больше ничего, – только это: «Вы хорошо выступали!»
Вышло, значит, так, что он, стараясь, чтобы смягчили приговор Божку, не то чтобы «давал показание», а «выступал» на суде, как выступают ораторы в парламентах, где речи их записываются слово в слово, обсуждаются другими ораторами, печатаются в газетах и в конце концов влияют на строй всей государственной жизни. Он, значит, воздействовал на многих людей словом, пусть это слово прозвучало для одних молодо-зелено, наивно, а для других, как прокурор, например, прямо преступно, но оно не могло не произвести впечатления, так как было искренним: как думалось, так и сказалось.
Ведь даже и Дарьюшка произвела впечатление своими покаянными словами и слезами о том, как она, «грешница», продала его револьвер, вместо того чтобы забросить его куда-нибудь подальше, и как, еще раз «грешница», пропила по свойственной ей слабости полученную за него золотую пятерку.
Пусть прокурор назвал «трюком пропагандиста» то, что он сказал на суде о своем решении застрелиться, а юноша-революционер одобрительно отнесся к такой, как он это назвал, «удачной выдумке», но зато сам-то он вырос в собственных глазах: не утаил своей слабости, вынес ее сам на общественный суд, чтобы здесь казнить!.. Вышло так, что Божок не только спас ему жизнь, но еще и высек своим ударом искру, от которой сгорела в нем вся грязная накипь, вся рабская боязнь жизни, вся его растерянность перед ней.
Он жив теперь и силен теперь, несмотря на эту временную усталость, благодаря Божку, который «думал, что уж убил» его, а тот большак, каким ему нужно теперь идти, показан ему «святым» сыном такого же «святого доктора»…
И как-то совсем непоследовательно на первый взгляд, но по существу вполне связанно вспомнился ему до мелочей четко странный сон его не в другой гостинице, в Ростове, а у себя дома… Обыкновенно он, как и все, очень скоро, проснувшись, забывал все свои сны, – иногда даже через секунду после того, как открывал глаза, но этот сон пробился вдруг из тайников памяти сквозь все, что произошло с ним наяву после того, а произошло ведь так много!.. Это было, пожалуй, просто забытье, а не сон, это привиделось ему не в постели, а за столом, когда, написав предсмертные письма, он вдруг задремал, совершенно неожиданно для себя: у него было еще для этого время, так как до одиннадцати часов, когда он решил выстрелить себе в сердце, оставалось еще полчаса.
Вспомнилась только часть этого сна, – именно: в пустой степи появилось вдруг огромное, великолепное, строгого стиля здание – матово-белое, карнизы черные… И как он спрашивал кого-то:
– Это – не мрамор ли?
– Вероятно, – отвечал кто-то.
– А почему же дом этот стоит один в степи? – спросил он.
– Нет, он не один, – ответил кто-то. – Вон и другие такие же.
И действительно, повсюду стояли здания, такие же белые с черными полосами, такие же великолепные, такого же строгого стиля!.. И местность эта называлась почему-то Всесвятское… Все огромные дома эти уходили куда-то вдаль, и все их почему-то было видно…
Эта часть какого-то запутанного и длинного сна чрезвычайно ясно представилась ему именно теперь, когда лежал он на жесткой койке в косоуглой вонючей комнатенке с низеньким потолком.
Многоэтажные огромные дома, мраморно-белые, почему-то с черными полосами, как бы перепоясанные по этажам для большей четкости, – вот во что вылились в нем все переживания этого дня. И с бесконечными улицами таких домов в мозгу, как бы под непомерной тяжестью их, он заснул, наконец, и спал до утра не просыпаясь, а утром, выйдя на улицу, очень остро ощутил он жалость ко всем живущим в этих маленьких домишках, в каких жили и пятьсот и тысячу лет назад.
А эта жалость тотчас же вызвала из памяти все тот же сон, и вот здесь, на улице, в этот день произошло с ним нечто странное, несколько похожее если не на галлюцинацию, то во всяком случае на мираж в пустыне: над жалкими домишками, накрывая их собою, встали в длиннейшие величественные ряды огромные белые дома строгой архитектуры… И когда он вышел на ту улицу, где встретился с Колей Худолеем, громады домов по обеим сторонам этой улицы, раздавшейся в ширину, и с мостовой, залитой асфальтом, пошли далеко-далеко вдоль большака и заняли собою всю даль и никакому одинокому осокорю у глиняной ямы не оставили места.
И вдруг весь этот великолепный мираж исчез, и выступила перед глазами действительность: это произошло в проулке, на который свернул Матийцев. Здесь увидел он мало понятное с первого взгляда: городовой в белом кителе, и тут же под его бритым подбородком и желтыми жесткими усами чьи-то босые грязные ноги, а как они попали сюда, можно было рассмотреть только в следующий момент: городовой тащил кого-то головою вниз, чьи ноги крепко зажал левой рукой. Голова того, кого он тащил, волочилась по земле, причем действовали все время руки, оберегая ее от ушибов, и слышался какой-то приглушенный этой работой рук вой, похожий на длинное исступленное бормотанье глухаря на току.
Городовой этот вызвал у Матийцева сравнение с хищницей-осою, когда с налета нападает она, залетев в открытое окно, на муху, пьющую хоботком из капли на столе. Муха мгновенно оказалась уж в цепких лапках осы, а оса только разбегается, сильно действуя крыльями и парой задних свободных ножек, но вот она поднялась в воздух, – и прощай, муха! В осином гнезде пойдет она на корм потомству осы, ее прожорливым личинкам…
– Ты куда его тащишь? Ты как смеешь его так тащить? – крикнул Матийцев, поспешив к городовому.
– А ты что за спрос? – рявкнул и городовой, без малейшей тени уважения к его серой фетровой шляпе и новому еще костюму.
И длинное лицо городового, совершенно свекольного цвета, повернулось к Матийцеву, не только свирепое, но еще и вполне уверенное в правоте своих действий. Тот же, кого он тащил, был по виду не кто иной, как шахтер, вернее всего что напившийся и буянивший на улице, парнишка еще, не больше как годами двумя старше Коли Худолея и не то чтобы очень крупнее его. Городовой был куда плотнее и выше ростом своей жертвы; жертва же его, увидев нежданного заступника, завопила городовому:
– Брось, селедка! Брось, сволочь!.. – И тут же Матийцеву: – Господин, будьте свидетель! Он мне всю шею набок свернул, он меня… на всю жизнь… калекой сделал!
В непокрытую голову его с растрепанными бурыми волосами влипли и сухая трава, и комки тоже сухой глины, и песок.
– Погоди, погоди! Ты за «сволочь» сейчас ответишь! – пообещал ему городовой, и парень – к Матийцеву:
– Спасите, господин! Бить меня селедка хочет!
– Сейчас же его отпусти! – вне себя закричал Матийцев, но городовой в это время уже втаскивал свою жертву, как оса муху, в полуотворенную калитку знакомого почему-то Матийцеву двора: это был двор «присутственных мест», только не с улицы. И тут же сквозь калитку увидел Матийцев тоже знакомого уж ему околоточного с бабьим широким круглым лицом, и так же вежливо, как за день перед тем, козырнул ему околоточный, но сказал строго:
– Вмешиваться в действия полиции частные лица не имеют права!
– А кто полиции дал право обращаться так с человеком? – запальчиво выкрикнул Матийцев.
– Как это «обращаться»? – будто не понял околоточный.
– По земле волочить! Головою вниз! Вот как!
– А если он идти своими ногами не хочет? А если он в драку с полицией вступает?.. А вы же ведь и сами на суд сюда приехали, а не то чтобы полицию учить, что ей надо делать…
И околоточный помог городовому протащить в калитку парня все так же, головою вниз, а потом захлопнул щеколду калитки или даже, как показалось Матийцеву, запер эту сплошную, без просветов, толстую деревянную, окрашенную охрой калитку на ключ.
Оставалось только уйти и от этой калитки и от дома, напоминавшего о завтрашнем суде над ним за обвал в шахте. Что его присудят на месяц «отсидки», об этом он был предупрежден и своим штейгером, Автономом Иванычем, и Яблонским, но вот что теперь показалось ему странным в самом себе: он так и не спросил у них, что это за «отсидка», где именно он будет сидеть и кто и как будет его кормить целый месяц. Последнее занимало его теперь особенно, так как кормиться на свой счет он не мог бы: денег у него оставалось в обрез, только доехать до Голопеевки. Подумалось: «А что если отсиживать придется в „каталажке“ здесь вот, при полицейском управлении, где, может быть, теперь бьют в четыре руки почти мальчишку шахтера, скорее всего что коногона, который, пожалуй, и напился-то в первый раз, – не заметно было, чтобы был он слишком пьян…»
Дома-дворцы, овладевшие было фантазией Матийцева, не появлялись уже больше перед ним во весь этот длинный, нудный, поневоле бездельный день, хотя он долго еще бродил по городу и исходил его вдоль и поперек. Заходил он даже и на кладбище, где надписи на крестах иногда не уступали в своей многозначительной краткости произведениям голопеевского кладбищенского сторожа – Фомы Куклы.
Подходя к одной из окраин, спросил он в шутку у одной старушки в черном с желтым горошком аккуратном платочке:
– Какие тут у вас достопримечательности есть, бабка?
– Примечательности? – повторила бабка, не поняв слова.
– Ну да, чтобы было хоть на что посмотреть, – объяснил ей Матийцев.
Старушка поняла и оживилась.
– А вон у нас есть примечательность – дом белый каменный, двухэтажный… Небось, всякий на него со страхом смотрит!
Матийцев посмотрел, куда показывала бабка, и увидел: за деревьями действительно белелся двухэтажный дом на пустыре. Около дома была каменная же белая стена с глухими воротами; около ворот стояла полосатая будка, а возле будки прогуливался конвойный солдат. Без объяснений догадался Матийцев, что это – уездная тюрьма, и прямо отсюда направился к себе в гостиницу «Дон».
А на другой день утром он снова входил в суд, но теперь был уже гораздо спокойнее, чем когда слушалось дело Божка. В зале суда теперь все ему было знакомо, и кого он хотел увидеть, как например, старшину присяжных, и кого совсем не хотел видеть, как например, прокурора, все были на своих насиженных местах. Но ему самому теперь пришлось уже сидеть на скамье подсудимых, как раз там, где сидел Божок, и был он теперь не потерпевший, даже не свидетель, а подсудимый сам…
Он не готовился накануне к своей защите, тем более что убежден был, – не придется ему прибегать к длинным и связным объяснениям, а только отвечать на вопросы судейских. Но председатель с первых же слов предложил ему рассказать, при каких обстоятельствах произошел обвал.
Матийцев начал говорить без малейшего нажима на слова, усталым тоном: усталость он чувствовал общую и преодолеть ее не мог даже в такой важный для себя час.
– Есть шахтерская песня… Поют ее заунывно:
Шахтер в шахту опускался,
С белым светом расставался:
«Прощай, прощай, белый свет:
То ли выйду, то ли нет!»
Показательная песня… Говорит она о том, что работа в шахте – опаснейшая работа: от скопления газов в шахте всегда возможны взрывы, последствия которых часто бывают ужасны: от избытка воды в почве, если шахта мокрая, всегда возможны обвалы… Шахта «Наклонная Елена», которой заведую я, считается сильно мокрою шахтой, потому обвалы в ней не редкость. Но обвалы не всегда сопровождаются человеческими жертвами: они могут быть и в таких местах, где – случайно, конечно, – отсутствуют люди, и могут привести к человеческим жертвам… Чтобы судить о степени моей виновности в обвале, стоившем жизни двум забойщикам, нужно, мне так думается, представить во всем объеме работу инженера в шахте. Ведь шахта, – такая, как «Наклонная Елена», – прежде всего очень велика, а инженер должен обойти ее всю, чтобы везде проследить за налаженным уже, конечно, ходом работ. Но в шахте, – очень прошу представить это, – совершенно темно. В шахте кто бы то ни был, – инженер ли, штейгер ли, десятник или шахтер, – все ходят со своими лампочками… Как светляки ползают в траве, как рыбы на очень большой глубине в море, куда не проникает солнечный свет: известно, что у них есть свои осветительные аппараты… Я, положим, подошел к кучке рабочих, я, при свете их лампочек, с одной стороны, и своей, с другой, их рассмотрел; я увидел, как они работают; я спросил у десятника, если он тут, все ли благополучно, и потом пошел дальше. А вдруг именно там, где я только что был и где все казалось в порядке, – через пятнадцать – двадцать минут случилось несчастье! Кто же имеет право сказать, что несчастье это случилось только потому, что меня в тот момент не было на этом месте? Никто не может сказать этого, потому, во-первых, что я не могу стоять целый день, как припаянный, на одном и том же месте: я должен видеть в шахте двадцать, тридцать, сорок мест, – всю вообще шахту, – а вездесущием я не обладаю; потому, во-вторых, никто не может сказать этого, что несчастье может случиться и на моих глазах, но в такой момент, когда его никак нельзя предвидеть. Нельзя ведь предвидеть, когда именно начнется у того или иного человека рак, например. Злокачественная опухоль эта подготовляется исподволь, совершенно незаметно для человека, – но так же точно подготовляется и обвал в мокрой шахте. Он неизбежен, говоря вообще, так как огромнейший пласт земли давит на все пустоты штреков, квершлагов, забоев… Чтобы предупредить обвалы, мы ставим так называемое «крепление», – деревянные подпорки, но вот вопрос: как именно можно определить, что то самое крепление, которое выдерживало давление неделю, и три дня, и день назад, выдержит его и сегодня до конца работ? И вот для этой цели, то есть чтобы определить прочность крепления, мы, инженеры, вместе с десятниками и самими забойщиками, поднимаем свои лампочки, разглядываем подпорки и вместе решаем, нужно ли уж менять их, или можно еще на них надеяться… А вода, наш вечный враг, делает в это время свою работу: она непрерывно капает везде и всюду, но ведь, – представьте это, – каждая капля уносит с собою частицу земли, и, может быть, как раз когда мы соглашаемся друг с другом, что крепление еще постоит, над забоем есть уже весьма порядочная пустота, а инженер, заведующий шахтой, так же не знает этого и не может знать, как и забойщик… И вот, вдруг, совершенно для нас неожиданно рухнула земля там, вверху, над забоем, то есть над потолком забоя!.. Нужно бы забойщикам услышать это и тут же опрометью бежать из забоя в штрек; но как же ему расслышать шум над потолком своим, когда он сам гремит кайлом или обушком, причем он ведь еще и скорчился для этого или полулежит, – ведь забой низенький, в зависимости от толщины угольного пласта… Обвалилась земля над потолком забоя и… через какие-нибудь полминуты обвалился потолок забоя, – рухнуло крепление, вход в забой засыпан плотно пустой породой… Что можно было делать нам дальше в моем случае, если двое забойщиков в глубине забоя были еще живы, – мы слышали их голоса? Начать откапывать их? Мы это и начали было, но поняли, что можем потерять при этой им помощи еще несколько человек, а забойщиков все равно не спасем: обвал продолжался и шел туда, в глубь забоя… В результате, так как сделать для спасения заваленных забойщиков мы ничего не могли, – оба они погибли… Этот случай произвел на меня сильнейшее угнетающее впечатление, о чем я говорил уже в прошлый раз.
Тут Матийцев остановился, опустив голову, как бы ожидая вопросов со стороны председателя суда или прокурора, но они молчали, поэтому он продолжал:
– Мы, инженеры, не ленимся обновлять крепления: мы всегда требуем как можно больше крепежного леса, но только очень скупо всегда его нам дают – вот что нужно вам знать. А часто бывает и так еще, что он – недомерок, или перележалый, или хотя и свежий, да слабой породы дерева, что нам в шахте опять не годится: нам нужен дуб, а дают нам осину, потому что осина вдвое дешевле обходится в заготовке… «Дайте нам цену за пуд угля двенадцать копеек, и мы сделаем в шахтах паркетные полы и пустим туда солнечный свет!» – вон как говорили горнопромышленники на своем съезде, а при цене в шесть копеек за пуд никаких, дескать, улучшений в работе для шахтеров ввести нельзя… А пенсии для рабочих? А хотя бы пособия денежные для них при несчастных случаях с ними? Ведь бельгийская компания, владелец «Наклонной Елены», ни одной копейки пособия не дала многодетным вдовам забойщиков, погибших там… Кто же были эти забойщики – люди или скоты?..
– Пхе… Это уж вы, подсудимый, начали из другой оперы, – поспешил остановить Матийцева председатель, до этого все время молчавший, а прокурор, как насторожившийся конь уши, высоко поднял брови.
Замечание председателя как-то сразу совершенно обескрылило Матийцева, и без того усталого; обидным показалось и обращение «подсудимый»… Он проговорил медленно и вполголоса:
– Да я, кажется, все уже сказал по своему делу, и больше мне нечего добавить.
– Если все, то садитесь, – как учитель к школьнику, обратился к нему председатель, и вовремя это было: Матийцев полузакрыл глаза и покачнулся стоя.
Когда он сел на скамью подсудимых, то глаза его закрылись как-то сами собою, непроизвольно, – до того овладела им полная безучастность к тому, скоро ли и в каких выражениях начнет, обратясь к присяжным, устанавливать его вину прокурор и как будет вынесен ему предусмотренный приговор, – месяц «отсидки».
Сидя так с закрытыми глазами, он не то что задремал, а как-то ушел в себя и не заметил, – не мог заметить, – что прокурор, вместо того чтобы начать против него филиппику, несколько приподнявшись на месте, сказал председателю, что отказывается от обвинительной речи (а от защитника перед слушанием дела отказался он сам) и что председатель передал старшине присяжных листок с вопросом.
Он очнулся от забытья и открыл глаза только тогда, когда присяжные гуськом выходили из зала совещаться. Он пригляделся к судейским за столом с «зерцалом» и увидел, что они заняты чем-то, что им подсунул секретарь. Тогда он вспомнил, как Безотчетов говорил ему о какой-то своей бумаге, посланной в суд о нем, заведующем шахтой, и подумал, что ведь эта бумага должна бы быть прочитана секретарем вслух, а он ее не зачитал, – почему?
Додумать до конца этот вопрос не дали ему присяжные, которые вернулись что-то очень скоро. Он, как и все, поднялся при их появлении, и отставной военный врач, имевший вполне торжественный вид, прочитал вопрос, стоявший в листочке:
– «Виновен ли заведующий угольной шахтой „Наклонная Елена“, горный инженер господин Матийцев, в обвале забоя, в результате чего погибли двое забойщиков?»
Тут он сделал паузу и, не глядя уже в листок, ответил:
– Нет, не виновен!
И еще не успел как следует Матийцев воспринять сказанное о нем, как кто-то из публики, которой собралось человек двенадцать, захлопал в ладоши. Потом захлопали все. Потом председатель суда, не называя его ни «подсудимым», ни по фамилии и глядя на него не предубежденно, а скорее как бы с участием, сказал;
– Вы свободны!
Матийцев понял эти слова так: «Можете выйти из зала суда и идти куда вам будет угодно, не думая больше ни о какой нигде „отсидке“».
Он поклонился председателю и вышел.
От города, где судили Матийцева, до станции, где нужно было ему сходить, считалось всего часа полтора езды.
То, что оправдали, а не засадили на месяц, как предсказывали Безотчетов и Яблонский, и тем более то, что суд дал снисхождение Божку, очень подняло Матийцева в собственных глазах. Таким именно поднятым он и вошел в вагон третьего класса.
Тут было очень людно, но люди ехали вместе, как понял Матийцев, издалека и успели уже перезнакомиться друг с другом: в вагонах русских железных дорог даже у закоренело молчаливых появляется почему-то большая словоохотливость.
Свободное место, которое нашел Матийцев, оказалось даже как будто среди наиболее здесь говорливых, наилучшим образом оживленных дорогой. А в соседнем отделении, – вагон был открытый, – сидел даже кто-то с большой гармоникой-двухрядкой, которую бережно, почтительно держал на коленях, причем стояла она на широком красном, с крупным белым горошком, платке. Концами этого платка гармонист тщательно вытирал свои пальцы, которые, должно быть, потели, что мешало ему, очевидно, свободно действовать ими.
Он был вдохновенного вида: узкое лицо с чуть заметными усишками и белесый вихор надо лбом; нос длинный и несколько набок, а глаза победоносца и покорителя женских сердец. Рубаха его, хотя и очень грязная, поэтому неопределенного цвета, была вышита крестиками – женскими, конечно, руками.
Тронувшийся поезд еще не прошел мимо построек станции, а он уже перебрал ухарски клавиши гармоники и запел тенором:
Ко мне барышни приходили,
Бутыль водки приносили,
С отча-я-я-яньем говорили:
– А-ах, жаль, а-а-ах, как жаль,
А-ах, как жаль, что ты – мо-нах!..
Под узким подбородком у него оказался кадык на тощей шее, и губы от большого усердия он распяливал в виде сковородника. Зубы у него были щербатые; брови же – реденькие, желтенькие, – он то вздергивал, то хмурил жалостно, как того требовала его песня.
– Гм, занятно! – весело говорил, слушая его и ни к кому не обращаясь, Матийцев, оглядывая в то же время всех, кто был и впереди, и с боков, и сзади.
Но вот к нему подкатился на коротеньких ножонках черноволосый кудрявый ребенок лет трех, охватил его колено и вполне отчетливо сказал:
– Дядя, дай конфетку!
И не успел Матийцев приглядеться к нему, как какая-то лохматая черноволосая женщина появилась рядом с ребенком и обратилась к нему бесцеремонно:
– Ну, дайте уж моему Диме конфетку, раз ежели он у вас просит! Он все равно не отстанет, – он такой вредный!
– Да откуда же у меня конфетки? У меня никаких конфеток нет, – удивленно сказал Матийцев.
– Ну, как же так нет, когда вы же их своим деткам везете! – протянула черноволосая вполне уверенно и даже подмигнула знающе.
– И деток у меня тоже нет, – ответил Матийцев уже спокойнее.
– Ну, тогда дайте ему грушу!
– Дай! – требовательно сказал Дима.
Матийцев оглянулся кругом, заметил, что несколько сзади его расположился покушать какой-то бородатый загорелый степняк в чоботах, и кивнул туда головой:
– Вон там что-то едят – туда идите!
Бросив на него негодующий взгляд, мамаша увела сыночка, но это был только первый ее приступ.
Минут через десять она опять подошла, таща Диму за ручонку, и сразу, с подхода:
– Вот скажите же вы этому скверному мальчишке, что в этом самом вагоне водятся волки!
– Зачем же я буду говорить ему такую чепуху? – кротко спросил Матийцев.
– А затем вы должны ему это сказать, чтобы он когда-нибудь испугался! – выпалила без передышки мамаша.
– Гм… да… Вы обратитесь к кому-нибудь другому, – посоветовал ей Матийцев.
Опять уничтожающе-гневный взгляд выпуклых черных глаз, и опять утащила она своего Диму, и уже где-то дальше в вагоне, – слышал Матийцев, – она приказывалала кому-то:
– Отворите же вы, пожалуйста, окошко, а то Димочке очень душно, и он себе сейчас в обморок упадет, – и что я тогда с ним должна делать, ну-у?
А еще через пять минут Матийцев слышал уже другое:
– Ох, затворите, пожалуйста, я вас прошу, окошко, а то я боюсь, что Димочку продует, и что я тогда с ним буду делать, а-а?
На каждой остановке поезда, хотя бы на две минуты, она выскакивала из вагона, только успев сказать всем и никому:
– Ну, посмотрите же вы за моим Димочкой, чтобы он чего-нибудь не наделал!.. Дайте ему что-нибудь, он будет себе есть! – И исчезала.
И однажды Матийцев на одной такой остановке поезда услышал в открытое окно ее крикливый голос:
– Ну, вы уж наверное мой земляк из Новой Маячки, а-а? Скажете, нет? Ну, я-таки вас очень даже хорошо зна-аю!
И увидел, как тот, кого она атаковала, отмахиваясь рукой, уходил от нее поспешно.
Потом она, растрепанная, вбежала в вагон с криком:
– А где мой Димочка, а-а? Он ничего тут не нашкодил?
И, поймав Димочку, начала его убеждать:
– Видела я волков, видела! Они сидят себе вот тут рядом в другом, в желтом вагоне!.. Они тебя-таки съедят, – ты тогда вспомнишь, скверный мальчишка, что я тебе правду говорю!
А тот степенный степняк в чоботах не спеша продолжал что-то такое жевать и говорил, обращаясь к пожилой женщине в выцветшем, когда-то малиновом платочке, сидевшей против него:
– Зве-ерь, он все решительно про себя знает!.. Хотя бы, скажем, лису возьми… В какое время она нахально себя вести начинает, так что даже за курями готова середь дня в хату влезть?.. Тогда у ней нахальство такое, когда линять станет, – вот когда! Шерсть если из нее клочьями лезет, кому она тогда нужна? А мясо… Мясо лисиное не то что человек, и сатана есть не схочет, как оно вонючее. Вот она и смелеет тогда, эта лиса!
А женщина в линялом платочке, тоже загорелая по-степному, соглашалась и говорила о своей телке:
– Истинно, все понимает… Вот телка у меня, до того настырная: давай да давай ей жрать… И что же ты думаешь? Купила ей сена люцерного воз: жри! Она же побуровит-побуровит тое сено люцерное своей башкой, да под ноги его скинет все, да ногами своими затопчет, а сама мне: «Му-у-у!» Ты что это, дескать, мне такое дала?.. Вот поди же, шо сь такое она в нем нашла, в этом сене люцерном, что ей не пользу должно произвесть, а чистый, выходит, вред!
– Може оно обрызгано чем, если садовое? – пытался догадаться степняк. – Бывает, деревья попрыскають, а на траву, своим чередом, попадет яд какой, – вот телка твоя его, яд этот самый, и чует…
Против Матийцева сидел кто-то, спустивший на глаза козырек кепки, как будто отдавшись дреме, но, примерно через полчаса после того, как сел Матийцев, он сдвинул кепку со лба и очень внимательно пригляделся к новому здесь для него человеку, так внимательно, что Матийцеву стало, наконец, неловко и он спросил:
– Вздремнуть изволили?
Спросил, чтобы что-нибудь сказать, но увидел, как сразу оживилось заспанное лицо и как уперлись в него оловянные, мутные еще глаза.
«Кажется, немец, колонист», – подумал о нем Матийцев и только что успел это подумать, как услышал:
– Вы говорите по-немецки?
Матийцев невольно улыбнулся тому, что этот немец принял его спросонья тоже за немца. В гимназии он учился немецкому языку, мог читать немецкие книги (конечно, с помощью словаря), мог понимать немецкую живую речь, но с трудом составлял немецкие фразы. Поэтому, как ни захотелось было ему вдруг прикинуться шутки ради немцем, сказал:
– Нет, – ни бельмеса не смыслю.
– Это очень неприятно, хотя… Я могу, конечно, говорить и по-русски… Я – изобретатель, как это называют по-русски. Я такой аппарат изобрел для мельчения овощей, фруктов, тому подобное… И сам министр руку мне жал, и от него я серебряную медаль получил, – как же!.. И граф Келлер заказал мне четыре аппарата сделать!
«Не сумасшедший ли этот немец?» – подумал Матийцев, но, приглядевшись к худощавому, гладко выбритому лицу, не больше как сорокалетнему, решил, что он только очень убежден в своих достоинствах.
Немец же сделал тут паузу, как бы ожидая, не закажет ли и этот случайный его спутник по вагону пятого аппарата для измельчения овощей и фруктов, раз четыре заказал не кто иной, как граф Келлер. Но Матийцев молчал, да кроме того, проходивший в это время по вагону кондуктор, весьма бравого вида и чрезвычайно краснолицый, внушал мамаше Димочки:
– Коротко и явственно вам говорю: не выскакивать на полустанках!
– Ну, а если мне нужно? – не сдавалась та.
Но кондуктор не удостоил ее длинной беседы; он только повторил выразительно:
– Коротко и явственно сказано! – и пошел дальше.
Когда прошел кондуктор, немец продолжал:
– Вам, может быть, это не так хорошо известно, что надобно пережевывать пищу семьсот двадцать раз?
«Явный сумасшедший!» – убежденно подумал Матийцев, но спросил как мог спокойнее:
– Я, должно быть, ослышался? Мне показалось, будто вы сказали «семьсот двадцать» раз?
– Да ведь я же специалист в этом деле, а не то что! Семьсот двадцать, да, и только таким образом, как говорится по-русски, пища может называться; она есть вполне пережевана вами!
– Это при полном отсутствии зубов, что ли? – попытался догадаться Матийцев.
– Нет, нет! Это нет!.. Это именно, именно вот в вашем возрасте, например!
И немец посмотрел на него строго и поднял указательный палец к своему жесткому подбородку. А потом торопливо добавил:
– Даже пиво, даже чай, – тому подобные жидкости, – тоже необходимо жевать!.. В чае тоже есть теин, – прочее тому подобное… А клетка мясная, она-а… она уж в животном, – бык, например, баран, – до высшей дошла своей интеллигенции… Вы понимаете, что я хочу сказать? Может быть, сказать по-немецки? Это – оч-чень важный положений!
– Ничего, все понятно, говорите по-русски, – отозвался на это Матийцев.
– Она – старая, – вот я что хочу вам сказать, а зачем питаться старым? Тогда как… клетка шпинат, например, спаржа, – она-а до такой интеллигенции не дошла! Она-а считается так: молодая клетка.
«А-а, это – вегетарианец!» – подумал Матийцев: немец же между тем продолжал:
– Яблоки, например, – масса железа, масса!.. Фосфаты. Но только… (Тут он опять посмотрел строго и поднял палец.) Только не чистить кожицу, нет!.. Сидят профессор Винтергальтер и наш, русский, за границей, в Лейпциге, в сквере… Наш, русский, чистит яблоко ножом, а профес-сор Винтергальтер трет его об рукав костюма… Трет, – ну, может, какая соринка, пылинка, – как это называется по-русски, – не знаю, как это вам объяснить лучше…
– Ничего, все понятно, – поощрил его Матийцев.
– И во-от только наш русский приготовился, – ам! – яблоко это в рот класть, – профессор Винтергальтер ему: «Бросьте! Бросьте, – говорит, – и это тоже!.. Самый лучший, питательный вы бросили, – кожицу, а это – дрянь! Бросьте, я вам говорю, и это!»
И немец при этом так увлекся, что сделал энергичный жест, как будто хотел выбить яблоко из рук Матийцева, державшего спокойно руки на коленях.
– Обо мне в русских газетах писали как о пионере, как бы сказать, в этом деле, в питании! – с важностью добавил он. – В немецких газетах тоже были заметки… В немецкие газеты я сам тоже посылаю свои корреспонденции о русский народ, русский ландшафт, – тому подобное… Пишут мне оттуда, из-за границы: «Давайте больше! Давайте чаще!..» Но-о, главное, жена не понимает (тут он сделал гримасу), что это – ра-бота тоже, а не то что… какие-нибудь шуточки… И все мне мешает, все мешает!.. Но-о, – будто спохватился он, что сказал лишнее, – вы не подумайте, ради бога, что я это серьезно насчет своей жены! Не-ет! Я это просто ради одной веселой шутки… дружеской…
И, как будто желая замять неловкость свою, которая вплела в разговор зачем-то еще и жену, немец продолжал без видимой связи, но с воодушевлением:
– Доктора-аллопаты что прописывают вам от ревматизма? Салицилку? Ха! Возьмите вы сок красного бурака, о-он, сок этот, – как бы выразиться… растворяет? Так я говорю?.. Кристаллы мочевой кислоты вдвое, втрое, вчетверо лучше, чем салицилка!.. Шпинат возьмите – это… это гениальное кушанье!.. Сколько в нем веществ, как бы сказать… обрабатывающих кровь!.. Конечно, эскимос, например, о-он – салоед, сало пожирает от холода, как вообще отопляющее вещество… Но он, эскимос этот, к чему он вообще способен больше – я хочу, чтобы вы сказали?.. Энергия вся куда идет? Чтобы переваривать пищу такую: сало моржа, например, кита, тому подобное… О-он пищеварит, а чтобы мы-ыслить мог, – не-ет!
Тут немец помахал перед своими глазами пальцем и сморщил презрительно все лицо, но тут же преобразил его, продолжая:
– Возьмите же теперь южные народы: малайцы, например, негры даже, – о-о, это очень хи-итрый народ, очень жи-ивой народ! Почему же так? – Корне-плоды! Фрукты? Овощи!.. Рис!.. Бананы!.. Можно, конечно, питаться и одними даже яйцами без ничего, только их, знаете, оч-чень много надо: сорок пять штук в день!
– Ну, это вы уж, кажется, чересчур хватили! – заметил Матийцев. – Сорока пяти яиц в день и съесть невозможно. Впрочем, может быть, вы воробьиные яйца имеете в виду, – тогда не спорю.
Немец, однако, не только не обиделся этим замечанием, но как будто даже не расслышал его (впрочем, в это время как раз и гармонист что-то такое пел и мамаша Димочки что-то кричала).
– Переходите на гомеопатию с аллопатии, которая есть шарлатанство, и с мясной пищи на растительную, – и вот тогда… тогда двадцать лет с себя скинете! – повысил голос немец, чтобы можно было хорошо его расслышать. – Я в этой области – авто-ритетная являюсь личность!
Потом он как-то заерзал на месте, огляделся по сторонам и, придвинув голову и плечи поближе к Матийцеву, заговорил теперь уже несколько тише:
– Я также и в «Кельнише цайтунг» пишу насчет угольных шахт, насчет урожая, – прочее подобное… Вот японская война, например… Ведь это же позор для нас, русских, а?.. Азиятское государство, – и когда же стало оно культурное, я вас спрошу? А какие успехи? – Рис, овощи, фрукты!.. И оч-чень мало едят, оч-чень мало!.. А какую показали энергию, а?
С полминуты он смотрел на Матийцева спрашивающими и ожидающими ответа глазами, но, ничего не услышав в ответ, продолжал теперь уже почти шепотом:
– А если Германия с нами начнет войну, то что это такое будет? Погром! Разгром!.. Или, как бы это выразиться… Я плохо знаю русский язык… Ну, это будет не меньше, чем настоящая катастрофа для нас!
И, сказав это страшное слово, немец выпучил свои оловянные глаза, как бы сам чрезвычайно испугавшись, выпятил губы, медленно покачал головою в знак сокрушения и подпер рукой левую щеку в виде предела охватившей его скорби за Россию.
– Позвольте, а почему же вы заговорили вдруг о возможной войне Германии против нас? – поневоле тихо, в тон ему, спросил Матийцев немца.
– А что же это, разве вы, интел-лигент-ный человек, совсем не читаете газет?
– «Кельнише цайтунг» я не читаю, конечно, – несколько обиженным тоном ответил Матийцев, – но кое-какие свои, русские…
– И что же? И ничего не находите в них касательно войны на Балканах? – перебил немец.
– Война на Балканах?.. Да-а… Там сначала воевали славяне и греки с турками… по исторической традиции, потом стали воевать между собою… Это уж, кажется, вне традиций.
– И что же вы думаете, что наша Россия не вмешается в эту войну? – очень живо подхватил немец. – Ведь у нее тоже есть эта традиция: как только болгары там, сербы там, греки, – разный балканский народ начнет войну с турками, так сейчас же должна выйти к ним помогать и наша Россия!.. А рядом же с сербами Австрия!.. А у этой Австрии союз с кем?
– С Германией, вы хотите сказать… Да, конечно, с Германией… Да ведь кончено уже там все, на Балканах, – досадливо даже, как в сторону жужжащего около шмеля, махнул рукою Матийцев; но немец тоном какого-то заговорщика почти прошептал:
– А вам это оч-чень хорошо известно, что совсем кончено?
Матийцев подумал и сказал:
– Разумеется, я знаю только то, что печатается в наших газетах.
– Вот! Именно вот! – подхватил немец. – Что позволяется печатать в наших газетах русских!.. Цензура, – вот! Поэтому не пишут в газетах!.. А зато говорят, – говорить цензура запретить не может.
– Говорят разве?.. Кто же говорит? – удивился Матийцев.
– Как же так это вы? – удивился в свою очередь и немец. – Вы не слыхали, что говорят?
– Ни одного слова нигде, – вполне искренне сказал Матийцев и в то же время обеспокоился этим, между тем как немец глядел на него недоуменно, объясняя ему:
– Я работаю, вы тоже работаете, и нам поэтому, выходит, некогда говорить о какой-то там вообще войне, а кто совсем не работает, а денег у себя имеет много и в третьем классе не ездит, вот те-е… Вы где же именно работаете?
– На руднике… инженером, – не сразу ответил Матийцев.
– Ну, вот, – вот теперь я понимаю! – почему-то просиял немец. – На руднике, – это, значит, там, в земле, а с кем же там могли бы вы говорить насчет войны?.. Но, однако, однако, куда же, – давайте дальше посмотрим с вами, – куда же идет ваша железная руда, интересуюсь я знать?
– У меня не руда – уголь.
– Очень хорошо, уголь! – подхватил немец. – Но он все-таки может идти в такую Тулу, где у нас в России оружейные заводы… А между тем, – вы должны это знать, – ору-жей-ные заводы наши теперь работать должны ин-тен-сив-но, вот! Ин-тен-сив-но!
– Гм… Может быть… Может быть, так они и работают, – согласился Матийцев. – Но знать этого я не знаю… Полагаю только, что неудачная война с Японией должна же была кое-кого научить.
– Ага! Вот! Именно, вот! – возликовал немец. – Наша Россия должна опыт этот свой там, в Маньчжурии, – как это говорится… (тут он усиленно зашевелил пальцами) применить, – вот!.. При-ме-нить, – вот это самое слово!
– И применяют уж, я думаю, а как же иначе?
– Применяют? Вы знаете?.. А что же вам именно об этом известно?
Немец так впился ожидающими глазами, что Матийцеву стало даже почему-то неловко, когда пришлось ответить:
– К сожалению, положительно ничего неизвестно.
– Ну, как же вы так? – осуждающе покачал головой немец. – Интеллигентный человек, инженер, и вот… ничего не знаете?.. А кто же у нас тогда в России знает? Вон тот муж-жик или вон та баб-ба знает?.. А когда Франц-Иозеф Боснию-Герцеговину хапнул (немец сделал тут соответственный хищный жест), тогда еще был жив Столыпин, премьер-министр, и вы, может быть, знаете, что ему говорили другие министры тогда (тут он перешел на шепот): «Откроем войну!» А он им, Столыпин, премьер-министр: «Какие же теперь у нас в России есть солдаты, чтобы воевать? Пьяное муж-жичье, граб-бители, – это разве есть солдаты? Не можем мы теперь воевать, нет!» Вот что сказал тогда Столыпин, премьер-министр!.. А теперь можем, а?.. Сколько же с тех пор прошло времени? Пять каких-нибудь лет? Теперь можем, а?
– Не знаю, – добросовестно подумав, ответил Матийцев. – И зачем нам воевать – тоже не знаю.
– А я же вот знаю, что… многие наши русские офицеры, какие были в ландвере, – в «запасе» это говорится по-русски, – те стали добиваться выходить в ландштурм, в отставку, а? Это что значит? Это значит, они думают, что их тогда уж в армию не возьмут – вот что это значит!.. О-о-о! (покачал головой презрительно). Такая война может начаться, – всех возьмут. Всех, – вы увидите!.. И меня возьмут, и вас также! Всех!..
И немец, преисполненный всепоглощающей важностью своих знаний близкого будущего, вдруг с большим не то презрением, не то озлоблением даже пристально посмотрел на своего ничего не ведающего собеседника, и Матийцеву стало ощутительно неловко оттого, что он – полный невежда в вопросах войны, что он ничего не замечал военного около себя, не интересовался совсем и тою войной, какая велась на Балканах… Просто ему ведь, казалось как-то даже вполне естественным, что на Балканах – война: народы там живут такие драчливые, поэтому и часто дерутся. И немец, которого он зачислил уже было в маниаки от вегетарианства и гомеопатии, вдруг повернулся к нему теперь другим лицом, как древнеримский двуликий Янус.
Пусть даже это была его другая мания – явная возможность близкой уже войны в Европе, но о чем же напишет он завтра в свою «Кельнише цайтунг»?.. О том, что русские инженеры, – тоже интеллигенты! – полные невежды в вопросе: может ли их родина вести новую, – теперь уже с немцами, – войну или совершенно не может?.. Что политически они даже не умеют и мыслить, – не приучила их к этому даже и позорнейшая для России война с Японией и, – что всего непостижимее, – революция 1905 года!.. Поэтому, значит, просто, придите Франц-Иозеф и Вилли II и возьмите то, что до вас взяли уже всевозможные бельгийцы, французы, англичане, да и ваши же бесчисленные немцы, включая сюда и колонистов.
И перед своим оживленным соседом, с оловянными глазами и гладко выбритым лицом, Матийцеву, который вошел в этот вагон победителем, стало совершенно не по себе.
Он поглядел на малого с гармоникой, на мамашу Димочки, на бабу в линялом розовом платочке, продолжавшую толковать о своей «нравной» телке, у которой оказались еще какие-то художества, кроме неприязни к люцерновому сену, и, сказав немцу: «Скоро моя станция, – до свиданья!» – вышел на площадку вагона, хотя до станции было еще не меньше как четверть часа хода поезда.
А когда остановился поезд и он медленно проходил в толпе к дверям станционного домика, он увидел, как Димочкина мамаша атаковала какого-то смиренного вида дядю и кричала:
– Ну, вы не отпирайтесь, пожалуйста! Мы-таки с вами земляки, – как я вас не меньше двадцати разов видела в нашей Новой Маячке!
Когда в квартиру свою при руднике вошел Матийцев, Дарьюшка даже всплеснула руками от неожиданной радости.
– А мне-то наши буровили в одно слово, – запричитала она, – не иначе как цельный месяц отсидеть вам!.. Или это опосля когда посадят?
– Нет, оправдали, – сидеть не буду, – объяснил Матийцев и увидел, как она сразу возгордилась им.
– Ну, а как же еще и в самделе-то? Что же они, слепые, что ли, – не видели, что вы рабочих людей вон как жалеете, а не то чтобы их губить хотели!
– Поесть ничего нет? – спросил Матийцев больше затем, чтобы дать другое направление ее мыслям.
– Злодейка я: ничего не готовила нонче, а сама только хлебушка за чаем пожевала! – стала было причитать в другом направлении Дарьюшка, но, воспомнив про чай, тут же пошла на кухню ставить самовар, а Матийцев, раздевшись и походив из угла в угол, присел к столу, чтобы написать письмо матери в Петербург о том, как его судили и оправдали.
Он написал было уже «Присяжные вынесли мне оправдательный вердикт»… но письму этому не суждено было дописаться, как когда-то и другому, «предсмертному». Не постучавшись, как обычно он делал, в комнату вошел штейгер Автоном Иваныч.
Матийцев ожидал, что он сейчас радостно будет поздравлять его «с приездом» и «с оправданием» и, может быть, от полноты чувств дойдет до того, что его даже обнимет, но шумоватый донской казак этот вошел почему-то тихо и заговорил от двери, как бы извиняясь.
– А мне ребята сказали, будто вы приехали, – видели вас, – вот я и зашел проверить: не зря ли наболтали… Здравствуйте!
И с подходу он протянул ему свою широкую костистую татуированную руку.
Когда же уселся к столу, продолжал без заметного оживления, казалось бы вполне подходившего к случаю:
– Насчет Божка я слыхал: говорили, будто снисхождение ему дали, – полгода всего, – это, конечно, суду виднее, чем нам; ну, а ваше-то дело как же?
– Как видите, оправдали, – немногословно ответил, приглядываясь к нему, Матийцев.
– Оправдали? Вчистую?.. Это что же, – состав присяжных такой оказался?
Матийцев полагал, что его бравый помощник развеселится при этом, может быть, и кулаком по столу стукнет: знай наших!.. Но он только поднял на него понурые почему-то глаза. Поэтому, чтобы все же дать ему почувствовать обстановку оправдания своего, Матийцев теперь уже подробнее рассказал, как удалились в совещательную комнату присяжные и как вынесли оттуда не больше чем через пять минут свое заключение: «Нет, не виновен!»
А так как ему показалось, что штейгер слушает его недостаточно внимательно и больше глядит на угол стола, закапанный чернилами, чем на него, своего непосредственного начальника, то он добавил нескрыто обиженным топом:
– Вы, Автоном Иваныч, как будто даже недовольны тем, что меня оправдали!
– Я? Как это? Я? Что вы! – вскинулся было после этих слов штейгер, но не улыбнулся при этом, а смотрел как-то очень неопределенно, растерянно.
– Вы как будто хотите мне что-то сказать неприятное, да не решаетесь, а? – догадался наконец Матийцев.
– Да ведь я что же могу вам сказать, раз сам я только краем уха слыхал, – опять глядя на чернильные пятна, пробормотал Автоном Иваныч. – По-настоящему это вам главный наш инженер должен сказать, а я и сам-то ничего в этом не понял.
– В чем ничего не поняли? – спросил Матийцев настороженно, почувствовав теперь уже что-то скверное для себя в этих глухих намеках.
– Ну, мало ли что наболтают люди! – махнул рукой Автоном Иваныч, не поднимая, однако же, глаз.
В это время Дарьюшка внесла бурно кипящий самовар (он был небольшой и закипал быстро); а так как Автонома Иваныча она почему-то недолюбливала и теперь еще к тому же не заметила, как он вошел, то тут же, не оставшись для разговоров, убралась снова на кухню.
Матийцев, привычно заварив чай, ждал, не развернется ли свернувшийся как еж, штейгер при виде бойко клокочущего самовара, но, не дождавшись, спросил сам как мог спокойнее:
– Что же все-таки люди вам обо мне наболтали? – И, вдруг догадавшись, добавил: – Это не по поводу ли суда над Божком?
– Вот видите, вы сами, значит, знаете, на какой колокольне звонили! – качнул головой кверху штейгер. – Именно на этой самой!
– Да, я действительно говорил, – согласился Матийцев. – Не знаю, что вам болтали, а я говорил, что надо было сказать… Я ведь и должен был там, на суде, говорить, как потерпевший, – вот и говорил. Но разве мне поставили там это в вину?.. Прерывал меня, правда, раза три председатель, значит, это входило в круг его обязанностей, и только.
– Вот видите, видите, как! – поморщился штейгер и поскреб пальцем за ухом. – А зачем было вам говорить лишнее? Сказали бы, как что было, и квит!.. И ничего бы такого с вами тогда не случилось!
– А что же все-таки случилось? – спросил Матийцев, теперь уже надеясь получить ясный ответ.
Однако штейгер только пожал плечами и, отхлебывая горячий чай из стакана, снова замямлил уклончиво:
– Вот об этом же я вам и говорю, – к Безотчетову вам следует сейчас, чтобы зря себя не томить.
И, допив свой стакан просто, видимо, так, ради приличия, он заторопился почему-то уходить, сказав, впрочем, совершенно таинственно уже в дверях:
– Если будете продавать «Горное искусство», то уж вы другому никому не продавайте, только мне.
Матийцев вспомнил, что он хотел и раньше купить у него эту толстую, весьма обстоятельную, хорошо изданную книгу, но не понял все-таки, почему он теперь напоминает ему об этом. Понял это он только тогда, когда тут же после чая попал к Безотчетову.
Обычно вежливый с ним, теперь Безотчетов встретил его как-то отчужденно. Только взглянул на него хмуро, исподлобья, но не приподнялся со стула, когда он вошел, даже и руку ему подал не сразу и нерешительно, точно намеренно захотел оскорбить его этим.
– Вы что это там начудили в суде? – спросил отрывисто и глухо. – Садитесь… Доложите.
«Доложите» – было новым словом для Матийцева: раньше Безотчетов в разговоре с ним никогда не пускал его в ход. Почувствовав себя оскорбленным этим словом, Матийцев вздернулся.
– Докладывать вам!.. О чем же я должен вам докладывать?
В висках у него застучало, и он почувствовал, что краснеет от оскорбления.
– Можете и не докладывать, впрочем, – сухо заметил Безотчетов. – Я о вашем выступлении извещен довольно подробно.
– Извещены! Вот как?.. Кто же вас успел известить? – удивился Матийцев.
– Как это «кто»? Правление, конечно, – уничтожающе глядя, ответил Безотчетов; но, должно быть, волнение, охватившее Матийцева, было замечено им, потому что продолжал он, уже значительно смягчив тон:
– Контузия головы, да, – этот довод я приводил правлению, но значения ему там не придали. Контузия, там сказали, одно, а пропаганда социалистических идей да еще где – в зале суда – это уж совсем другое… Это уж совсем другое… Да ведь и так сказать: контузия, полученная вами при обстоятельствах мне известных (и правлению тоже), должна бы была, вполне логически, привести вас к выводам совер-шен-но противо-положным тем ужасным выводам, какие вы сделали на суде!
На слове «ужасным» Безотчетов сделал ударение и даже пристукнул это слово указательным пальцем о свой письменный стол.
– Насколько я вас понял, вы получили обо мне какой-то приказ из правления? – спросил Матийцев.
– Да, конечно, разумеется, а как же иначе? – как бы удивился такому наивному вопросу Безотчетов. – Разумеется, там нашли, что вы для нашего дела больше уж не годитесь… «Если, сказали, это – следствие контузии головы, то следует основательно полечиться в клинике нервных болезней… А шахту передать другому инженеру, – здоровому».
– Так что мне, стало быть, остается здесь теперь только одно: передать шахту новому заведующему? – спросил, поняв, наконец, все, Матийцев.
– Н-нет, для этого мы вас не будем задерживать, – небрежным тоном сказал Безотчетов. – Шахту я пока что передал в заведованье вашему штейгеру, а что касается нового инженера, то-о… его обещали прислать без промедления. Новый приедет, значит, не сегодня-завтра.
– Выходит, что я удален в самом спешном порядке, – с усмешкой отозвался на это Матийцев. – Очень любопытная поспешность!
Усмешка его взвинтила вдруг Безотчетова.
– А вы что же думали! – повысил он голос и вытаращил глаза. – Разве может здраво-мыс-лящий человек думать, что после такого выступления в публичном месте, да еще где именно – в зале суда! – он может остаться, как и был, заведующим шахтой? О двух головах вы, что ли?.. Вы что там изволили проповедовать? Что не уголовный тип коногон этот Божок на вас напал, а вы самолично на него напали! Не он вам голову размозжил, а вы ему?.. Хо-ро-шо говорили, нечего сказать!.. И что мы тут все, – инженеры и хозяева, – звери, людоеды, а шахтеры – мальчики-паиньки, ангелочки без крылышков! И что если они нас не будут убивать и увечить, то в России угля не будет для прогресса, и все заводы и железные дороги должны будут стать!..
– Я-то этого, разумеется, не говорил, – это вы говорите, – перебил его Матийцев.
Но Безотчетов продолжал:
– Что бы вы там ни говорили, вывод был сделан ясный, да другим он не мог и быть… Одним словом, с сегодняшнего дня вы свободны и можете ехать куда вам будет угодно!
Матийцев выслушал все это уже спокойно, при последних словах Безотчетова поднявшись со стула. Он вспомнил только, что жалованье свое до конца месяца получил перед поездкой на сессию окружного суда и что при этом Безотчетов вычел у него в уплату долга ему пятьдесят рублей, как это было между ними условлено, так что осталось теперь уплатить ему только полтораста. Однако, хоть и полтораста, как же все-таки быть ему с отдачей этого остатка долга?
Об этом он спросил Безотчетова, приготовясь уже уходить.
– Долг, да… Долг, как говорится, платежом красен. Погасите, когда поступите куда-нибудь на место, – сказал Безотчетов уже гораздо более сдержанным тоном; а побарабанив пальцами по столу, добавил: – Долг ваш – карточный, а карточные долги порядочные люди выплачивают предпочтительнее перед всякими другими.
– Как так карточный? – не понял его Матийцев.
– А так, очень просто, – пояснил он. – Хоть и не со мной лично вы играли там, в Ростове, однако же на мои деньги, – вот что-с. Вы их проиграли, значит, за вами не просто долг, а карточный.
– Ваши деньги я не проиграл, – их у меня украли, как я вам и говорил! – резко сказал Матийцев. – И откуда вы взяли, что я играл в карты в Ростове?
– Откуда взял! – Безотчетов сощурил глаза до совсем узеньких щелок. – Добрые люди написали!.. Тот самый Мирзоянц, которому я вас просил передать деньги, пятьсот сорок рублей!.. Вы обе-ща-ли их передать ему, Мирзоянцу, но… нашли им другое применение!
– Мирзоянц!
– Да-с, Мирзоянц!.. Когда вы вели свою сумасшедше-крупную игру в Коммерческом клубе, то даже спрашивали у одного из игроков, не он ли этот самый Мирзоянц!
После этих слов Безотчетова Матийцев с большою ясностью припомнил, что так именно и было, хотя проигрывал он тогда свои сбереженные восемьсот рублей, а не пятьсот сорок рублей Безотчетова; что у кого-то он действительно спрашивал о том, кто сорвал тогда банк: «Не этот ли Мирзоянц?» А спрошенный ответил: «Нет, это Аносов». Припомнив это, Матийцев тут же повернулся и пошел от Безотчетова, не считая нужным с ним прощаться.
Теперь, когда все стало для него понятным в разговоре с ним Автонома Иваныча, он припомнил, как тот упомянул и насчет книги «Горное искусство», чтобы никому она не была продана, кроме него. Не только эту книгу, кое-что и другое приходилось ему здесь продать, если бы нашлись покупатели: денег на отъезд у него не было. Между тем именно его, Автонома Иваныча, встретил Матийцев на рудничном дворе, идя к себе от Безотчетова: он, значит, совсем не спускался в этот день в шахту и не иначе как ждал, чем окончится объяснение Матийцева с главным инженером.
– Ну что? – спросил он, как бы тая еще надежду на то, что его начальник останется и снова будет заведовать «Наклонной Еленой».
– Берите у меня «Горное искусство», – ответил Матийцев. – А может быть, и еще что-нибудь возьмете? Костюм, зимнее пальто… Да ведь и еще есть у меня книги по горному делу, – выручайте: денег на отъезд у меня никаких нет.
– И выручу! А что же, не выручу, вы думаете? Выручу! – с подъемом сказал Автоном Иваныч. – Я от вас за год с вами работы ничего худого не видел!.. Вот только насчет денег как, не знаю, – есть ли у меня с собою…
И он вытащил из кармана кожаный кошель и заглянул в его нутро.
– Ну как? Есть что-нибудь?
– Э-э, хватит! – бодро ответил Автоном Иваныч. Так же бодро он отбирал в квартире Матийцева нужные ему книги по горному делу и всесторонне рассматривал его теплое пальто с каракулевым воротником.
Дарьюшки в это время не было дома: она ушла на рынок за провизией для обеда. До ее прихода успел управиться и Автоном Иваныч, унеся в завязанной узлом простыне все, что купил у Матийцева, и оставив своего бывшего начальника счастливым обладателем нескольких десятков рублей.
Дарьюшка вернулась со своей корзинкой усталая, с потным раскрасневшимся лицом, но с явным сознанием исполненного долга, но только что начала перечислять и показывать, что она купила и сколько за что дала, как хозяин ее сказал ей кротко:
– Вот что, Дарьюшка: я сегодня обедать не буду, – я сейчас уложу чемоданы и поеду на станцию.
Когда человек изумляется, он на мгновение как бы каменеет: так окаменела, услышав это, и Дарьюшка. Только выйдя, наконец, из окаменения, она прошелестела:
– Это куда же еще уезжать вам?
– Куда уезжать? – повторил ее вопрос Матийцев и непроизвольно как-то стал глядеть на нее очень внимательно, точно стремясь навсегда запомнить ее такую, какова она вот теперь, – узкую к голове, широкую книзу, – в полосатой лиловой когда-то выцветшей кофте и коричневой юбке, с серебряными сережками в ушах, с двуцветными от загара гусиными лапками около глаз, часто слезящихся от въевшегося в них кухонного дыма; с небольшим кое-как наскоро слепленным носом и широкими, вдавленными уже от беззубости губами.
– Куда именно уезжать, я еще не решил, признаться, – отвечал он, хотя и продолжая глядеть на нее, но как бы говоря вслух с самим собою. – Да об этом подумать будет еще время и до станции и на станции… Можно будет поехать в Харьков, через Лозовую, но можно и в Ростов… Соображений много всяких и теперь, а когда выеду отсюда, их появится еще больше…
– То есть как же это выходит? Едете, значит, сами не знаете куда? – удивилась теперь уже Дарьюшка так, что это было равно испугу.
– Да, выходит, что точно, определенно не знаю, – подтвердил Матийцев, – и потому это выходит, что уезжаю совсем.
– Сов-сем? – Дарьюшка взмахнула, как для полета, руками и сложила их на животе, а глаза ее сразу переполнились до отказа слезами, и когда она пролепетала одними губами: – Как же это совсем? – то Матийцев больше догадался об этом, чем услышал.
– Очень просто, Дарьюшка, – сказал он поэтому громче, чем говорил обычно. – Ведь меня уволили с рудника.
Вот только когда Дарьюшка всплеснула руками, и слезы теперь уже покатились по ее щекам на складку пониже подбородка.
– Да как же это они смели, злоде-еи! – проголосила она.
– Так и смели… Шахта ихняя – смелости тут очень большой и не надо…
Говоря это, Матийцев вытащил чемодан, стоявший у него под койкой, и поставил его на стул, добавив к своим действиям объяснение:
– Раз уволили, значит, надо укладывать свои пожитки и казенное помещение очищать.
Вдруг тень какая-то упала через окно в комнату. Матийцев вскинул глаза к окну и увидел тут же за ним высокую женскую фигуру: не по-рудничному изящно одетая женщина в шляпке с очень широкими полями стояла спиною к окну. При этом она как будто спрашивала кого-то невидного отсюда, концом зонтика показывая назад, на то самое «казенное помещение», какое он освобождал.
Что-то очень знакомое почувствовалось Матийцеву, когда он глядел на картинно-стройный стан этой новой на руднике женщины, а когда она повернулась лицом к окну, то увидел, что это была Лиля, или, как он теперь назвал ее про себя, – Елизавета Алексеевна, – та самая, которая в письмах к нему подписывалась одною только буквою «Э»…
Это было так неожиданно, это было так необъяснимо, это было так неестественно наконец, что показалось сном, и он непроизвольно тряхнул головою, чтобы убедиться, что не спит, бодрствует, только что достал чемодан из-под кровати, готовясь уложиться и ехать.
– Кажется, Дарьюшка, ко мне кто-то приехал, – какая-то… дама! – сказал он с усилием и вполголоса, несколько запнувшись перед словом «дама».
Но Дарьюшка и сама, хоть сквозь слезы, заметила какое-то мелькание перед окнами и с неожиданным для Матийцева проворством вышла из комнаты. Он подумал: «Не приняла ли она этот приезд за приказ начальства не увольнять меня?..» И только успел подумать это, как услышал певучий вдруг почему-то Дарьюшкин голос:
– Здеся, здеся они живут, красавица, зде-еся!
Он весь так же замер окаменело, как только что Дарьюшка, и вот в его комнате, где лежал раскрытый чемодан на стуле, появилась та, которая владела всем его существом несколько месяцев назад, совершенно не нуждаясь в этом, тяготясь этим, пожимая недоуменно узкими покатыми плечиками…
Те же были узкие, покатые плечи, та же брезгливая складка на красиво изогнутых губах, тот же несколько излишне-резкий голос, каким она сказала с прихода брезгливые слова:
– Ну и мерзко же тут у вас, прямо ужас!.. И квартиришку вам дали какую гадкую!.. Здравствуйте!
Она протянула ему руку в кисейной перчатке так, как привыкла протягивать, – для поцелуя, но он только пожал ее и то слабо, с какою-то тайной опаской, точно боялся наткнуться на острый шип.
И даже самого его поразило при этом, что ведь коснулся он только что той самой руки, держать которую в своей руке казалось ему верхом счастья так еще недавно, всего несколько месяцев назад!.. Сколько же вошло в него за это время нового, заслонившего в нем всю целиком эту высокую стройную, красивую девушку!..
Но тут же он и поправил себя: «Девушку ли?»… И хотя вскользь, но почему-то глянул на бюст. Однако увидел, что грудь была плоская, узкая, как и прежде.
А Елизавета Алексеевна говорила в это время (так как молчал он):
– Я ехала сюда к вам так долго, – едва добралась: пересадки, – ужас что такое!.. И такое все убогое кругом, хоть не гляди в окна!
И тут же, подняв голову и поглядев на открытую дверь в спальню Матийцева, она добавила с недоумением:
– У вас что же это такое? Только две комнаты, кажется, во всей квартире?
– Да, две комнаты для меня лично… Есть еще комнатка при кухне, – это уж вот для Дарьюшки…
И, сказав это, он кивнул Дарьюшке на входную дверь. Она поняла его и тут же вышла, – вышла, как показалось Матийцеву и потому еще, что догадалась: нет, эта не от начальства, – это не насчет того, чтобы не увольняли.
Елизавета Алексеевна была в дорожном жакете синего цвета; сложный крупный бант на ее шляпке был тоже синий; темно-синим был ее зонтик; из чего-то синего – ожерелье, спускавшееся немного ниже ямки на ее тонкой шее; темно-синей была длинная юбка из тонкой, но по виду шерстяной материи; вуаль, которую она привычно-быстро подколола, когда входила, была тоже в синих звездочках; даже сумочка ее была вышита синим гарусом…
Синий цвет шел, конечно, Елизавете Алексеевне, как блондинке, а Матийцев определял про себя ее всю: «Синяя птица!.. Синяя птица – счастье!..»
Счастье влетело к нему как раз тогда, когда сам он был уже на отлете!.. Счастье, «небесное виденье»… Ему показалось даже совершенно бесспорным, что именно так, – небесным виденьем, его счастьем она и чувствует себя теперь, и только поэтому у нее такой брезгливый вид и ко всей обстановке его и к нему лично.
Она села на стул, но при этом унизительно для него, слишком пристально, прищурясь даже, разглядывала этот стул, – не запачкать бы свою дорожную синюю юбку. И первое, что она спросила, когда села, было о ванне:
– При вашей квартире нет, конечно, ванной комнаты, а где же есть она в вашей этой Голо-пеевке?.. Я ведь запылилась в дороге, – вы понимаете?
Матийцев вспомнил, что когда он сам ехал от станции всего два часа назад, пыли не было, так как в ночь перед этим прошел дождь, ее прибивший.
– Ванну здесь в поселке можно получить только в гостинице «Эрмитаж», у Кебабчиева, – сказал он, удивленный, думая в то же время о корнете кирасирского полка, которого встретил на Пасху у нее в Воронеже.
Глядя на нее, нельзя было и сказать, что она запылилась, и пахло от нее очень знакомыми, любимыми ею духами л'ориган. Впрочем, название этих духов Матийцев вспомнил не сразу: хоть и знакомо, но как-то очень уж далеко от него теперь все это было.
Даже и вся Лиля, какова она была теперь, показалась ему почему-то не то уставшей, не то постаревшей и потому несколько подкрашенной: подведены как будто были брови, подчернены несколько ресницы, и глаза блестели не совсем естественно… Представлялась пипетка и какие-то капли, какими пользуются женщины, чтобы вызвать этот неестественный блеск глаз.
Лиля между тем говорила тем немного высокомерным тоном, каким почему-то и раньше говорила с ним:
– Я в этом учебном году не поехала на курсы, – осталась дома, в Воронеже… Почему? – По причине досадной одной случайности. Я расшалилась – мы играли в горелки, – неудачно как-то перескочила канаву, – там у нас в саду есть такая для поливки деревьев, – упала и повредила руку, – вот эту, левую… И перелома кости ведь не было, а была такая адская боль… Ну, как бы вам сказать… Как при аппендиците, например, помните? Ведь у вас, наверное, был аппендицит?
– Нет, никогда не было, – сказал Матийцев, добросовестно все-таки стараясь представить эту боль ее в левой руке.
– Как же так не было?.. Самая обыкновенная болезнь, у всех бывает, и всем операции делают, и мне делали, – быстро, отчетливо и несколько как бы недовольным тоном говорила Лиля. – Вот еще на какую боль это было похоже: на зубную, только самую сильную! Есть такая, какую можно заговорить; есть такая, какую можно закапать, – всякими там каплями, – между прочим гвоздичными, – а то бывает такая боль, что всю щеку и всю даже голову рвет, и с нею уж никакими каплями ничего не сделаешь, – вот такая боль у меня и была, – вы представляете?
– Не могу, к сожалению, представить, – сказал Матийцев. – У меня никогда не было такой боли.
– Вот как! Опять не было! – как будто даже возмутилась этим она. – Вы еще, пожалуй, скажете, что и зубы у вас никогда не болели! Тогда, постойте, голова! Надеюсь, голова-то у вас болела же когда-нибудь! Так вот припомните самую сильную головную боль вашу – такая и у меня была тогда в руке!
Матийцев почти сказал было: «Голова болела», но это он припомнил потерю сознания, когда его «стукнул» коногон Божок, – это была только муть в голове, а не боль, да еще какая-то «самая сильная», – поэтому, желая быть вполне правдивым, сказал:
– О беспричинных каких-то болях головы, то есть чисто нервных, я, признаться, только слышал, а представить и их все-таки не могу.
– Ну, хорошо, не можете так и не можете! – отозвалась она на это явно раздраженно. – Но боль у меня была адская, – я лежала в постели несколько дней, – и вот тогда я решила на курсы не ехать… И тогда же я решила еще ваше предложение, какое вы мне сделали еще в Москве, принять… Об этом, впрочем, я вам уж писала.
Матийцев вспомнил при этих ее словах игривое письмо ее с искаженными двумя строчками из Ломоносова: «Надежды юношей питают, отраду старцам подают» и с подписью под ними в скобках: «Пушкин»… Очень далеко было от этого письма до теперешнего ее приезда к нему на рудник, и он изумился чрезвычайно, но она не дала ему ни секунды выразить это изумление, – она продолжала своим непререкаемым тоном:
– Это очень гадкое место, эта ваша Голопеевка, и жить здесь, разумеется, нельзя, но вы можете хлопотать, чтобы вас перевели в Харьков, в горное управление… Я уж справлялась об этом у своего дяди: он там значительная персона и для меня может этот ваш перевод устроить… Если только тут вас хорошо аттестуют, имейте это в виду.
Эти небрежно в отношении его сказанные слова пронизали его как острой иглой. Он тоже поднял голову, как и она (до этого держался сутуло), и сказал с усилием:
– Ничего не понимаю, простите!.. И того, что вы говорите, не понимаю, и насчет перевода в Харьков и вашего дяди не понимаю, и приезда вашего сюда не понимаю!.. Решительно ничего не понимаю! Сижу, как в густом тумане!
– Ка-ак так не понимаете? – очень округлила глаза Елизавета Алексеевна и от изумления открыла настолько рот, что Матийцев ясно разглядел у нее вверху слева золотой зуб, блеснувший как будто яростно.
Когда же появился он? Его ведь не было прежде. Это испугало Матийцева: это был как бы первый меткий выстрел времени в ее красоту!.. Золото было, – природное золото, – и в ее густых и длинных, как он знал это, косах, в два ряда облегавших ее небольшую голову; косы остались прежними, но прежде она не подводила бровей и не чернила ресниц…
– Не понимаю, – твердо ответил он на ее вопрос.
– Разве вы не получили двух моих писем, одного за другим неделю назад?
– Нет, не получил. И не мог даже получить.
– Почему не могли?
– Неделю назад меня здесь даже и не было.
– Как не было?.. Где же вы были?
– Ездил судиться за обвал в шахте с человеческими жертвами.
– Судиться… За обвал… в шахте? – медленно повторила она. – Как же это вышло?
– Да, судился, как и полагается это, и приговорен отбывать наказание в Ростове, куда я должен буду ехать… Вот видите, приготовился как раз перед вашим приездом укладывать свой чемодан.
Это было придумано им внезапно, даже, пожалуй, неожиданно для себя самого, но он увидел, что это возымело нужное действие: вид у Елизаветы Алексеевны стал ошеломленный.
– Я приехала к вам, – проговорила она сразу упавшим тоном, – а вы… Как же это так вышло?.. Почему же вам не передали моих писем?
– Не знаю… Совершенно ничего не знаю об этих письмах… А что я начал укладываться, то вот, – и он снова показал глазами на раскрытый свой чемодан.
– Я вам писала, что приняла решение приехать к вам, – резко сказала она. – Меня не пропускал там какой-то стражник в воротах, или кто он такой, не знаю, – но я сказала…
– Да, посторонних людей не пропускают, – вставил Матийцев.
– Но я сказала, что я не посторонняя, а ваша невеста!
Это вышло у Елизаветы Алексеевны сильно, и Матийцев сидел пораженный. Что-то случилось с нею там, в отцовском старом деревянном доме с антресолями, но что именно? Опять мелькнул в памяти корнет-кирасир с теннисной ракеткой в руке, но ведь было там на площадке около дома и еще несколько молодых людей, только в штатском… По случаю Пасхи пальцы Лили были тогда в краске для яиц… Кто был причиной такого неожиданного для него поступка Лили?.. У нее есть отец, мать, братья, как он узнал тогда в Воронеже; с их ли ведома или не спросясь их поехала она к нему одна, в Голопеевку? Затолпилось сразу столько вопросов, что тесно от них стало в голове Матийцева…
– Что с вами случилось? – спросил он ее уже как бы не от себя лично, а в силу нового своего участья к людям, которых жаль, если они страдают, кто бы они ни были, все равно.
– Как «что со мною случилось»? – резко спросила она. – Этому стражнику здешнему я сказала правду.
– Правду?.. То есть как именно правду?.. Невеста – это невеста, а вы?.. – непонимающе бормотал Матийцев.
– Но ведь вы должны были получить мои письма? В конторе здесь, или как это у вас называется?
– Вы думаете, что они попали в мое отсутствие в контору и там… Что там могло с ними случиться? Просто валяются где-нибудь в столе, и о них забыли.
– Если даже так, то почему вы о них не справились?
Тут Матийцеву показалось, что она с большим трудом сказала это, как будто перехватило дыхание от сдерживаемого волнения.
– Если бы мне были письма, то их, скорее всего, принесли бы сюда ко мне, на квартиру, – как бы раздумывая вслух, проговорил Матийцев, – и я их по приезде нашел бы на своем вот этом столе… Может быть, они пропали по дороге?
– Может быть и так: пропали в дороге, – вдруг согласилась она. – Но вот… я приехала к вам, и этого-то уж отрицать нельзя!
– Увы! – почему-то улыбнулся, хотя непроизвольно и еле заметно, одним краем губ Матийцев. – События сложились так, что приходится отрицать даже это… Вы приехали ко мне как к инженеру, заведующему шахтой «Наклонная Елена», а я этой шахтой уже не заведую больше: я уволен.
– Ка-ак так уволены?
Тут не только лицо, все тело ее вытянулось заметно, – он же продолжал, как начал:
– Вы думаете, что сидите в его, заведующего шахтой, квартире, а это уж не его квартира, и в ней, может быть даже завтра, поселится другой инженер.
– Вы… вы это серьезно? – спросила она тихо.
– Совершенно серьезно, – подтвердил он.
– Почему же вы… почему же вы даже не написали мне, что вас увольняют?
Он поглядел на нее пристально, заметил по ее глазам, что она сама понимает, что говорит что-то несуразное, и только развел руками.
Вдруг она поднялась резким движением. Теперь, когда она стояла, Матийцев снова увидел в ней прежнюю Лилю, – московскую и воронежскую, – и даже поднес руку к галстуку.
Она же сказала:
– В таком случае прощайте!.. Извозчик с моими чемоданами стоит у ворот… Его стражник не пропустил внутрь двора, а я приказала этому болвану смотреть за ним, чтобы он не увез мои вещи!
И таким же резким порывистым движением, как встала со стула, она вышла в дверь, и через несколько мгновений мимо окон быстро мелькнуло высокое, прямое и синее.
Матийцев вышел на двор, чтобы посмотреть ей вслед. Она шла тем же картинным четким шагом, как шла когда-то в Москве в первый день их знакомства с выставки, на которой они встретились, и ему так и казалось, что она бросает на ходу свое короткое и непреклонное: «Пречистенка, – двугривенный!.. Пречистенка, – двугривенный!.. Пречистенка, – двугривенный!» – хотя никаких извозчиков здесь и не было.
Когда он повернулся, чтобы уйти к себе, так как скрылась уже за углом Лиля, то увидел: сзади его стояла Дарьюшка.
– Это кто же это такая? – спросила она.
– Это… моя невеста, – ответил с запинкой Матийцев.
– Какая богатая! – умилилась Дарьюшка.
– Богатая или нет, не знаю… Но красивая.
– Писаная! Прямо писаная!.. Вот видите, вы счастливый какой!
И Матийцев увидел, что Дарьюшка расцвела непритворно. Но вот, уже войдя в комнату, она вспомнила, что невеста, писаная красавица, почему-то ушла, а жених даже не проводил ее до ворот, и спросила:
– Куда же пошла-то она? Не к начальству ли, за вас просить, чтоб не увольняли?
– Нет, Дарьюшка, к извозчику, на котором приехала. С ним же и поедет обратно на станцию… Что же касается меня, то я, выходит, должен буду переночевать здесь и ехать только завтра, а то, пожалуй, встречу ее на станции, что было бы совсем уж нелепо… Поэтому готовьте-ка обед, – так и быть: съем ваш последний обед, а потом, завтра утром, завтрак и только после этого поеду!
И он вошел к себе в комнату, снова закрыл чемодан, засунул его под койку, лег на койку лицом к стене и так пролежал до обеда с закрытыми глазами: и не на что было ему глядеть теперь здесь и не хотелось, да и самого себя, каким он был всего какой-нибудь час назад, он не ощущал.
Ни отчетливых образов, ни ясных точных мыслей не было в его голове, когда он лежал теперь, после ухода Лили; кружилась то медленно, то вдруг очень бурно какая-то метель оторопи, совершенно бесформенная.
Он чувствовал только, что произошло с ним что-то непонятное и даже, пожалуй, страшное: что-то вторглось к нему хоть и не через окно, так через дверь и как бы вторично хлопнуло по голове… Потом оно исчезло, но какая же острая боль осталась после его вторжения!.. А между тем ведь это само в руки давалось ему то, о чем он мечтал так долго, и как же так вышло, что он даже не протянул рук, чтобы его взять?
Никого не было рядом с ним – он был один и то негодовал на самого себя, готов был самому себе ломать пальцы, то вдруг говорил самому же себе: «А как же я мог бы поступить иначе? Никак иначе я поступить и не мог».
Однако тут же вслед за этим буйно вспыхивала в нем непростительно упущенная возможность сказать Лиле не то, что он сказал, а совсем другое и уехать с нею в Харьков к этому дяде ее – «важной персоне», представить ему события в гораздо более розовом свете и, немедленно обвенчавшись там, в Харькове, с Лилей, поставить «важную персону» перед необходимостью помочь устроиться мужу его племянницы, чтобы она могла жить в том же Харькове или даже в другом городе, только вполне общепринято-прилично, без малейшей нужды…
Ведь неизвестно было ему, – может быть, Лиля его любила, как-то по-своему, втайне, как подсказывала ей ее натура. Говорила же она, что решение выйти за него замуж приняла, когда у нее болела от ушиба рука, то есть когда ее тоже, так выходит, «хлопнуло», а подобные решения, – он знает это и по опыту своего отца и по своему личному, – самые верные и самые прочные.
Она приехала к нему, приняв прочное решение, а перед приездом писала ему об этом решении… Однако как установить, писала или не писала? Почему она сразу же согласилась с ним, когда он сказал, что письма ее, может быть, и не дошли до Голопеевки, – пропали в дороге?.. Да и что именно могла она написать и каким тоном? Опять тем же шутливым, как прежде? Но ведь слишком серьезен был шаг, какой она решила сделать, чтобы тон этих писем был шутлив. Да, наконец, ведь и в ней самой, когда она появилась внезапно в его квартире, ничего шутливого не было. Она как бы с первых же слов заявила ему, что шаг ее был опрометчив, что она не рассчитала и этот прыжок из Воронежа в Голопеевку, как не рассчитала прыжок через канавку в своем саду… Она появилась уже с готовой болью в душе, быть может, ничуть не меньшей, чем боль в левой руке, о чем она ему говорила… И как стремительно исчезла, чуть только он сказал, что уволен! Даже и не простилась с ним, как за час до ее прихода он сам с Безотчетовым! Просто будто два резиновых мяча встретились в воздухе, ударились один о другой и разлетелись в разные стороны…
В конце концов, он был только правдив с нею, и если бы она не была оскорблена этой его правдивостью, то, может быть, несмотря ни на что, она бы все-таки осталась; но он слишком очевидно для нее подчеркивал, что она его уже потеряла, что даже и для себя самого он теперь уже совершенно конченный человек, что он не знает даже, как и чем будет жить один, а не то что с нею вдвоем, с нею, привыкшей к легкой и радостной жизни… Но, конечно, он все же найдет себе место в жизни. Не сошелся же для него клином свет на какой-то Голопеевке с ее «Наклонной Еленой».
Был такой у Матийцева острый момент тоски по утраченному как-то нелепо счастью, что он даже вскочил с койки, вытащил снова чемодан и весьма торопливо начал укладываться, чтобы тут же, не дожидаясь обеда, ехать на станцию, где можно было еще застать Лилю и объясниться с нею. Однако порыв этот скоро прошел; он, как ни пытался, не мог все-таки представить себе, о чем еще мог бы говорить: все было сказано.
Он представил только одно и очень ясно: Лиля как бы сознательно поторопилась уйти от него, чтобы поспеть к поезду на Ростов и, с пересадкой в Лисках, поскорее вернуться домой. Поэтому он лег снова, так как почувствовал себя вдобавок еще и слабым: в голове мутилось, руки дрожали.
Отбросив мысль догонять Лилю, он стал думать, уже спокойно. Что, собственно, произошло? Только то, что и должно было произойти, так как главным действующим лицом тут была Лиля, а совсем не он. Когда она поняла, что ошиблась, она бежала, и было бы совершенно непонятно и странно, если бы она осталась.
Она ехала к нему за опорой, за поддержкой в беде, так как с нею, очевидно, что-то случилось, кроме ушиба руки, которого, может быть, даже и не было совсем, который, вернее всего, был просто ею придуман взамен другого ушиба, куда более серьезного. А он, только что уволенный инженер, лишен был какой-нибудь, даже самой маленькой возможности ее поддержать.
Да и какую же участь ему-то готовила она, – разве он что-нибудь знал об этом? Почему она вздумала распоряжаться им по своему усмотрению, как половою тряпкой? Как будто его, инженера Матийцева, даже и не существовало самого по себе, а был он только частью ее несложного хозяйства, причем в хозяйстве этом парижский флакон духов л'ориган, разумеется, имел для нее гораздо большую ценность, чем он.
Во многих ярких подробностях припомнил он недавний зал суда, встречу на улице с совсем еще юным и таким уже самоотверженным Колей Худолеем, – и возбуждение, охватившее его, начало падать.
То новое в нем, что он нашел во время суда над Божком, выступило и заслонило властно прежнее, которое воскресло было столь же неожиданно, сколь неожиданным явился приезд Лили.
Между прежним и новым произошел как бы поединок, хотя и короткий, но с напряжением всех сил, и новое победило… И когда Дарьюшка загремела тарелками, готовясь накормить его обедом в последний раз, он вышел к ней из спальни уже спокойным не только с виду.
А когда Дарьюшке вздумалось поговорить поподробнее о его невесте, он, уже улыбаясь ей, сказал:
– Ну что это вы, Дарьюшка, в самом деле? Какая такая моя невеста? Это я просто-напросто в шутку вам сказал, – охота же была вам принимать мою шутку всерьез!
Спать вечером он улегся рано, но долго не шел к нему сон: все не подпускала его беспорядочная работа совершенно беспорядочных мыслей. И несколько раз в эту последнюю ночь в своей квартире он просыпался от каких-то нелепых снов, которых, впрочем, никак не мог вспомнить, когда просыпался. С тяжелой головой поднялся он утром, когда наступил уже полный рассвет.
Поезда из Ростова на Харьков и из Харькова на Ростов должны были приходить на станцию по летнему расписанию почти одновременно, но харьковский поезд почему-то обычно несколько запаздывал.
Выехать из Голопеевки можно было в полдень на другой день, и Матийцев так и сделал, дав себе тем время получше обдумать свое положение.
Когда он вышел из своей квартиры, в которой пережить ему пришлось довольно, он нес один чемодан. Дарьюшка – другой. Чемодан, доставшийся ей, был совсем легкий, и она сокрушенно бубнила на ходу:
– Год прожили, а сколько нажили? Прямо, право слово, правда истинная, и видеть совсем нечего!
Матийцев понимал, что она его вполне искренне осуждает. Действительно ведь: год прожил, большое все-таки, по ее мнению, жалованье получал, но как были с приезда сюда у него два чемодана, так и остались; а мебель в квартире, – самая простая рыночная, – была рудничная… Зачем живет человек на свете? Затем, конечно, думала Дарьюшка, чтобы побольше нажить и деткам своим в наследство оставить, – а он отчего же это не стремился выполнить священнейшие заповеди жизни? Вон какая невеста к нему приезжала – заглядеться можно, а он что же это с нею так обошелся, что она взяла да уехала? Намудрил, говорят, что-то и на суде, а к чему это? Только чтобы и она вот теперь через это осталась без места, без пристанища?..
Весь этот ход мыслей Дарьюшки вполне отчетливо представлял Матийцев, и ее было ему жаль, и, чтобы утешить ее, он сказал:
– Ведь квартира моя пустой не останется, Дарьюшка: не сегодня, так завтра кто-то приедет на мое место, – вот вы и останетесь у него, как у меня были.
– Да, приедет, – забубнила Дарьюшка прежним тоном. – А вдруг он семейный да прислугу свою с собой привезет?
– Может быть и так, конечно, – согласился Матийцев и больше уж утешать ее не пытался.
Теперь он не мог уже рассчитывать на то, что кучер «Наклонной Елены» Матвей Телепнев ожидает его со своим «Живописцем», чтобы отвезти на станцию, – на это он не надеялся; но у ворот обычно стояли или к ним подъезжали на всякий случай извозчики из поселка, хотя, разумеется, могло никого и не быть.
Однако на этот раз его ожидала удача: штейгер с «Вертикальной Елены», по фамилии Наровлянский, как раз в это время укладывал что-то в рудничную бричку, запряженную некрупной, но сытой лошадкой чалой масти и с одним надрезанным ухом. Увидя его, Наровлянский еще издали начал призывно махать ему рукою.
– Вам на станцию, я вижу, да, господин Матийцев? – зачастил он потом. – Ну вот же и очень отлично, и не нужно вам тратиться на извозчика, – в чем дело, да? Ставьте ваши чемоданы сюда вот, и поедемте с вами самым лучшим аллюром, да?
Матийцев встречал его несколько раз, но ему не случалось рассмотреть его внимательно. Только теперь он увидел всего целиком этого плотно сколоченного человека, лет сорока на вид, сероглазого, с белыми ресницами и очень белесыми солдатскими усами, закрученными туго. Сверх легкого летнего пальто на нем была еще и парусиновая разлетайка от пыли, и ухарски сидел на его круглой крепкой голове синий драповый картуз.
Нос у него был длинный, стремительный, посередине с белым хрящом, имевшим вид вытянутого ромба; подбородок резко разделен на две части, а пальцы толстые и куцые.
Так как Дарьюшка расплакалась на прощанье, то тронутый этим Матийцев расцеловался с нею, сняв шляпу, и Наровлянский тоже подал ей руку, приподняв картуз.

Когда же тронулась лошадь, он спросил:
– Это, как мне видно, тетушка ваша, так отчего же она с вами не уезжает, да?
Он оказался очень весело настроен и потому, должно быть, говорлив, впрочем, от него попахивало и водкой.
– Надеюсь я, что нам и по железке вместе с вами ехать придется, господин Матийцев, – в Харьков, да?
Несколько помедлив с ответом, Матийцев сказал:
– Нет, я не в Харьков, а в Ростов, – искать места.
– Ну да, искать места, а как же иначе, – я понимаю, да? – тут же подхватил Наровлянский. – Я эту вашу историю слышал. Была вам охота поднимать на суде какой-то калабалык, – ну да это уж ваше личное дело. А только ведь и в Харькове есть тоже правление, не в одном Ростове, да?
Вместо ответа ему Матийцев сказал:
– Вот по этой самой дороге вчера приехала ко мне и вчера же уехала от меня моя невеста.
– Как невеста? Откуда невеста? Вы это серьезно или шутите, да? – очень удивился Наровлянский.
– Откуда? – безразличным тоном повторил Матийцев. – Из Воронежа.
– То есть, значит, я так должен понять, приезжала к вам из Воронежа, да?
– Да. И туда же уехала, так как здесь, на руднике, и для меня-то, не только для нее, не было уже места.
– Вы, может, шутите, господин Матийцев, или даже смеетесь, да? – решил усомниться Наровлянский, но Матийцев не обиделся: он сказал с виду совершенно равнодушно:
– Нет, я вполне серьезно.
– Однако позвольте тогда узнать от вас, почему же она уехала одна, вы ее не провожали, да?
– Значит, по-вашему, я должен был уехать вчера с нею вместе?
– Ну, это же и всякий вам скажет, а как же? Как же так вы могли пустить ее одну, да?
После этих назойливых вопросов штейгера с «Вертикальной Елены» Матийцеву представилось, что вот он именно теперь «провожает» Лилю, свою невесту, явочным порядком, что это она сидит с ним рядом, а не какой-то Наровлянский, и он даже несколько отклонил влево и голову и корпус тела, чтобы дать место ее очень широкополой шляпке… Но тут же отделавшись от этого чересчур яркого представления, он сказал нарочито небрежным тоном:
– Проводить куда же именно? В Воронеж?.. Как инженер без места, какой же я ей жених? Найдет кого-нибудь другого… с местом.
– Я понимаю теперь, я понимаю! – весьма оживился Наровлянский. – Вы, значит, извините, поссорились с вашей невестой, да?.. Ну, как сказать вам на это, – жен-щи-ны, они, я вам скажу вообще… Да? У них у всех одно только единственно свое на уме… Из тысячи мужчин можно разыскать десять, от силы пятнадцать, я так думаю, умных. А что касается женщин, то я вам по совести скажу, ну положительно, ни одной! Да?
Он испытующе поглядел на Матийцева, но так как тот молчал, продолжал оживленно:
– Вот, например, я только еще сегодня утром клетку другую для своих двух канареек должен был доставать. Канарейка моя снесла четыре яичка и уж, знаете, хотела на них усесться, насиживать. А кенарю это, видать, не очень-то понравилось. Улучил он, бестия, минуту, когда села самочка у кормушки клевать конопляные зерна, а потом еще должна она была и водицы из баночки напиться, да? Подобрался тут мой кенарь к гнезду и ну себе быстренько-быстренько так яички подклевывать и вон их из гнезда выкидывать. И что же вы думаете потом сделал, да? Уселся он в пустое гнездо и ну себе петь! Да ведь как залился, бестия, – я даже и не слышал, чтобы он когда звонко так пел! Как увидела это канареечка, как кинулась на него в драку, боже ж ты мой! Так желтенькие перышки и летят, и летят!.. Ну, думаю, убьет еще она, самочка эта, кенаря, и кто же тогда петь будет, да? Скорей пошел другую клетку доставать, да? Отсадил его в другую клетку, а то бы ведь заклевала насмерть, – вот она, маленькая птичка эта, в какую большую ярость пришла, да?.. Так это же всего только птичка, а вы хотели, чтобы женщина не разъярилась, раз ее потомства будущего лишают, да?
Матийцев ни одним словом не отозвался на историю о канарейках, и Наровлянский замолчал на время.
Унылый осенний степной пейзаж сопровождал бричку. Скупая, безводная, рыжая равнина, и кое-где на ней маячили убогие хуторки. Ощутительно было для Матийцева, что за целое тысячелетие жизнь тут ни на вершок не двинулась с места. Того и жди, что появятся откуда-нибудь конной шайкой печенеги ли, хазары или еще какие-нибудь берендеи, оттяпают так себе, здорово живешь, тебе голову и сделают из твоего черепа черпак для кумыса за неимением гончарной посуды!
Вдруг и в самом деле, – это было уж ближе к станции, чем к руднику, – увидел Матийцев вдали что-то темное, широкое и не стоящее на месте. Что это было такое, мешало разглядеть солнце, начавшее опускаться к горизонту.
Однако Наровлянский, приставив лодочкой руку к глазам, крикнул:
– Ага! Гусары, да?.. Это эскадрон гусар, да? – И у него так и засияли глаза от удовольствия. – Я ведь и сам, – вы не знаете этого, да? – служил в гусарском полку, только это у себя там, в Могилевской губернии… Без пяти минут вахмистр был!
Как раз в это время не только его глаза, но и там, в этой дали, над темной массой гусар заблестели какие-то зигзаги, и весь эскадрон двинулся весьма заметно в сторону заходящего солнца.
– Эс-с-кадрон, в ат-та-аку! – прокричал совершенно как бы вне себя Наровлянский, и пока чалая лошадка с надрезанным ухом бежала себе своей размеренной рысцой, он неотрывно, самозабвенно даже глядел в сторону эскадрона, мчавшегося в атаку.
– Эх ты-ы!.. Все разнесут в пух, в прах и вдребезги! – восторженно обратился он к Матийцеву, забыв даже прибавить свое «да»?
Но тут кучер обернул к нему бородатое запыленное лицо и сказал неожиданно:
– А как если пехота даст по ним за-лоп? Вот и повернут они тогда хвосты!
– Ну еще бы не повернут тогда хвосты, – еще более неожиданно для Матийцева сразу согласился с ним Наровлянский, но не перестал сиять и добавил вдохновенно:
– А после атаки тут уж шагом и с песнями!.. Ах, нравились мне как гусарские песни!
И видимо, от избытка охвативших его чувств запел он громко:
Е-едут гусары, брен-чат мунд-шту-ка-ми,
Ло-ша-ди рву-утся, хра-пя-ят…
Ба-арышни, ба-арыньки с кри-иком отча-аянья
Всле-ед ухо-дя-щим гля-дя-ят!
И тут же с одушевлением:
– А вы думаете, не глядели так? Глядели! Глядели с отчаяньем, – да?.. Эх, жен-щи-ны!.. Это ж, я вам доложу, их не то что хлебом, их и шоколадом не корми, а только гусара им дай!.. Спят и только одних гусар во сне и видят, да?..
Матийцев вспомнил корнета кирасирского полка в саду при доме родителей Лили, представил его, как идет он под руку с Лилей, и ответил непроизвольно:
– Вполне возможно.
Но тут же добавил:
– А живется им, этим гусарам, должно быть, получше, чем нашим шахтерам, а?
– Ну еще бы, еще бы гусарам чтоб плохо жилось! – подхватил Наровлянский. – Гусары не то что пехота даже, – они довольствие хорошее получают, – как же, да?
– И спят, небось, не на полу вповалку?
– Как же можно, чтобы гусары и вдруг – на полу! У каждого койка своя, белье чистое на ней, да и в казарме везде чистота, а как же! За чем же следят дежурные, дневальные, взводные, вахмистры, эскадронные командиры, да и сам командир полка тоже, да?
– Из этого вытекает что же? Что гусары нужнее правительству, чем какие-то там шахтеры? – спросил Матийцев.
– Ну, а как же иначе вы бы думали? В случае войны, например, да?
– Или, допустим, беспорядков?
– Совершенно верно, – вот. Также и беспорядков, да? Кто же из двух будет защищать правительство: шахтеры или же гусары, да?
– Да-а, – протянул Матийцев. – Я полагаю, что гусары от шахтеров скорее, чем шахтеры от гусаров!
Это почему-то показалось забавным Наровлянскому, и он захихикал, повторяя:
– Шахтеры от гусаров!.. Шахтеры от гусаров, да?.. – и крутил головой.
Когда же отхихикался, то сказал как-то преувеличенно для себя серьезно:
– Шахтеров нужно держать в руках так! (Он протянул вперед руки, сжатые в кулаки.) Как хороший кучер вожжи свои держит… да?.. Иначе они, эти наши шахтеры, вот куда нам сядут!
И он нагнул голову и похлопал себя по шее.
Странным показался Матийцеву его переход от беспечной и беспричинной, пьяноватой веселости к такой серьезности, но еще страннее для него прозвучал вопрос Наровлянского:
– Где же вы думаете найти себе новое место теперь? Допустим, вот вы приехали в Ростов, остановились там в гостинице, а дальше как, да?
– В Ростове, я вам сказал уж, правление рудничное…
– Э-э, правление, правление! Это не дело!.. В Ростове правление, в Харькове правление, в Екатеринославе правление, – а надо иметь одно: заручку, да?.. Там правление, здесь правление, а где же место? Вы думаете, что правления не будут справляться у нашего же шефа Безотчетова? А вот эти проволоки зачем, да? – показал он кивком головы на линию телеграфа. – Вы приедете в Ростов, а там уж вас знают; вы – в Харьков, а там уж все про вас известно; вы в Екатеринослав, а там… да?
И он выпятил губы и развел руками в знак полнейшей безнадежности положения своего соседа.
Но в это время они подъезжали уж к станции, откуда слышно стало, как сторож бьет в колокольчик повестку подходящему поезду.
– Это моему поезду, моему, да? – забеспокоился Наровлянский и так заерзал, что в бричке сразу стало очень тесно. Матийцеву показалось, что он хотел выпрыгнуть и бежать к станционному домику, – каменному, покрашенному по штукатурке охрой и с белыми разводами около окошек.
А в голове Матийцева завертелись слова его о правлениях в Ростове и других городах, где могли бы дать ему снова место заведующего шахтой, – какой-нибудь, безразлично. Вот, в самом деле, он придет в правление и что именно скажет? Если скажет, что «Наклонную Елену» покинул по собственному желанию, разве не спросят, откуда у него взялось это желание? И разве, в самом деле, не будут справляться у Безотчетова, что он за инженер и за что уволен?
Тут же, впрочем, приходили мысли, что, может быть, это и к лучшему. Его не назначат никуда заведующим, и он станет искать себе места какого-нибудь, хотя бы в ростовской городской управе или думе… Может быть, наконец, и репетитором: давать уроки, готовить к экзаменам на аттестат зрелости… «Ростов – большой портовый город, – думал он, – как же можно в нем не найти себе работы?»
Поезд еще только гудел вдалеке, когда он вместе с Наровлянским вышел из брички и внес свои чемоданы в небольшой, но густо набитый людьми зал станции.
«Пустяки! – продолжал бодро думать он о своем. – Только бы суметь продержаться две-три недели, а продержаться с теми даже деньгами, какие у него, вполне можно. Говорил же Коля Худолей, что для него и пять рублей большие деньги».
Вспомнив Колю Худолея, Матийцев даже улыбнулся, так его подбодрила энергия этого бывшего гимназиста, совсем почти еще мальчика… «Где-то он теперь?» – подумал он и непроизвольно как-то стал разглядывать всех, кто толпился тут в ожидании поезда, – а вдруг увидит Колю!
Коли Худолея не встретили глаза Матийцева, но среди совершенно незнакомых лиц мелькнуло на миг и заслонилось тут же другими какое-то тоже как будто знакомое ему, недавно где-то виденное лицо. Показалось даже ему, что лицо это намеренно отвернулось, чуть только он на него глянул.
Еще пытался он припомнить и догадаться, кто бы это мог быть, как Наровлянский потащил его за локоть к кассе брать билет, частя при этом:
– Знаете, что я вам скажу, господин Матийцев, да? Вы оставьте-ка свой этот Ростов и поедемте лучше всего со мною вместе в Харьков, да?
– Нет, нет, зачем же мне Харьков? – решительно воспротивился Матийцев, освобождая свой локоть. – В Харькове я совершенно никого не знаю, а Ростов – это другое дело…
Впрочем, Наровлянский и не настаивал: он спешил к билетной кассе.
А не больше как через десять минут он уже раскланивался с ним, стоя на подножке вагона. Тут же после того, как тронулся поезд, Матийцев в толпе на перроне заметил опять то же самое знакомое лицо, которое теперь уж хотя тоже отвернулось, однако не сразу, что позволило припомнить его: видел совсем недавно в городе, где его судили и оправдали. Это был тот самый околоточный надзиратель, с которым имел он неприятный разговор по поводу пьяного на улице. Он был притом в той же своей полицейской форме, так что смешать его с кем-либо другим было нельзя. Непонятным несколько показалось Матийцеву только то, что он оказался здесь, на станции, но, конечно, мало ли куда могли его послать по тем или иным служебным делам.
Впрочем, он тут же ушел куда-то, чуть только покатились один за другим вагоны. Матийцеву показалось, что он с этим поездом ждал кого-то, вернее всего – свое начальство, и вот, обманувшись в ожиданиях, ушел с досадой.
На перроне после отхода поезда опустело, почему и сам Матийцев вошел в станционный зал посмотреть на свои чемоданы.
Чемоданы, оставленные им под присмотр какой-то старушки, собиравшейся ехать в направлении на Ростов, были в целости, но околоточный, стоявший в выходных дверях рядом с массивным, бородатым, немолодым уже станционным жандармом, как будто никуда не думал уходить. Матийцев догадался, конечно, что он остался теперь ожидать поезда на Ростов, так как этот поезд доставит его обратно в свой город. Должно быть, он плохо спал перед тем ночью, потому что теперь, говоря с жандармом, широко, ожесточенно зевал, прикрывая, приличия ради, рукою рот.
Матийцев прошелся раза два по залу, где уже становилось слегка сумеречно, потом сел на скамейку около своих чемоданов, и тут, как ни странно было это ему видеть, к нему прямо от дверей бодрой деловой походкой подошел околоточный, остановившись, составил каблуки вместе, взял под козырек и спросил самым вежливым тоном:
– Опять к нам едете, господин Матийцев, или дальше?
– А вы откуда знаете мою фамилию? – удивился Матийцев.
– Да вы же сами мне ее и сказали дней сколько же… пять, что ли, тому назад! – удивился в свою очередь и околоточный его забывчивости.
Только теперь припомнил Матийцев, что действительно сказал, хоть и не тогда, когда городовой тащил пьяного за ноги и вниз головой.
– Да, сказал… Однако вы ведь могли и забыть?
– Недели через три, пожалуй, забыл бы, – весело ответил околоточный. – У меня память так себе, не особенная, хотя пять дней каких-нибудь всего – это, я думаю, и всякий бы помнил… Нам, по нашей службе, память, конечно, нужна и даже есть такая наука, я слышал – память чтоб развивать.
– За-чем вам эта мнемоника, – махнул рукой Матийцев, – когда у вас вон на поясе револьвер, а через плечо шашка, как у гусара!
Околоточный счел нужным принять это за милую шутку, осклабился, снова взял под козырек и сказал:
– Присесть разрешите?
– Ну вот уж и «разрешите»! – недовольно буркнул Матийцев. – Как будто и без разрешения вы не могли бы сесть!
– Сессия окружного суда ведь кончилась уж, – вкрадчиво начал околоточный садясь, – значит, у нас там какое-нибудь другое вам подошло дело?
– Почему же вы думаете, что я к вам туда еду? – раздраженно уже заметил Матийцев.
– Ах, не к нам! Стало быть, дальше вы… Может быть, даже в Ростов? – откровенно старался догадаться околоточный, как бы не замечая его тона.
– Вот именно, в Ростов.
– Через полчаса билеты начнут выдавать, – осведомил его околоточный, зачем-то вытаскивая при этом черные часы из бокового кармана и сверяя их со станционными, висевшими на стене.
– А вы-то сюда зачем же попали? – спросил его Матийцев, чтобы спросить что-нибудь. – Ждали кого-нибудь, что ли?
Околоточный сделал вид, что удивился такому вопросу.
– Если бы кого я ждал, то и у себя бы мог дождаться, – усмехнулся он. – Нет, это я тут у тетки своей был. Не моя хотя тетка, а жены моей, ну да все равно, называю ее так: тетка… Домик у нее тут, а так же садик есть, ничего живут… Вот день выдался от службы свободный, а с другой стороны, жена просила съездить… Прогостевал у тетки денек, а теперь, значит, обратно.
Станционного жандарма в дверях теперь уже не было, но Матийцев заметил, как через эти двери вошел какой-то худощавый низенький человечек в кепке с пуговкой наверху, остановился около дверей и упорно смотрит только в одну сторону – на них двоих, сидящих рядом.
– Вот и тесть мой пришел меня проведать! – очень весело сказал тут околоточный. – Извините! – прибавил, дернув руку к козырьку, и пошел к нему.
Обняв его рукой за плечи совсем по-семейному, он вышел с ним на перрон, и Матийцев сразу успокоился, а то было уж ему несколько не по себе.
И почему-то тут же заработала мысль: «А зачем, собственно, ехать в Ростов?.. Не лучше ли в Петербург, к матери и сестре? Прожить бы там недели две-три, отдохнуть от всего, что пришлось пережить, может быть даже и попадется там какое-нибудь место… Пожалуй, что лучше будет сделать именно так, потому что денег у него очень мало. Проживет он их в Ростове, и что же дальше? Где и у кого там можно достать денег?»
Думая так теперь уже в направлении Петербурга, а не Ростова, Матийцев даже подивился на самого себя, почему такая трезвая, такая счастливая мысль не пришла ему в голову раньше. Правда, был все время какой-то стыд в душе явиться вдруг к матери и сестре выброшенным из жизни, но этот стыд он теперь счел совершенно детским. Если даже считать, что он действительно выброшен, то ведь только с должности заведующего шахтой, а совсем не из жизни, и это временно, конечно, и ничего тут особенного нет…
На поезд, идущий в сторону Ростова, отсюда садилось немного, – человек пять-шесть, как определил Матийцев, когда они потянулись гуськом брать билеты. Но он не поднялся с места, так как переменил уже очень твердо решение ехать в Ростов.
Однако возле него вдруг возник снова околоточный.
– Касса открыта, – сказал он.
– Да, я вижу, что открыта… Успею, – отозвался Матийцев.
– И даже я вам не советую здесь брать билет, господин Матийцев, – вкрадчиво продолжал околоточный. – Зрящая потеря денег, хотя деньги, конечно, небольшие. Ведь обер-кондуктор мне знакомый: до города он вас и бесплатно довезет, а там, конечно, возьмете… Все-таки вам экономия будет.
Так как Матийцев вскинул на него не только оторопелый, но даже и обиженный взгляд, он тут же добавил:
– Впрочем, это я ведь только так, – ваши интересы соблюдаю, а там как хотите, конечно: если имеете свободные деньги, отчего же не дать казне дохода?
– Я совсем передумал ехать в Ростов, – тщательно выбирая слова, сказал Матийцев. – Я решил ехать не в Ростов, а… – тут он запнулся несколько, но твердо добавил: – в Харьков.
– Что так вдруг? – сделал явно непонимающие глаза околоточный. – Ростов – там, Харьков – там! (Он показал рукой в разные стороны.) Кроме того, ведь поезд на Харьков когда же теперь сюда придет? Только ночью!
– Ничего, дождусь, – и, сказав это, Матийцев оглянулся почему-то назад и увидел тестя околоточного, стоявшего как раз за его скамьею.
– В Харьков, оказывается, хотят ехать, – обратился вдруг околоточный к своему тестю, как будто тому очень нужно было это знать.
Тогда именно и случилось то, чего смутно еще, но все же почему-то ожидал Матийцев: «тесть» околоточного из-за высокой спинки скамьи выступил, стал перед ним рядом со своим рослым «зятем» и сказал сухим трескучим голосом, который можно было предположить у него и так по его впалым щекам и мелким морщинкам на загорелом лице:
– Ну что там уж выдумывать еще какой-то Харьков! Умный человек, а выдумывает!
– То есть как это? – тихо спросил Матийцев и поднялся, чтобы уйти от этих двух, назойливо так к нему приставших, и сделал было уж два-три шага по направлению к двери, ведущей на перрон, но околоточный ринулся туда тоже, причем гораздо раньше его очутился около двери, и сказал полушепотом:
– Нет уж, вы теперь не делайте скандала, прошу!
– Я что же это, – арестован вами, что ли? – в тон ему тихо спросил Матийцев.
– Ну, а как же еще? Разумеется! – ответил околоточный, став спиною к двери.
«Тесть» его вырос рядом с ним, глядел жестко и непреклонно, причем правую руку держал почему-то в оттопыренном кармане пиджака, – серого, в клетку.
«Агент охранки», – догадался наконец Матийцев и вспомнил телеграфные провода, на которые указывал Наровлянский. Вместе с тем ему вспомнились и слова Коли Худолея: «Нет уж, с инженерством все теперь у вас должно быть кончено!»
И было вот что в нем теперь, несколько странное даже для него самого: он почувствовал вдруг, как слетела с него какая-то вязкая последняя тяжесть, вроде крупной чешуи большой рыбы, и как большая бодрость и вера в нового себя охватила его всего и заставила выпрямиться, развернуть плечи и даже улыбнуться, и, глядя с этой новой для него улыбкой на высмоктанного, но весьма непреклонного агента охранки, он сказал ему отчетливо и с выражением:
– «Умный человек, а выдумывает», – это у тебя не плохо вышло, да!
1958 г.
Комментарии
Над эпопеей «Преображение России» С. Н. Сергеев-Ценский работал много лет. Замысел ее родился у писателя вскоре после Великой Октябрьской социалистической революции. Вот как об истоках эпопеи рассказывает сам автор в предисловии к роману «Валя» («Преображение». Роман в 8-ми частях. Часть 1. Валя. Симферополь, Крымиздат, 1923):
«Роман „Преображение“[6] я начал писать в 1913 г., а в 1914 он начал было печататься в ежемесячном журнале „Северные записки“.
Мировая война прервала его печатание на шестой книжке журнала, а начавшаяся в России революция показала мне, что преображение жизни русской, чаемое мною и нашедшее было для своего художественного воплощения образы чисто интимные, разлилось слишком широко, – и для меня, зрителя совершившихся событий, представилась ясная возможность раздвинуть былые рамки романа, чтобы посильно отразить происшедшее. И первые части посвящены зарисовке довоенных переживаний, средние – войне, последние – революции.
С. Сергеев-Ценский.
Крым, Алушта.
6 февраля, 1923 года».
С течением времени эпопея ширилась и разрасталась. Действие последних ее частей – «Искать, всегда искать!» и «Свидание» – относится уже к периоду социалистического строительства. В последнем прижизненном собрании сочинений С. Н. Сергеева-Ценского, выпущенном издательством «Художественная литература» в 1955–1956 гг., эпопея носит название «Преображение России».
Смерть прервала работу С. Н. Сергеева-Ценского над эпопеей. Остались незавершенными «Весна в Крыму» и «Свидание». Не написаны страницы, посвященные приезду В. И. Ленина в 1917 году из-за границы в Россию, посвященные Великому Октябрю. Только действие первой части романа «Искать, всегда искать!» – «Памяти сердца» – происходит в период гражданской войны.
«Преображение России», за исключением повести «Львы и солнце» и романа «Искать, всегда искать!», печатающихся по тексту десятитомника, печатается по четырехтомному изданию эпопеи, выпущенному в Симферополе Крымиздатом в 1956–1959 гг., с проверкой по предыдущим публикациям. Части эпопеи расположены в порядке, принятом в указанном издании.
Валя*
Эта первая часть эпопеи несколько раз выходила при жизни автора отдельными изданиями и включалась в однотомники и двухтомники. Впервые С. Н. Сергеев-Ценский дал «Вале» подзаголовок «Поэма» в Избранном («Советский писатель», Москва, 1941). С тем же подзаголовком «Валя» вошла в седьмой том последнего прижизненного собрания сочинений С. Н. Сергеева-Ценского (изд. «Художественная литература», 1955). В собрании сочинений впервые введены автором порядковые номера глав, на которые делится поэма. Датируется по этому изданию.
Обреченные на гибель*
Роман написан в 1923 году, Читатель сначала познакомился с главой из этого романа «Море», которая была напечатана в журнале «Новый мир» № 1 за 1926 год с подзаголовком «Из романа „Преображение“». Эта же глава с подзаголовком «Этюд» вошла в восьмой том собрания сочинений С. Н. Сергеева-Ценского, изд. «Мысль», Ленинград, 1928. В 1927 году «Обреченные на гибель» были напечатаны в журнале «Красная новь» №№ 8, 9, 10, И и 12 без глав, связывающих этот роман с «Валей». В журнальном тексте всего сорок семь глав, главы обозначены римскими цифрами В 1929 году «Московское товарищество писателей» выпустило отдельными изданиями «Валю» и «Обреченных». На титульном листе «Обреченных» стоит: «С. Н. Сергеев-Ценский. Преображение. Эпопея. Кн. II „Обреченные на гибель“. Роман». В предисловии к названному изданию С. Н. Сергеев-Ценский писал:
ОТ АВТОРА
Роман «Обреченные на гибель» является второю частью эпопеи «Преображение», первая часть которой – роман «Валя» – вышла 3-м изданием. Три первые части эпопеи посвящены довоенным настроениям и переживаниям русского общества в различных его слоях; три следующие части изображают разгром этого общества в период мировой войны; остальные четыре тома отведены революции, гражданской войне и началу строительства новой социалистической жизни.
Огромное полотно это, изображающее на фоне активных, проснувшихся к самостоятельной жизни масс свыше пятисот резко очерченных действующих лиц, разделяется мною, таким образом, на десять почти совершенно самостоятельных романов, в которых только последние главы служат для связи частей в одно целое, как это сделано в настоящей книге.
С. Сергеев-Ценский
Москва. 25 июля 1929 г.
В издании «Московского товарищества писателей» главы в романе лишены порядковых номеров, но зато каждая имеет свое название. Журнальный текст кончался главой, которая в этом издании носит название «Тревога». В отдельном издании за «Тревогой» следуют главы: «Чистилище», «Федор Макухин», «Брак законный», «Брак незаконный», «Последняя встреча». Роман датирован в этом издании: «Крым, Алушта, 1923 г.».
В седьмом томе последнего прижизненного десятитомного собрания своих сочинений («Художественная литература», 1955) С. Н. Сергеев-Ценский напечатал «Обреченных на гибель» в переработанном виде. Помимо многочисленных исправлений, касающихся стилистических частностей, и уточнений отдельных формулировок, писатель создал новый вариант описания третьей части сыромолотовского триптиха, присоединил к роману главу «Море», которая первоначально мыслилась, по-видимому, автором как глава из тогда еще не написанной третьей книги «Преображения», и еще шесть глав, написанных им в 1944 году. Роман датируется по десятитомнику.
Преображение человека*
Первые главы романа «Наклонная Елена», который тогда назывался «Инженер Матиец», были напечатаны в журнале «Русская мысль», кн. I, II и III за 1914 год. В дальнейшем роман «Наклонная Елена» входил в собрания сочинений С. Н. Сергеева-Ценского, в частности – в седьмой том собрания его сочинений изд. «Мысль» (Ленинград, 1928), где роман датирован: «1913 г.», а также в двухтомники и однотомники. В 1954 году С. Н. Сергеев-Ценский написал продолжение «Наклонной Елены» под названием «Суд», а в 1955 году в Крымиздате выпустил оба эти произведения под общим названием «Преображение человека». В этом издании изменена фамилия главного героя: он уже не Матиец, а Матийцев. В 1956 году С. Н. Сергеев-Ценский в десятитомном собрании своих сочинений ввел «Преображение человека» в эпопею «Преображение России» (том десятый, изд. «Художественная литература», 1956). Датируется по десятитомнику.
H. M. Любимов
Примечания
(1) Холодный кофе! Холодный кофе! (нем.).
(2) До востребования (франц.).
(3) Город этот – Симферополь. (Прим. автора.)
(4) Бора или борей – северный ветер. (Прим. автора.)
(5) Тут в смысле – наперекор, чтобы сорвать банк (фр.).
(6) Автор имеет в виду роман «Валя», ставший первой частью эпопеи.
